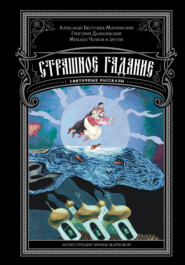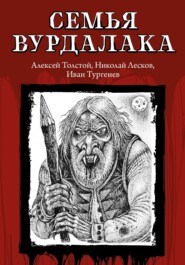По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изменник
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр Александрович Бестужев-Марлинский
«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?»
Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостию озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обителей…»
Александр Александрович Бестужев-Марлинский
Изменник[1 - Изменник (Повесть). Впервые – в альманахе «Полярная звезда», 1825 год, за подписью: А. Бестужев.]
(Повесть)
…Never pray more; abandon all remorse;
On horrors head horrors accumulate:
Do deeds to make heav'n weep, all earth amaz'd
For nothing canst thou to damnation add,
Greater than that.[2 - Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Отелло» (1604).] [3 - …Больше не молись; отбрось все угрызения совести; на голову ужасов нагромозди еще ужасы: пусть твои поступки заставят рыдать небо и изумляться всю землю, ибо ничто другое не приведет тебя скорее к проклятью, чем это. Шекспир (англ.).]
Shakespeare
I
«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?»
Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостию озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обителей. Правда, они не казались теперь ему, как прежде, огромными; окрестность не была уже бесконечна; но она была по-прежнему светла, все по-старому приветна. Он выехал, наконец, на озеро Плещево и стал, пораженный красотою природы, чувствами давно забытыми и новыми.
Тихо, как сон его детства, лежало перед ним озеро в изумрудных рамах своих, отражая вечернее небо, и снежные стены обителей, и сумрачный город, и чуть оперенные майскою зеленью рощи. Ладьи рыбарей, мнилось, летели в шаровидном небе, и утомленные чайки дремали на развешенных сетях или, чуть зыблемые, на влаге хрустальной. Весенние жаворонки провожали солнце с поднебесья и сверкали там последними его лучами, сливая звонкое свое пение с гремленьем тысячи ручьев, збегающих в озеро.
Как пыль сражения улегается под дождем, смывающим кровь с лица земли, улеглись страсти в душе Владимира. Память буйной молодости, дворское честолюбие, жажда битвы и славы и все, все уступило место чувству, близкому к раскаянию. Он слез с коня, припал к воде, которою часто плескался в отрочестве, в которой теперь, как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее, жадно пил ее, – и спокойствие вливалось в него струей вместе с прохладой! Со вздохом сказал Владимир:
– Они не терпят нечистого в своем лоне и с гневом выбрасывают его на берег[4 - Доселе идет поверье, что Плещево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно. (Примеч. автора.)]. Пусть же берега твои сохранят меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар![5 - Жители Переславля, большею частию рыболовы, спасались, во время неоднократного нашествия татар, на лодках, выезжая с лучшим имуществом на средину озера. (Примеч. автора.)]
Полный надеждою взор Владимира стремился к стенам Переславля. Там уже не было его родителей; но добрая память стерегла их могилы и сердечное добро пожаловать ждало их наследника у порогов друзей. Долго еще лежал Владимир на свежей мураве, улелеянный мечтами под крылом родимого, неба, и сон росою упал на утомленные члены путника – сон, какого давно не знала кипучая душа его.
II
Лениво подымалися, утренние туманы с тихого Трубежа[6 - На реке Трубеже, впадающей в Плещево, расположен Переславль-Залесский. (Примеч. автора.)], и летнее солнце невидимо вскатывалось над ними. На валу Переславля часовой ратник, опершись на копье, глядел на работу плотника, поправлявшего деревянный сруб крепостной стены.
– Это бревно никуда не годится, – сказал он плотнику, – в нем сгнила сердцевина.
– Так-то и с нашею Русью, Петрович, – ответствовал плотник, вонзая топор носком в дерево и присев на венец, – Москва, сердце ее, испорчено, а мы терпим. Она кличет к себе из Польши царей[7 - …кличет к себе из Польши царей… – Московские бояре предательски заключили соглашение об избрании Владислава, сына польского короля Сигизмунда III, на русский престол. В результате этого польские интервенты были тайно введены в Москву в ночь с 20 на 21 сентября 1610 г.], а мы подавай войско то за них, то против них драться! Поляки пируют в Москве; вор Сапега обложил Троицу[8 - …вор Сапега обложил Троицу… – Один из военачальников в войске Лжедмитрия II, Сапега Ян Петр (1569—1611), в сентябре 1608 г. начал осаду Троице-Сергиева монастыря, являвшегося сильной крепостью на северо-востоке от Москвы. Обороняли монастырь небольшой гарнизон, монахи, крестьяне и посадские. Осада была снята только в январе 1610 г. хотя многие города еще осенью 1608 г. перешли на сторону Лжедмитрия II.], а от нее далеко ли и до нас! Прогневали мы господа неправдой; коротается наш век бедами; кто скажет, что мое добро, моя голова будут у меня завтра?.. В плохие мы живем годы, Петрович; за царя Бориса[9 - …за царя Бориса… – Борис Годунов (ок. 1551—1605), русский царь.] не так было.
– Нашел чем хвалиться! Нашему брату ратнику не удалось при нем разу сходить на добычу. Теперь иное дело; дай только дождаться сюда литовцев; мы порастрясем их карманы.
– Какие у польской голытьбы карманы, когда у ней надеть нечего.
– Зато много грабленого золота. Бездельникам этим надо на нос зарубить, чтобы они не грабили божиих храмов, не обдирали бы риз со святых икон.
– Такое добро, земляк, никому впрок не пойдет.
– Кто живет день до вечера, тому какая забота, скоро ль подрастут рога у молодого месяца. Мне только душно сидеть сиднем за стенами, когда самые монахи дерутся. Я очень завидую товарищам, которые идут с нашим воеводою на подмогу к Троице.[10 - Воевода переславский Иван Васильевич Волынский был с своею дружиною для помоги Троицкой лавре в 1609 году. См. сказание об осаде Тр. – Серг. лавры, стр. 221. (Примеч. автора.)]
– Кто же здесь останется воеводой?
– Кому быть, кроме старшего князя Ситцкого… Ему, кажись, на роду написано повелевать, – что твой орел, когда взглянет!
– Правда, земляк, правда. Ростом, и дородством, и поступью – всем взял. Я сам нехотя хватаюсь за шапку, когда с ним встречаюсь. Одно беда: про него ходят недобрые слухи. Зачем он братался с поляками? Зачем не видали его в рядах Шуйского[11 - Шуйский – Скопин-Шуйский М. В. (1586—1610), князь, военачальник, успешно боровшийся с польскими интервентами.]? Худо, коли он не хотел заступиться за правое дело, а еще хуже, коли его в дело не приняли.
– Брат, не всякому слуху верь! Теперь и правда и клевета изверились пуще жидовского золота.
– Пусть оно так. Да ведь на наших-то глазах он даром живет здесь три года! Что делать удалому в глуши, когда Москва в плену, а святая Русь у погибели от самозваных царей и друзей незваных; когда измена и разбой рыщут из края в край; когда враги палят нивы и города, бесславят братьев и жен – навек позорят имя русское?
– Ты разве не слыхал, что ему больно полюбилась Елена Ивановна, дочь воеводы?
– Да он-то пришел ли ей по нраву? Княжой дворецкий проговаривает, что барин в такую смуту не станет играть свадьбы, а уж коли быть не быть сговору, так разве с князь Михаилом, меньшим братом Ситцкого. Вот душа – можно сказать, что ангельская. Красив, как утренняя звездочка, и от брата, как небо от земли, отличен. Кроток, сердце на устах, и ко всем приветлив, зато и любим всеми, от бояр до простолюдинов. В черный год не сидел он за печкой, а бился и проливал кровь за царя, и коли призван сюда, не ластится к красавицам, а смышляет, как защитить наш родимый Переславль. Дай-то бог, чтобы князь Михаила оставили у нас засадным воеводою![12 - …засадным воеводою… – начальником войск.]
Так судили о двух Ситцких многие умные горожане; но если Михаил привлекал к себе любовь добротою души, а уважение – своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир исторгал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. Взоры Владимира, облеченные в какую-то вещественность, ничтожили равно и улыбку любви, и привет участия, и вопрос любопытства. Они не проникали, но пронзали душу. Он не бегал людей, но удалял их от себя. В хороводах с красавицами очи его, подобно кремню, сыпали искры и не загорались сами. Даже вино теряло над ним свою силу: ни лишнего слова, ни доверчивой ласки не вырывалось из неизменной груди Владимира. Правда, порой и его лицо разгоралось заревом душевного пожара, но это не были страсти людей; они неведомы были тем, кто замечал их, как образ заоблачной молнии, от которой виден блеск и не слышно грома.
Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так высоко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно, что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то или то ему показалось. Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенного загадкою.
III
Душная ночь налегла на холмы переславские; небо слилось в громовую тучу; смирно озеро в берегах своих. Изредка луч безмолвной зарницы вспыхивает и гаснет в темной глубине вод, обозначая в небосклоне главы церквей и башни города. При синих блестках ее видны тяжелые облака, без
Но кто же тот юноша, что в бурю и полночь не ищет, а бежит крова? Взоры его с яростью обращаются к Переславлю, лицо пылает гневом и злобой. От быстрого хода черные кудри путника развеваются и длинные в серебряной оправе пистолеты, за пояс заткнутые, гремят о рукоять меча. Для чего ж не спит он, когда все живое наслаждается покоем? Неужели грызения совести о прежнем злодействе или покушенье на новое подняло его с ложа?.. Но вот уже он, бросив прибрежную тропинку, далеко в бору дремучем. Привычной стопой пробегает поляны – и глубже в лес, и лес от часу диче и чаще. Сухие иглы хрустят под ногами; иссохшие ветви цепляются в волосы; тлеющие пни заграждают путь; но путник с сердцем ломает и рвет упрямые сучья, смело прыгает через рогатые трупы сосен, и все уступает дерзкому, и он близок уже к заповедному холму.
Там, повествовало суеверное предание, более века тому назад убит был молниею колдун, когда он с помощию ада вынимал заговоренный клад. Без веры изжил он век, без раскаянья сгиб, без молитвы погребли его, но земля с ужасом приняла в свои недра неотпетого грешника; с тех пор адские духи стали слетаться пад могилой их любимца. Каждую полночь, по словам удалых охотников, слышны там плеск крыл, хохот и свисты. Синие огоньки летают по воздуху, мелькают ужасные привидения, и волшебник с кровавыми устами бродит кругом и манит заблудшего путника. У смельчаков навертывались холодные слезы от ужаса, на посиделках, от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем скрыпе окошицы, при нечаянном треске лучины, и дети с трепетом жались к груди матерей. Давно заглохла тропа на холм могильный, и ни топор дровосека, ни стрела звероловца, ни взор, ни ветер не проникали в эту дебрь, загражденную страхом.
И вот уже проник он до поляны, венчающей холм; уже занес ногу, чтобы ступить на нее, когда долетел до него благовест, зовущий монахов ко всенощной. Холодный пот проступил на челе отчаянного: медь прозвучала ему совестью. Он вспомнил, как радостен был для него благовест Христовой заутрени в подобный час полуночи… Все прежнее обновилось: беспечность прежней невинности и вера отцов, теплая вера юности, теперь им забытая. Тогда душа его была как голубь – теперь стала чернее ворона… Но мимолетны благие мысли в сердцах, закаленных в буйстве и гордости, в сердцах, вечно укоряющих судьбу, а не себя – и мщение, ненависть, ревность закипели вновь сильней прежнего.
– Нет, не мне ворочаться! – вскричал Владимир, ступая на поляну. – Тому ли страшиться ада, у кого ад в душе?
При озарении молний он видит обрушенный и мохом покрытый крест; на траве, будто истоптанной палящими стопами, лежал чей-то череп. Где-где между седых полуистлевших елей трепетала робкая осина – дерево казни предателя.