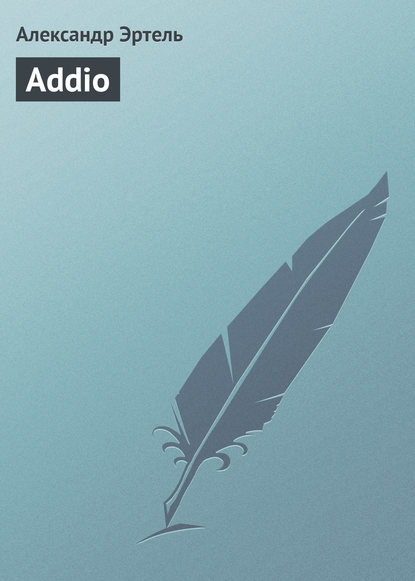По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Addio
Год написания книги
1882
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семен пришел ко мне и сообщил, что солдатик, идущий на побывку, просится ночевать. Я, конечно, позволил.
Быстро смеркается. Вьюга гудит не уставая. Тетка задумчиво берет аккорды… Скука незаметно подкрадывается и тягучей сетью охватывает комнаты. Семена снова нет в передней. Я одеваюсь и пробираюсь в людскую. Там по-прежнему синей тучей ходит дым и мои домочадцы окружают стол. Лица их изображают жадное внимание. В почетном углу сидит солдатик. Синий мундир небрежно накинут на его плечи, рыжие усы значительно топорщатся, из коротенькой трубочки вьется тонкая струйка дыма. На столе лежит номер «Руси», захватанный пальцами.
При моем входе происходит легкое волнение. «Русь» исчезает. Солдатик вытягивается и почтительно приветствует меня «благородием».
– Откуда ты? – спрашиваю я.
– Из Санктпетербурга, ваше благородие!
– Там и служил?
– Точно так, ваше благородие.
– На побывку идешь?
– Точно так, ваше благородие.
– Куда же?
– В Тамлык, ваше благородие.
– В каком полку служил?
– В жандармском дивизионе.
Я уговариваю всех садиться и сажусь сам. Мне почему-то необыкновенно хочется говорить с ними и узнать откровенные их помыслы. Но вместе с тем мне скучно и неловко, и явственно вижу я, что домочадцы мои изображают в своих лицах тонкую таинственность. За что? – Я ли не любил их, я ли не болел их болезнями и не скорбел бездольем, отравляющим их существование… В чем моя вина? В том ли, что на мне сюртук, а на них посконная рубаха, и не верю я в батюшку Царь-град, и не молюсь матушке великой пятнице? Но ведь я знаю, что я нужен им, что без меня, без моих познаний сеть бестолковейших недоразумений готова опутать их до конца… А между тем эти недоразумения любы им, и явным недоверием встречают они мои попытки поговорить с ними по душе. Прежде я легко относился к этому, но после той передряги, которую довелось мне испытать прошлой ночью, во мне ожила и настойчиво заговорила почва. В фигурах домочадцев, знакомых мне до приторности, засквозило теперь какое-то иное выраженье, и чем-то глубоко близким повеяло на меня от них… А они пожимались, и переглядывались, и в смущении покряхтывали в руку. Сердце мое болело сосущей болью… Но вместе с тем мне мучительно не хотелось отступить. Я с преувеличенной развязностью вынул и закурил папиросу и, как бы не замечая взглядов, с недоумением обращенных на меня, послал Семена за водкой…
13 марта. День солнечный. Небо ясно. Тепло.
Сегодня встал поздно. Голова трещит. Во рту чувствуется отвратительная горечь. Грудь болит нестерпимо… Блеск солнца кажется беспощадным.
Что такое свершилось вчера? Что-то ужасно глупое и смешное. Да, я припоминаю: я был пьян и перепоил своих домочадцев. Я помню какой-то туман в глазах, помню жгучее ощущение вонючей водки, помню какие-то рожи и бестолковые речи, крикливые до нелепости. Рожи вертелись предо мной и кривлялись странно; чьи-то толстые губы целовали меня мокрым поцелуем; усы жандарма грозно топорщились в разные стороны, и все это то исчезало в какой-то туманной сутолоке, то снова выдвигалось и галдело, широко раскрывая рты, и назойливо лезло в глаза… Иногда разговоры моих собеседников доходили до меня отчетливо и ясно, и тогда я их внимательно слушал; иногда же сливались, в какой-то смутный гул и протяжным стоном утруждали мои уши. Тогда я, в свою очередь, осложнял сумятицу и надрывался в криках. Но мне казалось, что это не я кричу, а кто-то другой, оживший во мне, и я удивлялся отчаянной наивности этого другого и тому, как он жестоко размахивает руками. У меня же нестерпимо кружилась голова и подымалось какое-то буйное желание разбить граненый стаканчик, наполненный водкою.
– А с какой с такой стати вы, господин, с нами, мужиками, водку пьете? – задает мне вопрос красная рожа с усами, и страшно шевелит этими усами, и низко наклоняется надо мною. Я чувствую, как внезапно пронизывает меня холодный трепет и лицо мое бледнеет. Я искательно повожу глазами и улыбаюсь красной роже, стараясь смягчить неподвижный блеск ее прозорливых очей. Мои коснеющие губы лепечут что-то о «дне святого ангела», о хуторской скуке, о «православном» мужичке, которого я, как оказывается, особенно уважаю за верность и преданность…
– То-то, – изрекает рожа и великодушно наполняет мой стакан, – потому, мы примечаем, ежели бунт… Мы имеем предписание…
Рожа, видимо, важничает и, видимо, врет. Я слышу отрывочный рассказ о некоторых подвигах рожи и превосходно уловляю фантастический элемент этих подвигов. Но что-то непреодолимое по своей оцепенелости смиряет мою критику, и я усердно поддакиваю роже и даже произношу одобрительные замечания. Это окончательно умиротворяет рожу. Затем все застилается туманом и подымается ужасный шум. Только спустя какое-то безобразно длинное время снова слова раздаются ясно и четко. Это говорю я. Я горячо доказываю, что никакой прирезки не будет и что ожидать ее нет резона. Я трогательно защищаю священные права собственности. Я упоминаю циркуляр г. Макова[3 - «…циркуляр г. Макова…» – Маков Лев Саввич (1830–1883), реакционный государственный деятель, в 1879–1880 годы был министром внутренних дел. Имеется в виду опубликованный Маковым циркуляр, в котором «разъяснялось», что надежды крестьян на получение новых земельных наделов необоснованны.] обзываю домочадцев своих дураками и с неведомо откуда взявшейся злобой насмехаюсь над их глупой верой. Но целый поток возражений оглушает меня. Я вижу, как раскрасневшийся Семен до невероятности открыл рот свой и, гневно скосив кроткие свои глаза, кричит на меня неподобными словами. Михайло к самому носу моему сует здоровенные свои кулаки. Яков ожесточенно сообщает извещение какого-то отца Мисаила Косоглазого в Одессе касательно «прирезки». Кухарка Анна пронзительно визжит и рассказывает про странницу и про то, как перед «волей» тоже говорили в народе, и по тому сбылось. Откуда-то взявшийся номер «Руси» снова появляется на столе, и кто-то гнусливо читает в нем ничего не выражающий отрывок из передовой статьи. Тщетно я возвышаю голос и стараюсь перекричать неописуемый гвалт: мне с торжеством указывают на газету и победоносно тычут в нее пальцами. Я слышу голос Михайлы.
– Небось, не надуешь! – кричит он, размахивая кулаками и уничтожая меня звероподобным взглядом. – Мужик-то, брат, сер, а ум-то у него не черт съел… Вот она, газетина-то!.. Мы тоже понимаем… Ноне тоже не хвалят вашего брата!
– Прямое дело! – возглашает Яков. – Газетина господская, а по ней прямо выходит – прирезка. А уж что баре скрывают – это верно.
Я пытаюсь возражать, но меня не слушают.
– Спокон веков земля вольная, – кричит Семен, давно уже охрипши с натуги, – и деды и прадеды…
– Быть переделу! Быть переделу!.. Провалиться вам всем – быть переделу!.. – неудержимо стрекочет Анна и в каком-то задорном раздражении толкает Якова в спину, как будто от него получая возражения.
Я поникаю головою и бесцельно смотрю, как на столе пролитая водка стоит лужами и беспорядочно разбросанные крошки хлеба мокнут в этих лужах.
– Теперича каким же таким манером вы, господин, оспариваете насупротив газет и насупротив указа, например? – раздается сиплый вопрос. Я поднимаю голову и снова встречаю проникновенный взор, рожи. Она самодовольно крутит усы и снова важничает.
– Каким же таким манером, ась?
– Как же так? – возражаю я в изумлении.
– А вот точно так мы вас и спрашиваем: каким теперича манером вы насупротив указа?.. И как мы имеем предписание… – И рожа еще ближе наклоняется ко мне и еще проникновенней поводит взорами.
Я теряюсь. Я вздыхаю беспомощно и устремляю взгляд свой горе. В голове моей воцаряется полнейший хаос. Действительность кажется мне бредом. Я уже ничего не понимаю. Точно сквозь сон долетают до меня многозначительные речи жандарма, и лица моих домочадцев, в гробовом молчании внимающих этим речам, тонут в зыбком тумане. По речам выходят положительные чудеса. Солдатик повествует, что высшее начальство в Санктпетербурге окончательно определило насчет земли и что чуть ли не с весны наступит прирезка. Это солдатик слышал своими ушами. И про указ слышал. Им даже, как и всем прочим, читали его по казармам. Точно, там прописано про землю и про передел и что мужички ждут передела. А так как они передела ожидают, то впоследствии времени будет им нарезка. И еще насчет бунта прописано, ловить чтобы которых и чтобы ежели против передела – доставлять по начальству. Затем говорил солдатик, что еще такой указ вышел: не работать по господам, а ежели жать, то не меньше как за сорок рублей. Впрочем, этого указа он не читал в Санктпетербурге, потому насчет цены только и прописано, что степным мужикам, а по прочим губерниям решения никакого нет.
Дальше я уж ничего не помню. Было какое-то общее целование и бесшабашнейшее изъявление чувств. Затем мрак…
Ох, как болит голова, и какая жгучая жажда одолевает меня. И зачем сверкает так ярко это солнце? Ручьи журчат, воробьи чирикают, небо синеет.
Тетка с молчаливым упреком поглядела на меня и более продолжительно, чем когда-либо, терзала свое пианино. Нервы мои тоскливо ныли, сердце сжималось мучительно…
Скверная штука это похмелье!
18 марта. Солнце. Ростопель.
Все эти дни я не знал, куда мне деваться. Непрестанный солнечный блеск как-то странно раздражает меня. Какие-то беспокойные порывы приливают непрерывными волнами. Скука сменяется тоскою и снова скукою. Я опять перечитал газеты. На них уже налегла пыль толстым слоем, и я неоднократно чихнул, перебирая ящик…
Нет спора – все скверно… Правда, есть рецепты, но от них пахнет несомненным мошенничеством. В лекарство пытаются влить отраву и в качестве патентованного средства всучить эту отраву ошалевшей России. Но странно: сердце мое точно оцепенело в холоде, и ему недоступны гражданские скорби. Предо мной, как в калейдоскопе, проходит ряд явлений, разрисованных кровью, изукрашенных глупостью и подлостью, а я равнодушно смотрю в стеклышко и с зевотой ожидаю скучного конца.
Не это ли англичане зовут сплином? Тоска… Теперь уж и чужбина не манит меня. А между тем чувствую – необходима она: грудь болит, нервы томительно тупеют, кашель бьет отчаянно…
А не замечали ли вы, что так называемая интеллигенция наша с самых времен Чулкатурина[4 - «…с самых времен Чулкатурина…» – Чулкатурин – герой повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850).] преимущественно вымирает от чахотки? Впрочем, entre nous, entre nous[4 - Между нами, между нами (франц.).], я вовсе не думаю умереть от чахотки, – я умру от скуки…
Сегодня тетушка разразилась трагической тирадой и в конце концов истерически разрыдалась.
– Душно! – сдерживая вопли, произнесла она в пафосе, – без счастья и воли жизнь как в могиле темна… Буря бы грянула, что ли?..
– Чаша с краями ровна!.. – согласился я, откладывая газеты, и пошел проверить некоторые мои подозрения.
Увы! – эти подозрения подтвердились: графинчик наполовину стоял опорожненный, а когда я поцеловал тетушку, от нее пахнуло водкой. Это нехорошо, – прежде она не могла пить. Что если мой пример?.. Нет, не хочу думать.
Вечером долго погорала заря, и степь, истекая звонкими ручейками, пламенела в кроткой задумчивости. Тетушка спала, обессиленная хмелем. А в полночь знакомый напев пробудил меня, тетушка пела:
О, верь, мы не надолго
Расстанемся с тобой:
Тоска угасит пламя
Моей души больной!..
О, север, север!..
22 марта. Тепло и ясно. С утра легкий мороз.
Эти дни ездил по знакомым. Был в деревнях, заезжал в села, проведывал хутора… Странно, в воздухе носится что-то тревожное, и какие-то непонятные ожидания упорно бродят в народе. Кабаки торгуют плохо. Улицы тихи. Мужики многозначительны и необычно серьезны. При появлении сюртука соблюдается таинственность… Точь-в-точь как мои домочадцы.
Другие электронные книги автора Александр Иванович Эртель
Две пары




 4.5
4.5
Степная сторона




 4.5
4.5
Поплешка




 4.5
4.5
От одного корня




 4.67
4.67
Обличитель




 4.5
4.5
Волхонская барышня




 4.67
4.67