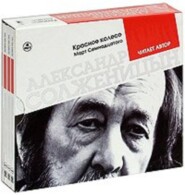По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красное колесо. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 1
Жанр
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
общественное мнение заблудилось. Очень мало лиц, которые разбираются безпристрастно и со знанием дела. И вопрос затуманен классовой рознью. Для блага государства надо найти среднюю линию.
Всё то, что происходило нынешней осенью, имеет глубокие и давние корни в психологии нашей страны и общества: издавна и правительство, и города, и наша интеллигенция привыкли смотреть на деревню, как Рим смотрел на свои провинции, как метрополия на колонии. Деревня – резервуар солдат и податей. Деревня должна дать возможно больше возможно дешёвых продуктов и потребить по возможно большой цене городские товары. И правительство, и города хронически обездоливали деревню. Мы привыкли думать, что раз мы много вывозим за границу, раз мы имеем в городах дешёвые сельскохозяйственные продукты и дрова, то всего этого у нас избыток. Но это было заблуждение, а теперь оно стало колоссальной ошибкой. Никогда у нас чрезмерных запасов не было. Чтобы заплатить подати, которые из неё выколачивались, купить водку, к которой она привыкла, приобрести товары второго сорта по большим ценам, деревня вынуждена была отчуждать не от избытка, а от голодания. (Слева рукоплескания: «Верно!») И создалось мнение, что с нашей деревней церемониться нечего, она всё выдержит и даст. И война отозвалась на деревне неизмеримо тяжелее, чем на городе. Из деревни выкачаны все зрелые мужские руки.
(Левые начали с аплодисментов, не предусматривая, куда Савич повернёт. Стихли теперь.)
Процент призванных там гораздо выше, чем в городе; в промышленность лили капиталы, промышленности давали освобождение от повинностей, – деревне не давали. От первых же затруднений с хлебом начались по отношению к сельскому хозяйству такие репрессии, которых промышленность никогда не испытывала.
И вот, сперва перестали торговать. Но ужас пошёл дальше: перестают сеять. И у городов и у правительства мысли не было, что деревня может когда-нибудь оказаться не в состоянии дать.
А осенью 1916 сельское хозяйство было добито психологически: началась
большая травля против «аграриев», сведение политических счётов.
«Биржевые ведомости» предлагали: взять с аграриев контрибуцию, понизив хлебную цену на полтинник. Ошиблись только в том, что крупное производство не может не выбрасывать хлеба на рынок, оно остановится тогда, а крестьянство – может без рынка и обойтись.
Полемика о ценах восстановила деревню против города. Многое испорчено. Деревня замкнулась. Она не имеет возможности ничего приобретать за деньги, и она от этих денег попросту отказалась. Будь цены немного повыше – и развёрстка прошла бы неизмеримо легче. Но сейчас уже нельзя обойтись без развёрстки, потому что в обмен на продукты мы не в состоянии дать деревне товары, в которых она нуждается. Львиная доля того, что в стране имеется, идёт в города. Вы все получаете по карточке 3 фунта сахара в месяц, а деревня и фунта не имеет. И так во всём. Теперь развёрстку надо выполнить силой власти.
(Стук сапогов и прикладов… Неизбежность идёт на Россию… Что бы далее ни случилось – от этого вопроса России уже не уйти. Вся история хлебной повинности тем и поучительна, что, когда подходит необходимость, её готовы проводить деятели самых противоположных направлений. Только не всем дана властность и жестокость осуществить её.) Впрочем,
это не должны быть военные реквизиции, то будет грабёж, но какие-то принудительные меры придётся… И – застраховать деревню от низких твёрдых цен в будущем. Дайте столько, чтоб сельское хозяйство могло не погибнуть. (Рукоплескания в центре и в левой части правых. Кадетам и левым не нравится.) Иначе скоро нельзя будет пахать, сеять, собирать.
Шульгин: Рабочие, приказчики, врачи, адвокаты, журналисты – они все могут без боязни отстаивать свои экономические интересы и оставаться патриотичны, но «аграрии» – ни в коем случае.
В твёрдых ценах виновны мы все, потому что среди нас были люди, которые отлично понимали, куда мы идём. Но, аграрии, они не смели возражать, они должны были отойти и дать совершиться этой пробе. Они и свой собственный хлеб отдали по этим низким ценам. А вот крестьянство оказалось менее уступчивым. Я думаю, наступило время отказаться от идолопоклонства перед твёрдыми ценами (голоса: «Правильно!») и одобрить действия министра земледелия.
Выступает полтавец и предлагает: для производящих губерний (для своей!) указать норму потребления и понизить качество пшеничной и ржаной муки – более простой помол.
Аграрий предлагает жертву… Но сидят Милюков, Керенский, Чхеидзе – они, наверно, и не понимают, что это – жертва. Да они – знают ли, что такое помол?
Выступает правый, Новицкий. – Дело совсем не в прокормлении Петрограда и Москвы, о чём больше всего заботятся, это – мелочь по сравнению с общегосударственной задачей.
А правительство не должно было так легко соглашаться на эти цены. Создать твёрдые цены на хлеб, обрабатываемый детьми на нетвёрдых ногах!.. Стомиллионное крестьянское население послало своих мужчин в первые ряды армии. Солдатка, обливаясь потом, варит, кормит детей и в это же время обрабатывает десятину. Три-четыре дня идёт на то, что доброму косарю на один день, а жнейкой в три часа. А в это самое время Громан и Воронков, у которых земля только на ботинках, подают протест, жалкое создание маленьких городских людей, не знающих земли, не знающих великой России, – протест, что цены на хлеб назначены слишком высокие.
А Дзюбинский не знает дела, я б ему и курицу не поручил выкормить. Не знают дела и думские уполномоченные по хлебу, уйти бы им.
Какое гнусное оскорбление! – и это передовым представителям общественности! это лучшим выразителям народных интересов!
Но теперь, разбереженные до нутра, полезли на трибуну аграрии:
Городилов (Вятская губ.): Как крестьянин живу в деревне. Твёрдые низкие цены на хлеб погубили страну, убили всё земледельческое хозяйство. Деревня сеять хлеба больше не будет, кроме как для своего пропитания. Кто же, господа, виновник? Закон о понижении твёрдых цен издала сама Государственная Дума по настоянию Прогрессивного блока. Нас, крестьян, в Совещание не допустили, а сами кадеты жизни деревни совершенно не знают.
Вы, господа, обвиняете министров, а посмотрите, кто поднимает восстание в стране? Это Прогрессивный блок. (Справа голоса: «Браво!») Вы, господа, опять закрепостили нас, крестьян, и заставили крестьянских жён и солдаток сеять поля и отдавать хлеб по самым низким ценам в убыток. За наш счёт хотят жить люди других классов. Все кто сколько могут с крестьянина взять – берут. Поэтому деревня ничего не стала продавать городу. Разве могут быть твёрдые цены только на хлеб? А – на железо, гвозди, ситец? За них берут кто сколько хочет, для купцов и фабрикантов твёрдых цен нет, они только для одного несчастного крестьянина. Вы, господа кадеты и Прогрессивный блок, с целью понизили цены на хлеб, а обвиняете во всём правительство. Из своей среды шлёте и уполномоченных для продовольствия по всей стране. Ужели у нас нет людей избрать на местах, которые бы правили этим делом?
(Пензенский помещик): Когда вините во всём правительство – на себя обернитесь сначала: вы сидели в Особом Совещании по продовольствию, ничего не понимая, и только помеху оказали. Войдя в Совещание, нельзя быть партийным. У вас мудрости нет, но претензий очень много. Те, кто в деревне живут, такого не понимают. Стыд один! Твёрдые цены – главнейшая причина нашей продовольственной разрухи.
На местных совещаниях, вырабатывавших цены, было по пять городских обывателей на одного земца, и они слышать не хотели, что цена не может быть ниже себестоимости. Возвысилась стоимость производства хлеба – и бросились охотно продавать его по низким ценам? Если хлеб и шёл на рынок, то по горькой нужде – расплатиться с долгами летнего времени.
Какой же это патриотизм – губить страну, делать разлад в продовольствии? Никакого патриотизма у этих господ нет вовсе. Люди из партии народной свободы лишены чувства народной свободы. Что делать – мы и все знаем, а вот укажите – как? Сколько я ни присматривался к господам с левой стороны – у них очень много критики, очень много шуму, но никакого творчества не бывает.
И Риттиху возражает: ещё и сейчас не поздно повысить твёрдые цены – и по ним оплачивать развёрстку. Во всяком случае, эти цены будут ниже спекулятивных. А хлеб, оставшийся сверх развёрстки, – пусть продают по открытым вольным ценам, какие сложатся.
(Этот план в феврале 1917 излагает аграрий, зубр, помещик. И потому это – реакционный замысел, не приемлемый для вольнолюбивой публики. Но перечтём его глазами 20-х годов – и мы узнаем НЭП, приветствуемый как благословенная свобода.)
(Курский помещик): А в Курской губернии хлеб доставили, но лежит на станциях, а он весь – сыромолотный, со снежком и льдом. При ненастной весне, при дожде – всё сгниёт. То собирали сухари на армию – и отдали крысам. То требовали скот на станции – и там он гиб от голода. Топлива нет – а в Петрограде нисколько не сокращается освещение, вечерняя торговля, театры, кинематографы. А сколько в Петрограде праздного лишнего населения, – зачем оно здесь? Разгрузить бы столицу.
(Эта мысль кажется наглой: нам, столичным, самим судить, не курскому помещику указывать. Петроград переполнен, да, но толпы беженцев – это всё армия свободы.)
(Депутат Воронежской губернии): Мы достигли момента, когда уже нечего говорить о политике. И в Воронежской: станции забиты хлебом, а вагонов нет (а где хлеба нет – там вагоны есть). Государственная Россия мало знала хозяйственность, были уверены, что проживём без экономии, – а сельская Россия этой хозяйственностью жива. Когда поезда заносит снегом – женщины, подростки и старики безропотно идут с лопатами отрывать их. В Саратовской губернии триста быков умерло от голода, потому что не дали сена, стерегли его «для армии», будто быки не для армии. Берегите деревню!
– Де-ревню?? – изумляется Керенский.
Помогать деревне, забывая о городе? Но ведь мы-то живём для городской культуры, ведь без города деревня не может ничего совершить! город – артерия государственного творчества!
Макогон (екатеринославский крестьянин): Кого вы видите в деревне? Одних старух с детьми в летнее время, да много домов пошло на развал. Кого вы увидите в поле? Седовласого старика 60 лет, кому время только на покой, со внуками и женщинами. И от этого старика вы хотите, чтоб он прокормил не только армию, но и всю Россию?
А в городах? Все дома заняты, молодые люди и средних лет, толпа праздных, заведующие и командующие, хоть отбавляй. И сколькие получили все отсрочки от воинской повинности?
Крестьянские дети сложили кости в боях – а эти? Крестьяне в последнее время поняли, что наших всех забрали – а кому-то дали отсрочки. И какую ж они цену заплатят тому старику за кусок хлеба – твёрдую или повышенную? Они получили цену жизни, остались на месте и спаслись.
Один министр твёрдо сказал, – а мы ему опять препятствия? У нас голос маленький, мы не можем сказать, нам мало верят. Но правду вы должны понимать, и если всё в дальнейшем не будет усмотрено – то может выйти плохим отражением.
Конечно, в думских стенограммах пропорция изложения другая: каждый такой серый – на двух страницах, а кадетские профессора – на десяти и пятнадцати. Конечно, всех этих серых учёные думцы слушают брезгливо, все доводы мужичьи – как серая вода. То ли дело – свой Милюков, свой Посников, теория ренты. Это так говорится – Государственная Дума, молодой русский парламент, а на самом деле 80 % думского времени проговаривает всего 20 человек, – и этих 20 случайных политиков, очевидно, и надо понимать как истинный голос России.
И счастье, что среди тех двадцати есть Андрей Иванович Шингарёв – никак не случайный, но сердце сочащее, но закланец нашей истории. Однако же, если ты в двадцати – то тебе надо живо поворачиваться и отвечать часто. А если ты в кадетской партии – то не перестать же быть кадетом, но строгать лишь по той косой, как надо твоей партии, и защищать своего лидера и свою повсегдашнюю правоту. Не забывать сверхзадачу своей партии и своего Блока: в конце концов, важен не хлеб сам по себе – важно свалить царское правительство. А если Милюков не сумел оправдаться в проклятой диаграмме, так помочь же ему – надо выходить на трибуну: да, хотя поступление хлеба при Риттихе увеличилось, но можно считать, что оно уменьшилось – по сравнению с потребностью, сколько нам стало надо.
Возможно, что отдельные исчисления были неточны.
(И этот истинный сострадатель русского мужика, 14 лет назад ещё не член к-д, написал «Вымирающую деревню», где подсчитывал сотые доли копейки крестьянского бюджета!) Там, где Шингарёва ведёт партийный долг, он мельчится, а может быть и кривит. Изо всех сил защищает все виды общественных комитетов, особенно Земгор. Не замечает, как противоречит себе:
Что это за недоумение, будто где-то можно обойтись без политики? Господа, ведь ваше собрание – политическое, вы – не продовольственный комитет. Политика – это существо государственной жизни. Если вы устраните политику – что же у вас останется? Величайшее заблуждение, что с каким-нибудь государственным вопросом можно и нужно не связать политику.
И тут же изломно возвращает правительству укор:
Не вводите вашей безумной политики в продовольственное дело! У нас диктатура безумия, которая разрушает государство в минуту величайшей опасности.
Но и в партийные минуты нет в его речах высокомерия и злобности, как у других лидеров оппозиции. Он выговаривает все эти партийно-обязательные фразы – а слышится его грудной голос, придыхательно взволнованный русскою бедой. Он ощущает эти неоглядные просторы, застрявшие жизненные массы амбарного зерна, и тёмное (и разумное) мужицкое недоверие к городским обманщикам. И вдруг, как очнясь, свободную голову выбив из партийной узды, объявляет опешившей Думе:
Министр прав, когда говорит: помогите и вы! Да, господа, хлеб надо повезти. Если отдавали своих детей, последних сыновей, то надо отдать и хлеб, это священный долг перед родиной.
А безпокойный, невиданно деятельный, неутолчимый в спорах министр земледелия – снова на трибуне! Но Дума не желает больше слушать его, и вся левая часть дико шумит, требуя перерыва.
Родзянко: Покорнейше прошу занять места. (Шум. Голоса слева: «Перерыв! Перерыв! Это неуважение к Государственной Думе!»)
Родзянко еле успокаивает. Первые слова речи Риттих произносит несколько раз:
Господа, с величайшим… (Слева шум: «Перерыв!») Господа, я буду очень краток. Я с величайшим… (Слева шум.) Я с величайшим удовлетворением, скажу прямо (слева шум: «Постановление Думы!»), с величайшим удовлетворением, прямо с радостью выслушал ту часть речи члена Думы Шингарёва, где он так искренно говорил о призыве к народу, о гражданском долге. Но, господа, я с величайшим смущением выслушал всё остальное из продолжительных речей членов Думы Милюкова и Шингарёва. Ведь вот второй оратор выходит из той партии, и что же нам приходится слышать? Член Думы Милюков обвиняет министра земледелия то – в преступном оптимизме, то уже – в пессимизме, не помню – преступном ли. О чём они со мной спорят, всё время доказывая, что я виноват? Тут и предмета спора нет: я чувствую себя неизмеримо более виноватым, чем они стараются доказать какими-то цифрами. Да, господа, днём и ночью меня гнетёт мысль, что я не сделал даже тысячной доли того, что должен был в эту страшную историческую минуту. (Справа рукоплескания.) К несчастью, я простой смертный, а в это время Россия должна была бы выдвинуть людей титанической силы. Я виноват, что такой силы у меня нет.
Безпристрастно: ну отчего бы таким тоном не говорить и лидерам оппозиции? Тогда б и столковаться немудрено. Но титаны оппозиции кричат:
Всё то, что происходило нынешней осенью, имеет глубокие и давние корни в психологии нашей страны и общества: издавна и правительство, и города, и наша интеллигенция привыкли смотреть на деревню, как Рим смотрел на свои провинции, как метрополия на колонии. Деревня – резервуар солдат и податей. Деревня должна дать возможно больше возможно дешёвых продуктов и потребить по возможно большой цене городские товары. И правительство, и города хронически обездоливали деревню. Мы привыкли думать, что раз мы много вывозим за границу, раз мы имеем в городах дешёвые сельскохозяйственные продукты и дрова, то всего этого у нас избыток. Но это было заблуждение, а теперь оно стало колоссальной ошибкой. Никогда у нас чрезмерных запасов не было. Чтобы заплатить подати, которые из неё выколачивались, купить водку, к которой она привыкла, приобрести товары второго сорта по большим ценам, деревня вынуждена была отчуждать не от избытка, а от голодания. (Слева рукоплескания: «Верно!») И создалось мнение, что с нашей деревней церемониться нечего, она всё выдержит и даст. И война отозвалась на деревне неизмеримо тяжелее, чем на городе. Из деревни выкачаны все зрелые мужские руки.
(Левые начали с аплодисментов, не предусматривая, куда Савич повернёт. Стихли теперь.)
Процент призванных там гораздо выше, чем в городе; в промышленность лили капиталы, промышленности давали освобождение от повинностей, – деревне не давали. От первых же затруднений с хлебом начались по отношению к сельскому хозяйству такие репрессии, которых промышленность никогда не испытывала.
И вот, сперва перестали торговать. Но ужас пошёл дальше: перестают сеять. И у городов и у правительства мысли не было, что деревня может когда-нибудь оказаться не в состоянии дать.
А осенью 1916 сельское хозяйство было добито психологически: началась
большая травля против «аграриев», сведение политических счётов.
«Биржевые ведомости» предлагали: взять с аграриев контрибуцию, понизив хлебную цену на полтинник. Ошиблись только в том, что крупное производство не может не выбрасывать хлеба на рынок, оно остановится тогда, а крестьянство – может без рынка и обойтись.
Полемика о ценах восстановила деревню против города. Многое испорчено. Деревня замкнулась. Она не имеет возможности ничего приобретать за деньги, и она от этих денег попросту отказалась. Будь цены немного повыше – и развёрстка прошла бы неизмеримо легче. Но сейчас уже нельзя обойтись без развёрстки, потому что в обмен на продукты мы не в состоянии дать деревне товары, в которых она нуждается. Львиная доля того, что в стране имеется, идёт в города. Вы все получаете по карточке 3 фунта сахара в месяц, а деревня и фунта не имеет. И так во всём. Теперь развёрстку надо выполнить силой власти.
(Стук сапогов и прикладов… Неизбежность идёт на Россию… Что бы далее ни случилось – от этого вопроса России уже не уйти. Вся история хлебной повинности тем и поучительна, что, когда подходит необходимость, её готовы проводить деятели самых противоположных направлений. Только не всем дана властность и жестокость осуществить её.) Впрочем,
это не должны быть военные реквизиции, то будет грабёж, но какие-то принудительные меры придётся… И – застраховать деревню от низких твёрдых цен в будущем. Дайте столько, чтоб сельское хозяйство могло не погибнуть. (Рукоплескания в центре и в левой части правых. Кадетам и левым не нравится.) Иначе скоро нельзя будет пахать, сеять, собирать.
Шульгин: Рабочие, приказчики, врачи, адвокаты, журналисты – они все могут без боязни отстаивать свои экономические интересы и оставаться патриотичны, но «аграрии» – ни в коем случае.
В твёрдых ценах виновны мы все, потому что среди нас были люди, которые отлично понимали, куда мы идём. Но, аграрии, они не смели возражать, они должны были отойти и дать совершиться этой пробе. Они и свой собственный хлеб отдали по этим низким ценам. А вот крестьянство оказалось менее уступчивым. Я думаю, наступило время отказаться от идолопоклонства перед твёрдыми ценами (голоса: «Правильно!») и одобрить действия министра земледелия.
Выступает полтавец и предлагает: для производящих губерний (для своей!) указать норму потребления и понизить качество пшеничной и ржаной муки – более простой помол.
Аграрий предлагает жертву… Но сидят Милюков, Керенский, Чхеидзе – они, наверно, и не понимают, что это – жертва. Да они – знают ли, что такое помол?
Выступает правый, Новицкий. – Дело совсем не в прокормлении Петрограда и Москвы, о чём больше всего заботятся, это – мелочь по сравнению с общегосударственной задачей.
А правительство не должно было так легко соглашаться на эти цены. Создать твёрдые цены на хлеб, обрабатываемый детьми на нетвёрдых ногах!.. Стомиллионное крестьянское население послало своих мужчин в первые ряды армии. Солдатка, обливаясь потом, варит, кормит детей и в это же время обрабатывает десятину. Три-четыре дня идёт на то, что доброму косарю на один день, а жнейкой в три часа. А в это самое время Громан и Воронков, у которых земля только на ботинках, подают протест, жалкое создание маленьких городских людей, не знающих земли, не знающих великой России, – протест, что цены на хлеб назначены слишком высокие.
А Дзюбинский не знает дела, я б ему и курицу не поручил выкормить. Не знают дела и думские уполномоченные по хлебу, уйти бы им.
Какое гнусное оскорбление! – и это передовым представителям общественности! это лучшим выразителям народных интересов!
Но теперь, разбереженные до нутра, полезли на трибуну аграрии:
Городилов (Вятская губ.): Как крестьянин живу в деревне. Твёрдые низкие цены на хлеб погубили страну, убили всё земледельческое хозяйство. Деревня сеять хлеба больше не будет, кроме как для своего пропитания. Кто же, господа, виновник? Закон о понижении твёрдых цен издала сама Государственная Дума по настоянию Прогрессивного блока. Нас, крестьян, в Совещание не допустили, а сами кадеты жизни деревни совершенно не знают.
Вы, господа, обвиняете министров, а посмотрите, кто поднимает восстание в стране? Это Прогрессивный блок. (Справа голоса: «Браво!») Вы, господа, опять закрепостили нас, крестьян, и заставили крестьянских жён и солдаток сеять поля и отдавать хлеб по самым низким ценам в убыток. За наш счёт хотят жить люди других классов. Все кто сколько могут с крестьянина взять – берут. Поэтому деревня ничего не стала продавать городу. Разве могут быть твёрдые цены только на хлеб? А – на железо, гвозди, ситец? За них берут кто сколько хочет, для купцов и фабрикантов твёрдых цен нет, они только для одного несчастного крестьянина. Вы, господа кадеты и Прогрессивный блок, с целью понизили цены на хлеб, а обвиняете во всём правительство. Из своей среды шлёте и уполномоченных для продовольствия по всей стране. Ужели у нас нет людей избрать на местах, которые бы правили этим делом?
(Пензенский помещик): Когда вините во всём правительство – на себя обернитесь сначала: вы сидели в Особом Совещании по продовольствию, ничего не понимая, и только помеху оказали. Войдя в Совещание, нельзя быть партийным. У вас мудрости нет, но претензий очень много. Те, кто в деревне живут, такого не понимают. Стыд один! Твёрдые цены – главнейшая причина нашей продовольственной разрухи.
На местных совещаниях, вырабатывавших цены, было по пять городских обывателей на одного земца, и они слышать не хотели, что цена не может быть ниже себестоимости. Возвысилась стоимость производства хлеба – и бросились охотно продавать его по низким ценам? Если хлеб и шёл на рынок, то по горькой нужде – расплатиться с долгами летнего времени.
Какой же это патриотизм – губить страну, делать разлад в продовольствии? Никакого патриотизма у этих господ нет вовсе. Люди из партии народной свободы лишены чувства народной свободы. Что делать – мы и все знаем, а вот укажите – как? Сколько я ни присматривался к господам с левой стороны – у них очень много критики, очень много шуму, но никакого творчества не бывает.
И Риттиху возражает: ещё и сейчас не поздно повысить твёрдые цены – и по ним оплачивать развёрстку. Во всяком случае, эти цены будут ниже спекулятивных. А хлеб, оставшийся сверх развёрстки, – пусть продают по открытым вольным ценам, какие сложатся.
(Этот план в феврале 1917 излагает аграрий, зубр, помещик. И потому это – реакционный замысел, не приемлемый для вольнолюбивой публики. Но перечтём его глазами 20-х годов – и мы узнаем НЭП, приветствуемый как благословенная свобода.)
(Курский помещик): А в Курской губернии хлеб доставили, но лежит на станциях, а он весь – сыромолотный, со снежком и льдом. При ненастной весне, при дожде – всё сгниёт. То собирали сухари на армию – и отдали крысам. То требовали скот на станции – и там он гиб от голода. Топлива нет – а в Петрограде нисколько не сокращается освещение, вечерняя торговля, театры, кинематографы. А сколько в Петрограде праздного лишнего населения, – зачем оно здесь? Разгрузить бы столицу.
(Эта мысль кажется наглой: нам, столичным, самим судить, не курскому помещику указывать. Петроград переполнен, да, но толпы беженцев – это всё армия свободы.)
(Депутат Воронежской губернии): Мы достигли момента, когда уже нечего говорить о политике. И в Воронежской: станции забиты хлебом, а вагонов нет (а где хлеба нет – там вагоны есть). Государственная Россия мало знала хозяйственность, были уверены, что проживём без экономии, – а сельская Россия этой хозяйственностью жива. Когда поезда заносит снегом – женщины, подростки и старики безропотно идут с лопатами отрывать их. В Саратовской губернии триста быков умерло от голода, потому что не дали сена, стерегли его «для армии», будто быки не для армии. Берегите деревню!
– Де-ревню?? – изумляется Керенский.
Помогать деревне, забывая о городе? Но ведь мы-то живём для городской культуры, ведь без города деревня не может ничего совершить! город – артерия государственного творчества!
Макогон (екатеринославский крестьянин): Кого вы видите в деревне? Одних старух с детьми в летнее время, да много домов пошло на развал. Кого вы увидите в поле? Седовласого старика 60 лет, кому время только на покой, со внуками и женщинами. И от этого старика вы хотите, чтоб он прокормил не только армию, но и всю Россию?
А в городах? Все дома заняты, молодые люди и средних лет, толпа праздных, заведующие и командующие, хоть отбавляй. И сколькие получили все отсрочки от воинской повинности?
Крестьянские дети сложили кости в боях – а эти? Крестьяне в последнее время поняли, что наших всех забрали – а кому-то дали отсрочки. И какую ж они цену заплатят тому старику за кусок хлеба – твёрдую или повышенную? Они получили цену жизни, остались на месте и спаслись.
Один министр твёрдо сказал, – а мы ему опять препятствия? У нас голос маленький, мы не можем сказать, нам мало верят. Но правду вы должны понимать, и если всё в дальнейшем не будет усмотрено – то может выйти плохим отражением.
Конечно, в думских стенограммах пропорция изложения другая: каждый такой серый – на двух страницах, а кадетские профессора – на десяти и пятнадцати. Конечно, всех этих серых учёные думцы слушают брезгливо, все доводы мужичьи – как серая вода. То ли дело – свой Милюков, свой Посников, теория ренты. Это так говорится – Государственная Дума, молодой русский парламент, а на самом деле 80 % думского времени проговаривает всего 20 человек, – и этих 20 случайных политиков, очевидно, и надо понимать как истинный голос России.
И счастье, что среди тех двадцати есть Андрей Иванович Шингарёв – никак не случайный, но сердце сочащее, но закланец нашей истории. Однако же, если ты в двадцати – то тебе надо живо поворачиваться и отвечать часто. А если ты в кадетской партии – то не перестать же быть кадетом, но строгать лишь по той косой, как надо твоей партии, и защищать своего лидера и свою повсегдашнюю правоту. Не забывать сверхзадачу своей партии и своего Блока: в конце концов, важен не хлеб сам по себе – важно свалить царское правительство. А если Милюков не сумел оправдаться в проклятой диаграмме, так помочь же ему – надо выходить на трибуну: да, хотя поступление хлеба при Риттихе увеличилось, но можно считать, что оно уменьшилось – по сравнению с потребностью, сколько нам стало надо.
Возможно, что отдельные исчисления были неточны.
(И этот истинный сострадатель русского мужика, 14 лет назад ещё не член к-д, написал «Вымирающую деревню», где подсчитывал сотые доли копейки крестьянского бюджета!) Там, где Шингарёва ведёт партийный долг, он мельчится, а может быть и кривит. Изо всех сил защищает все виды общественных комитетов, особенно Земгор. Не замечает, как противоречит себе:
Что это за недоумение, будто где-то можно обойтись без политики? Господа, ведь ваше собрание – политическое, вы – не продовольственный комитет. Политика – это существо государственной жизни. Если вы устраните политику – что же у вас останется? Величайшее заблуждение, что с каким-нибудь государственным вопросом можно и нужно не связать политику.
И тут же изломно возвращает правительству укор:
Не вводите вашей безумной политики в продовольственное дело! У нас диктатура безумия, которая разрушает государство в минуту величайшей опасности.
Но и в партийные минуты нет в его речах высокомерия и злобности, как у других лидеров оппозиции. Он выговаривает все эти партийно-обязательные фразы – а слышится его грудной голос, придыхательно взволнованный русскою бедой. Он ощущает эти неоглядные просторы, застрявшие жизненные массы амбарного зерна, и тёмное (и разумное) мужицкое недоверие к городским обманщикам. И вдруг, как очнясь, свободную голову выбив из партийной узды, объявляет опешившей Думе:
Министр прав, когда говорит: помогите и вы! Да, господа, хлеб надо повезти. Если отдавали своих детей, последних сыновей, то надо отдать и хлеб, это священный долг перед родиной.
А безпокойный, невиданно деятельный, неутолчимый в спорах министр земледелия – снова на трибуне! Но Дума не желает больше слушать его, и вся левая часть дико шумит, требуя перерыва.
Родзянко: Покорнейше прошу занять места. (Шум. Голоса слева: «Перерыв! Перерыв! Это неуважение к Государственной Думе!»)
Родзянко еле успокаивает. Первые слова речи Риттих произносит несколько раз:
Господа, с величайшим… (Слева шум: «Перерыв!») Господа, я буду очень краток. Я с величайшим… (Слева шум.) Я с величайшим удовлетворением, скажу прямо (слева шум: «Постановление Думы!»), с величайшим удовлетворением, прямо с радостью выслушал ту часть речи члена Думы Шингарёва, где он так искренно говорил о призыве к народу, о гражданском долге. Но, господа, я с величайшим смущением выслушал всё остальное из продолжительных речей членов Думы Милюкова и Шингарёва. Ведь вот второй оратор выходит из той партии, и что же нам приходится слышать? Член Думы Милюков обвиняет министра земледелия то – в преступном оптимизме, то уже – в пессимизме, не помню – преступном ли. О чём они со мной спорят, всё время доказывая, что я виноват? Тут и предмета спора нет: я чувствую себя неизмеримо более виноватым, чем они стараются доказать какими-то цифрами. Да, господа, днём и ночью меня гнетёт мысль, что я не сделал даже тысячной доли того, что должен был в эту страшную историческую минуту. (Справа рукоплескания.) К несчастью, я простой смертный, а в это время Россия должна была бы выдвинуть людей титанической силы. Я виноват, что такой силы у меня нет.
Безпристрастно: ну отчего бы таким тоном не говорить и лидерам оппозиции? Тогда б и столковаться немудрено. Но титаны оппозиции кричат: