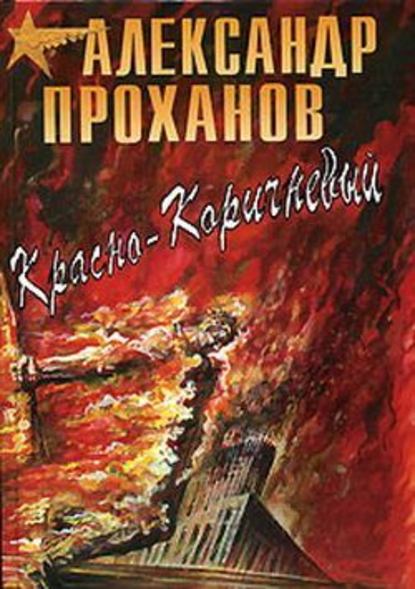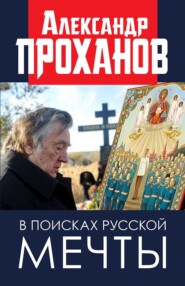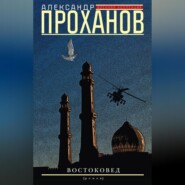По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красно-коричневый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы, Григорий Антонович, проведите нас, покажите свое хозяйство, – сказал генерал, отвечая инженеру тем же дружелюбием, предполагавшим давнишнее проверенное знакомство, неподвластное случившимся бедам и разрушениям. – А уж потом мы с вами вдвоем потолкуем.
Цех, где они оказались, напоминал длинное, уходящее вдаль ущелье, окруженное отвесными склонами, на которых топорщились металлические кустарники, железные кущи, бугрились уступы и выпуклости. Металлическое высокое небо в голубоватых лучах, дымных тучах было наполнено грозовым электричеством. В мгновенном проблеске солнца мелькала голубиная стая, и казалось, вот-вот на голову прольется тяжелый ливень. Дно ущелья было увито разноцветными кабелями, проводами, шлангами, словно расползлись корневища огромного дерева. И само оно возносило огромный железный ствол, распуская железные ветви, сучья, отростки, в которых, окруженное множеством нитей, белоснежное, как крылатая бабочка, помещалось изделие. Космический корабль «Буран», отточенный, совершенный, в мягких овалах, застыл на стапелях. И поодаль, точно такие же, два других корабля, застыли на железных ветвях.
Ближний, толстолобый, с влажным блеском кабины, с могучими крыльями, покрытыми белой пыльцой, с мясистым чешуйчатым фюзеляжем, был еще недостроен. Лоснился сочными маслами и лаками, только что вылупился из кокона, высыхал на свету, пульсируя туловом, неокрепшими, пробующими воздух перепонками.
Второй, чуть поодаль, сохраняя сходство с бабочкой, напоминал огромного белоснежного ангела. Парил, распустив тугие пернатые крылья в доспехи льдистые сияющие ризы Черноокое лицо окружали нимбы и радуги, под белыми покровами таилось молодое стройное тело, бугрились мускулы. Рука сжимала голубоватое копье.
Третий, вдалеке, был спущен со стапелей, казался отдыхающим на спине великаном. Утомленный, проделав богатырскую работу, он вытянул громадное тело, сдвинул стопы, чуть развел мускулистые руки. Его дремота была краткой передышкой перед новыми трудами и битвами, в которые кинется он по тревожному сигналу и свисту.
Хлопьянов шел по цеху, поднимая голову к туманным стальным перекрытиям. Купался в потоках света, любовался кораблями. Испытывал давно забытое чувство восторга, уверенности, ощущал себя частью осмысленного, одухотворенного мира, откуда изгнали, бросили в пучину бессмысленности и распада.
– Вот наш завод, – главный инженер остановился у космического корабля, нависавшего над ними, как ледник. – Таких заводов больше нет на земле. Может, смысл всей истории в том, чтобы люди сумели построить такой завод!
Хлопьянов созерцал парящее изделие, сотворенное из света и сияющих сплавов. Испытывал головокружение. Присутствие белоснежной громады предполагало матку, в которой созревали и вынашивались эти аппараты. Своими размерами, формами, наполнявшей их сущностью они были нацелены на мироздание, переносили в Космос земные устремления людей. Этой маткой, взрастившей «Бураны», был Советский Союз, его Родина. Из своих непомерных пространств, занимавших половину земли, страна направила ввысь отточенную вертикаль, – эскадрильи белых кораблей. Ощущение этой вертикали порождало у Хлопьянова головокружение.
– Этот корабль, да будет известно, строили две тысячи заводов и восемьсот научных институтов. Точнее, его делали в каждой школе и в каждой семье. Потому что такое под силу только всему народу, который именовался советским. – Главный инженер, маленький и веснушчатый, указывал на корабль, как экскурсовод в Кремле указывает на Василия Великого. – В этом корабле сконцентрировалось наше национальное прошлое, весь нынешний потенциал и еще неосуществленное будущее. Если произойдет глобальная катастрофа и исчезнет вся земная цивилизация, но уцелеет один этот корабль, то из него может возродиться вся земная жизнь, от древности до сегодняшних дней.
Хлопьянов понимал его. Корабль казался белокаменным храмом, где по сводам, столпам и стенам были начертаны драгоценные фрески, хранились иконы, лежали древние скрижали и свитки. Он был вместилищем заповедей и заветов, огромной молельней, откуда тысячу лет возносилась молитва о Рае.
И он же, корабль, в бессчетных агрегатах, приборах, научных открытиях, был лабораторией, где из бестелесного, еще несуществующего времени создавалось будущее. Корабль в буре огня, взлетая с космодрома, превращал это будущее в живую историю.
Хлопьянов посмотрел на Красного генерала. Тот стоял побледневший. Казалось, он испытывает страдание, которое пытается скрыть.
– Этот корабль строился, как гарантия того, что мы не погибнем, – продолжал инженер. – Он сконцентрировал в себе наше могущество, возможность действовать в будущем. Из Космоса защищать нашу суверенность, выбранный нами исторический путь. Эскадрильи «Буранов» переносили борьбу в космическое пространство, а наше превосходство делало нас непобедимыми.
Они двигались по цеху, выходя из-под шатра одного челнока, попадая под белый плавник другого. Хлопьянов, военный разведчик, был участник борьбы и соперничества, в которую нацелились челноки. На сухопутных театрах, где копились группировки и армии, в акваториях океанов, где плавали флоты и эскадры, на орбитах, где вращались боевые спутники, в подземных штабах и бункерах, управлявших ракетными пусками, ежесекундно проходили невидимые столкновения, незримые миру стычки – идей и усилий, проектов и планов. Подводные лодки, преследуя друг друга, рыскали по всем океанам. Антенны космической связи щупали континенты, фиксируя взлеты ракет. На полигонах, в горах и пустынях гремели подземные взрывы. Разведка проникала в военные центры противника. В саваннах и джунглях, в сухих азиатских ущельях разгорались конфликты и войны. И он, Хлопьянов, задыхаясь от гари, бежал по бетонке, огибая липкое пламя, посылал автоматные очереди в каменный склон, и убитый водитель, сгорая, выгибался в огне.
Белые челноки нахмурили тяжелые лбы, напрягли тугие подбрюшья. Были нацелены в эту борьбу. Обеспечивали стране выживание.
Шагая под белым треугольным крылом, Хлопьянов опять взглянул на генерала. Тот был бледен, на скулах играли желваки. Он подымал лицо к челноку, жадно вдыхал, но ему не хватало воздуха, и он задыхался.
– Когда его впервые пускали, – инженер протянул руку к кораблю, словно хотел погладить его белое голубиное оперение, – на космодром съехались лучшие люди страны. Ученые, генеральные конструкторы, командующие войсками, министры. Здесь были представители всех существующих на земле наук, словно это был ковчег, куца загружались все знания. Когда он взлетел и сорок минут носился вокруг Земли, мы стояли у карты мира, отслеживали его траекторию, и я вам признаюсь, я Богу молился. Когда он сел в сопровождении перехватчиков, и мы обнимались, лобызались, поздравляли друг друга, мы понимали, что с этой минуты живем в другом измерении, в другой эре!
Хлопьянов слушал его, представляя предзимнюю белесую степь Байконура, бесчисленные клубки перекати-поля, гонимые ветром, как табуны диких коз. Сквозь сухие колючие травы, летящий снег и песок – далекое ртутное пламя, свеча огня, отлетающий рокот и гром. Как шаровая молния, корабль ушел сквозь тучи, и пока он летал по орбите, все так же, как тысячу лет, катились комья мертвой травы, струились сухие поземки. Челнок, облетев планету, врывался в атмосферу, как малиновый шар огня, снижался как мираж в стеклянной воздушной сфере. Коснулся бетона, вырвал клуб черного дыма, стряхивал с крыльев прах сгоревшего Космоса. Стоял на бетоне, остывая, источая запах живой утомленной плоти, одушевленной рукотворной материи.
Генерал всасывал воздух сквозь зубы. Лицо его выражало страдание. Хлопьянов понимал природу страдания. Оно охватывало его самого, превращало недавнюю радость в невыносимую боль.
– Нас остановили! – сказал инженер. – Проект «Буран» закрыт. Они больше никогда не взлетят! Ельцин решил, что России они не нужны! Америке нужны, а Россия обойдется без них. Предатели и мерзавцы уничтожили русский Космос. Все заводы стоят, закрыты научные центры, распущены коллективы рабочих, и больше их не собрать. На завод приходят американцы, фотографируют изделия, вывозят документацию. Их привели академики-предатели, генералы-предатели, дипломаты-предатели. Мой друг, начальник отдела, не вынес, пустил себе пулю в лоб. Теперь и мой черед!
Хлопьянов чувствовал, как в груди откупорились скважины и из них била боль, ударили жаркие красные ключи. Белый корабль на мгновение стал красным. Чувство непоправимой беды, бессилие и беспомощность были наподобие обморока. Но он одолел его, возвращался в синеватый металлический свет, в котором застыли мертвые огромные бабочки. Их могущество, их исполинская сила были видимостью. Сухие известковые чехлы, наполненные трухой и гнилью. Красный генерал, без единой кровинки, шагал, наклонившись вперед, словно в него дул и давил слепой ураган.
– А этот корабль куда? – спросил генерал, указывая на третий, последний в череде «Буранов» челнок. Спущенный со стапелей, корабль стоял на бетоне, уперев разлапистые тугие шасси. Взятый на буксирную штангу, прикрепленный к работающему, извергающему дымки тягачу, он медленно двигался по цеху к далеким воротам, сквозь которые открывался перламутровый прогал. – Куда увозят челнок?
– Его купил у завода один банкир, еврей-толстосум. Хочет поставить его на каком-нибудь людном месте. Сделать в нем казино или ночной клуб. Директор решил продать. Хоть какая-то зарплата рабочим!
«Буран», медлительный, усыпленный, с темной повязкой на глазах, послушно следовал за тягачом. Его вывозили на поруганье, на публичную казнь, на закланье. И где-то уже кипела народом площадь, собирались зеваки, обступали эшафот. Готовились ахать и ужасаться, глядя, как палач разрубает на части могучее белое тело, вышвыривает на доски трепещущие ломти.
– Убивать их, обсосков! – тихо, почти шепотом, сказал генерал. – Стрелять их буду своими руками! Поклялся и клятву сдержу!
Он был серый, с полузакрытыми глазами, с жесткой щеткой усов. На лице отчетливо проступили оспины и рубцы давнишних ран и ожогов.
Они уезжали с завода. В машине, сидя за сутулой спиной охранника, генерал сказал Хлопьянову:
– Я вас понял. Дней через десять дам ответ. Вы слышали, будет конгресс «Фронта национального спасения». Найдете меня, потолкуем.
Он умолк, нахохлился, погрузился в тяжелую дрему. Глаза были прикрыты коричневыми усталыми веками.
Глава седьмая
Видение, моментальное, как проблеск в зрачках. Песчаный откос над рекой, желтый сыпучий песок, осколок перламутровой раковины, и, толкаясь голыми пятками, сволакивая жидкую осыпь, кинуться в воду, ударить горячей грудью, вонзиться в темный холод, в блуждание зеленоватых лучей. Но это лишь миг, видение. Близко, у самых глаз ее белое плечо, дышащая грудь, шепчущие жадные губы.
И снова, как наваждение из глубин разбуженной памяти. Поле с сырой стерней, смятый цветок ромашки, печаль одинокой души, затерянной среди холодных равнин. Но вдали в небесах – движение света, упавший на землю луч зажег бугры и дубравы, Прилетел, примчался, преобразил весь мир в красоту. Золотое сверканье стерни, далекая белизна колокольни, цветок драгоценной ромашки. Но это лишь миг единый. Ее волосы на подушке. Горячая от поцелуев щека. Скользнувшая по губам сережка.
И опять случайное, примчавшееся из далеких пространств видение. Белый стекленеющий наст. Розовая яблоня в голом саду. Морозная синь в ветвях. Хрупкий след пробежавшей лисицы. Из горячей избы, в одной рубахе, чувствуя, как жалит мороз, он смотрит на розовый сад, на легкий проблеск лыжни, на летящую в зеленоватом небе сороку. Возникло и кануло. Ее влажные раскрытые губы. И он не дает ей шептать, вдыхает в нее свой жар.
Летнее широкое поле, одинокий могучий дуб. Он издали видит, как в черную крону снижаются быстрые птицы. Стая витютеней скрылась в ветвях, среди листьев, невидимые, бьются их жаркие после полета сердца, мерцают круглые розовые глаза. Он хочет увидеть птиц, идет через поле к дубу. Густая трава под ногами. Тень могучего дерева. Внезапно, как взрыв, в громе, плеске из разорванной кроны взлетают птицы, вынося за собой ворох лучей и крыльев, уносятся к солнцу. Темная комната. Без сил, без движений они лежат, касаясь друг друга. Ее рука с прохладным колечком на его бездыханной груди.
Город, накаленный за день, не остывал и ночью. Хранил в своих каменных теснинах душное дневное тепло. Горячий воздух скатывался с железных кровель, сливался по желобам и водостокам. Машины скользили в бархатной жаркой тьме, как в воде, проталкивали огни сквозь вязкую непрозрачную толщу.
Они лежали у открытого, с отброшенной занавеской окна. Он чувствовал грудью языки жара, сквозь прикрытые веки различал быстрые серебристые отсветы. То ли отражения фар, то ли зарницы далекой, не приближавшейся к городу тучи.
– Будет гроза, – сказала она. – К утру будет дождь. Проснемся, а за окном дождь.
– Хочу, чтобы утром вышли вместе на улицу, и был дождь. Ты раскроешь зонтик, мы пошлепаем под дождем, двое под одним твоим зонтиком.
– Хочешь пить? У меня есть вкусный сок. Принесу?
– Не хочу, чтоб вставала. Хорошо лежать. Как в Ишерах, – только небо в звездах, и море шумит.
– У меня есть черешня. Принесу? Будешь лежать и есть.
– Не хочу, чтоб ты уходила.
Он дорожил неподвижностью, остановившимся временем, недвижной далекой тучей, застывшей на подступах к городу. Этой краткой тишиной перед бурей, неизбежными злоключениями дня.
– Я совершил первые встречи, побывал у людей, которые называют себя оппозицией, – он говорил, как привык говорить с ней в прежние времена. Находил наслаждение в самом разговоре, выговариваясь и лучше понимая себя. Искал в ее ответных суждениях не прямые, но верные подтверждения своим переживаниям и догадкам. – Все эти люди сделаны из разного теста. Не понимаю, как можно испечь из них общий пирог. Одни, коммунисты, верят в Царство Божие на земле. Другие, монархисты, грезят абсолютной монархией. Те видеть не желают красный флаг и звезду. Те называют двуглавого орла чернобыльской птичкой. Мой знакомый редактор Клокотов добрый идеалист и романтик. А Красный генерал готов рубить головы. И все они не хотят меня слушать, не готовы воспользоваться моим опытом и умением. Риторы, проповедники, не расположены к организаторской конспиративной работе. А без этого нет победы!
– Зачем рубить чьи-то головы? Зачем тебе конспирация? – она протестовала, умоляла его. Вела рукой по его лбу и бровям, словно отводила дурные мысли, прогоняла наваждение. И он вслед за ее исчезающими пальцами увидел березовую прозрачную ветку, и сквозь мелкие листы и сережки голубой ветренный пруд и белую стаю уток. – Мало ты воевал? Мало боролся? Теперь ты со мной. Никто за тобой не гонится, никто не стреляет. Зачем тебе оппозиция?
– Может, я неправильно высказался. Все они прекрасные люди. Лучших сегодня и нет. Готовы жертвовать, не помышляют о личном. Но они не способны к серьезной борьбе, без которой невозможна победа. – Он не уцерживал ее проскользнувшую руку, утекавшее следом видение пруда и уток. Знал, рука ее снова коснется лба и бровей и следом вернется видение.
– Ты мне сказал, что у Клокотова познакомился с отцом Владимиром. Удивительное совпадение! Я рассказывала ему о тебе, а он: «Да я его знаю!» Он сказал, что ты на перепутье, не знаешь куда податься. Хочет повести тебя к отцу Филадельфу. Замечательный монах, предсказатель. Он тебя научит, что делать.
– Да я как-то далек от этого, – он осторожно отказывался, не желая ее огорчать. Боялся задеть в ней нечто ему непонятное, но для нее драгоценное и живое. – Далек от церкви, от Бога. Наверное, чувствую его, догадываюсь, что он есть. Но жизнь вела меня совсем другими дорогами. Вот природа – это и есть мой Бог! В нее верую, к ней обращаюсь, в ней нахожу все ответы. В ней для меня и Бог, и Родина, и бессмертие. А храм, купола? Издали смотрю, как белеет церквушка, и на сердце теплеет.
– Ты к Богу еще не пришел. Но ты обязательно придешь! Ты пережил такое, совершил такое! Одна половина твоей души сгорела, а другая ищет, на что опереться. Хочешь опереться на то, что само пошатнулось! А ты соверши над собой усилие, пойди к отцу Филадельфу. Он найдет для тебя особое слово. Ты услышишь, поверишь!
– Не знаю, – сказал он, пугаясь ее страстности, ее настойчивых уверений, которыми она уводила его от намеченной цели. – Должно быть, у меня есть моя вера или мое суеверие. На войне, например, перед боем не бреюсь. Или не фотографируюсь у борта вертолета. Или не беру с собой в бой гильзу, куда замуровано мое имя и личный номер. Обещаю кому-то, наверное Богу, если выживу, сделаю какое-нибудь доброе дело, отстану от какой-нибудь скверной привычки. Но ведь ты говоришь о другом.