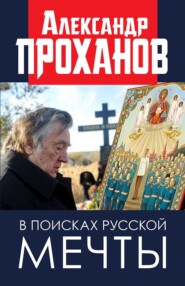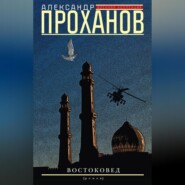По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пепел
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но ты не можешь так поступить. Это безумие. Нас столько связывает… Мы уже повенчаны. Мы не должны расставаться.
– Я знаю, это жестоко с моей стороны, даже подло. Но ты поймешь. Ты всегда понимала возвышенные побуждения. Мною движет не честолюбие, не погоня за славой. Это судьба, вихрь, который в меня вселился, странный и загадочный зов. Будто кто-то свыше уверяет меня в моем предназначении, наделяет меня неповторимой судьбой, обещает чудо. Не знаю, в чем это чудо, но мне его обещают.
– Чудо, это когда два человека любят друг друга. Когда у них рождаются дети. Когда вдвоем они спасаются от разрушительных и жестоких сил, сберегают семью, детей. Разве ты можешь так разом разрушить все, что нас связывает?
Та студенческая вечеринка, где они познакомились и он увлек ее, отобрал у долговязого, в очках филолога, который был в нее влюблен. Их прогулки по Москве, исполненная остроумием игра, в которой они состязались в молодом острословии, в вычурных и виртуозных высказываниях, дразня и восхищая друг друга. Домик Васнецова с тяжелой открытой калиткой, зимним палисадником, на который из желтого резного окна льется волшебный свет, и он обнимает ее, ласкает под шубой ее горячую грудь, жадно, до помрачения целует ее пухлые губы, ее закрытые глаза, ловит под варежкой ее тонкие чудные пальцы. Их близость у нее дома, когда не было ее домочадцев, и за окнами плескал и шумел московский дождь, и в открытое окно залетел зеленый свет фонаря, окруженного распустившимися тополями. И ослепительная, много раз повторяемая вспышка, уносящая их в сладкую и ужасную бесконечность, после которой они лежали неподвижные и пустые, как две раковины на отмели. Сколько было нежности, восхитительных мечтаний, стихов. Сколько было молодых торопливо произносимых слов, которые приближали их к последнему признанию, к последнему откровению, после чего они станут неразлучны. Теперь весь этот восхитительный, казавшийся драгоценным мир отлетал, и это он сам оттолкнул его, в своем слепом разрушительном порыве.
– Ну, хорошо, ну, поезжай. Пиши свою «Голубиную книгу». Я стану тебя навещать, разделю твои труды.
– Это невозможно. Мне нужно быть одному.
– Ну, будь один. Напиши свою книгу и возвращайся. Я буду тебя ждать, как ждали ушедших на войну.
– С этой войны я не вернусь. Ты меня не дождешься.
– Но, может быть, ты одумаешься. Твое наваждение пройдет.
– Это не наваждение, и оно не пройдет.
Ее лицо казалось несчастным, с маленькими горькими складками у губ. И эти складки становились глубже, темней, и лицо ее, такое очаровательное, милое, вдруг постарело, в нем появилась жестокость, словно проступили черты ее будущей старости. И она, отпуская его, отвергая, мстя напоследок, так чтобы этой местью причинить ему непроходящую боль, сказала:
– В тебе всегда ощущались вероломство и зыбкость. Твой образ всегда двоился, как отражение на воде. Ты одержим безумной идеей, в жертву которой приносишь истинные человеческие чувства. Ты никогда не станешь писателем, для этого у тебя нет дарования. Ты изнасилуешь свой маленький талант, и он умрет, как выкидыш. Неудачником, уязвленным, несчастным, ты вернешься из лесов в Москву, будешь искать свое прошлое, но не найдешь. Ты стольких людей делаешь несчастными, стольких людей обманул, что они будут бежать от одного твоего вида и голоса. Не ты от меня уходишь, а я от тебя ухожу. Не смей! – воскликнула она, когда он хотел тронуть ее руку. – Не смей ко мне прикасаться! Ненавижу! – И она ушла, исчезая в огненных всплесках. А он стоял под дождем, чувствуя освобождение, и в этой открывшейся свободе раскручивался вихрь, брал его на свои свистящие лопасти, уносил из Москвы.
Он уезжал из города на утренней полупустой электричке. В его потертом вещевом мешке были уложены матерью теплое белье и носки. Упакованные бабушкой бутерброды. Там лежало несколько книг. На крюке у окна висел брезентовый чехол с разобранной двустволкой, и он, прислонившись головой, чувствовал металлический ствол. Он смотрел, как желтеют деревянные вагонные лавки, как за тусклым окном плывут угрюмые заводы и склады, и в черном небе багрово горит предпраздничная неоновая надпись «45 лет Октября».
ГЛАВА 2
После городских треволнений, мучительных объяснений с друзьями и близкими он вдруг оказался среди огромной, сумрачной красоты осенних лесов, в которых витали молчаливые могучие духи русской природы. Теперь он работал в лесничестве лесным объездчиком. У него не было лошади. Леса, отданные ему в опеку, он обходил пешком, по лесным разбухшим дорогам и туманным просекам, часто плутая, забредая в непролазные чащи, выходя к незнакомым опушкам. Оттуда открывались мглистые, красно-золотые пространства, серые, затуманенные дождями деревни, таинственные иконостасы и нимбы. Среди них реяли едва различимые духи, их прозрачные крылья, их невесомые тела. И он, закинув за плечи двустволку, созерцал перемещение этих загадочных существ, молился на иконостасы лесов, чувствовал свою молодость, одиночество и свободу как ниспосланную благодать.
У него в подчинении находилось пять лесников, живших в пяти окрестных деревнях. Это были зрелые деревенские мужики, повидавшие войну, тертые жизнью, суровые философы, смышленые хитрецы, бражные. Они восприняли его появление как необременительную странность, не слишком досадную случайность, которая не помешает их заработкам, охотам, лесным, с бутылкой водки, посиделкам, когда они обмывали с артелью заезжих лесорубов вырубку дровяной делянки, получая с этой делянки неучтенный навар.
Он поселился в селе Красавино, на берегу речки Вери, темной от дождей, что петляла среди луговин и холмов, с мостом, голыми ивами, черным, разбитым копытами берегом, куда летом выходило на водопой стадо.
Хозяйка старенькой, с латаной крышей избушки, взявшая его на постой, маленькая, быстрая, с веселым говорком тетя Поля, была стареющей вдовой, как и ее подруги, не дождавшиеся с войны мужей. Она пустила Суздальцева за скромную плату, составлявшую половину его более чем скудного заработка. Отвела ему за перегородкой место, где помещалась высокая железная кровать, утлый стол, белела своим известковым боком русская печь.
– Будем жить, Петруха. От тебя дрова и квартирные, от меня капуста, картошка. Глядишь, ты из леса зайца или рябчика принесешь. А нет, курочки яичко снесут. Живи на здоровье.
И он зажил новой, незнакомой жизнью, чувствуя, как все еще болят и мучают отломленные и отсеченные связи. Временами пугался этой новизны, но этот испуг сменялся восторженным ощущением воли, ожиданием восхитительного будущего.
Теперь он шел через туманное поле. Его клеенчатый плащ блестел от дождя. На плече висела двустволка, из которой за всю неделю он не сделал ни единого выстрела. В брезентовом рюкзаке болталось клеймо – стальной двусторонний молоток с рельефной звездой и пятизначным номером, которые давали клейму статус государственного знака. Знак ударом наносился на срубленное в лесу дерево. Там же, в рюкзаке, помещалась мерная линейка, которой замерялась толщина ствола, определялся объем древесины.
Он шел в лес, где поджидали его лесники у груды спиленных бревен, которые надлежало обмерить, заклеймить, погрузить на трактор и отправить в лесничество. Там распродать драгоценный товар на строительные нужды окрестных совхозов. Это было первое, полученное от лесничего задание, и он торопился, чтобы прилежно его исполнить.
Он шел через просторное поле, по рыжей стерне, чувствуя сырую мякоть земли. Лес из тумана медленно приближался, молчаливый, тревожный, наблюдавший за ним множеством таинственных глаз. Туманные деревья вышли на край поля и наблюдали за ним. Темно-синие, фиолетовые, огненно-желтые, красные, они казались загадочным племенем со своими царями, князьями и пастырями. Смотрели, как он приближается. Безмолвно вопрошали – кто он такой, чего ждать от его появления. Он обращал к ним свое разгоряченное ветром лицо, убеждал их, что в его помыслах была одно добро.
Петр приблизился к стоящим на опушке березам с легчайшей, оставшейся на них позолотой. Березы расступились и пустили его в туманный сумрак с проблесками тихого света. Осины тянули в небо сизые стволы с голыми рогатыми вершинами. Листва, золотая и красная, устилала подножья осин, густо, тяжело шуршала под ногами. Он зачерпнул с земли сырой ворох, окунул в него лицо и дышал, вкушал чистые грустные ароматы. Чувствовал на щеках их круглые отпечатки. Осыпал себя этим ворохом, и листья приклеились к его груди, как золотые медали.
Громадные ели с черными шершавыми стволами протянули ему свои зеленые руки для поцелуев, как торжественные великанши, оказывающие ему милость. И он целовал их персты, усыпанные каплями дождя, похожими на холодные бриллианты. Густой темно-зеленый мох был пропитан водой, как губка, и в нем краснела череда мухоморов, словно кто-то брызнул кистью и оставил сочные, все уменьшающиеся красные кляксы. Он тронул красную, в белых крапинах, шляпку гриба, передавая прикосновением свою нежность. Услышал быстрый трепетный звук, удалявшийся в елках полет. Это рябчик покинул еловую ветку, перелетел на другую, забился в хвою. И не было желания стянуть с плеча ружье, красться по мхам, отыскивая в вышине рябую серую птицу. Было довольно услышать ее полет, знать, что где-то рядом бьется ее испуганное малое сердце.
Лес клал ему на голову тяжелые лапы, осенял высокими крестами, окроплял блестящими каплями. Принимал в свои туманы и чащи. Вешал на грудь ордена и медали.
Среди сырых и холодных запахов заструился запах табака. Послышались голоса. Раскисшая дорога повернулась, и он увидел синий трактор, въехавший в колею, прицеп с отброшенными бортами, груду распиленных, с одинаковыми круглыми срезами бревен, и на них – лесников в телогрейках, куртках, вязаных свитерах, в резиновых и кирзовых сапогах.
– Начальство идет, – хмуро хмыкнул лесник Одиноков в потертой «летческой» куртке и мятой кепке, обратив к Суздальцеву помятое синеглазое лицо, исполненное пренебрежения – не к Суздальцеву, а ко всему суетному, не заслуживающему внимания бытию, среди которого он по недоразумению оказался.
– Андреич, долго спишь! – Лесник Ратников, тучный, с толстым животом и смеющимися заплывшими глазками был в телогрейке и мятой фетровой шляпе, к которой прикоснулся при появлении Суздальцева, изображая мнимое к нему почтение.
– Небось Пелагея Каверина ему свою постель уступила. На перине у бабы сладко спать, – со знанием дела заметил лесник Полунин, с малиновым румянцем на скуластом лице, воловьими глазами, разделенными коротким с большими ноздрями носом. На голове его красовалась фуражка лесника с бархатным зеленым околышком и дубовыми ветками.
– Че зря брешешь, – осудил его лесник Капралов, дико сверкнув стеклянным вставным глазом, перебросив с места на место негнущуюся, с протезом, ногу. – Пелагея Каверина вдова; в матери, а то и в бабки ему годится.
– Какая барыня ни будь, все равно ее ебуть. – Одиноков презрительно сплюнул, выставив нижнюю, с простудной болячкой губу, а Суздальцева обожгла эта циничная присказка, казалось, произнесенная специально для него, чтобы уязвить и испытать его, городского чистюлю, ниспосланного им в начальники.
– Ладно, Андреич, все брехня. Давай клейми. – Лесник Кондратьев, серьезный и озабоченный, похожий на толстенького хомячка с синими бисерными глазами, желтыми резцами на небритом лице, казалось, заслонял Суздальцева от иронии и тайной неприязни мужиков, не готовых подчиняться городскому юнцу, поставленному надзирать за ними.
Тракторист с измызганными маслеными руками сидел поодаль, курил цигарку, выпуская дым, вяло улетавший к сырым вершинам.
Суздальцев чувствовал, что подвергается испытанию, что каждый его взгляд и движение исследуются, берутся на заметку. Лесники решали, как обходиться с этим молодым чужаком, – смириться, принять в свой круг, погрузить в свои мужицкие дела или отвергнуть, заслониться от него стеною циничных шуток и презрительных насмешек, делающих невозможным их общение.
Суздальцев извлек из рюкзака мерную линейку, клеймо на длинной рукоятке. Подошел к торцам спиленных сосновых бревен и, чувствуя зоркие испытующие взгляды лесников, размахнулся клеймом и ударил в торец. Звук удара прошел сквозь ствол и, казалось, излетел с противоположной стороны звонким хлопком. От удара остался отпечаток звезды, помещенной в круг, и второй удар запечатлел рядом круг с пятизначным числом. Сосновый торец, янтарно-желтый, был взят на учет, и он, Суздальцев, был представитель государства, пресекавший всякую попытку воровских незаконных порубок, направлявший каждое спиленное дерево в копилку рачительного государства.
Он держал длинную рукоятку увесистого литого клейма. Размахивался, прицельно бил от торца к торцу, и лес гулко откликался на его меткие звонкие удары. Лесники смотрели, не делая замечаний, молча одобряли его работу.
– Ну, давай, измеряй кубометры! – торопил Кондратьев, когда все бревна получили тавро. – Кубов шесть будет.
Суздальцев раздвинул мерную линейку, помещая в нее кругляки бревен, зажимая между рейками чешуйчатый красно-смолистый ствол. Снимал размеры, умножал на длину, записывал столбиком результаты обмеров в блокнот. Лесники за ним наблюдали. Он замечал их пристальную зоркость, настороженное беспокойство, придирчивый, недоверчивый взгляд. Не понимал еще причину этого молчаливого зоркого слежения.
– Сколько? – спросил Ратников.
– Восемь с половиной кубов, – ответил Суздальцев, готовясь записать результат в накладную.
– Пиши шесть, – сказал Ратников.
– Почему? – удивился Суздальцев.
– Два с половиной куба спишем. Сережка Кондратьев избу ставит. Ему отдадим два куба.
Лесники молча обступили его, Сергей Кондратьев мигал синими пуговками глаз, нервно щурился, открывая желтые кроличьи резцы. Суздальцев понимал, что подвергается испытанию, мучительному искушению: сохранить ли за собой роль блюстителя государственных интересов, хранителя символа государственной власти, отпечатавшего на сосновых бревнах пятиконечную звезду, – или перейти на сторону этих тертых жизнью, измятых войной, деревенской заботой мужиков, которые находились в невидимой непрерывной борьбе с государством, пытаясь выскользнуть из его цепких безжалостных рук. Ему предлагалось выбрать между этими мужиками и государством, обмануть государство и уступить мужикам малый ломоть государственной собственности. Он выбирал между государством, доверившим ему клеймо со звездой, и мужиками, просившими его о незаконной услуге. И мучаясь, неуверенный в своей правоте, он выбрал мужиков, их телогрейки, измызганные сапоги, их синие глаза на утомленных плохо выбритых лицах.
– Пишу шесть кубов, – сказал он и заполнил накладную. Лесники облегченно вздохнули.
– Спасибо, Андреич, – сказал Кондратьев, жадно оглядывая бревна, часть из которых перекочует в его деревню, и он с помощником оседлает красный ствол и плотницким топором станет шкурить, отесывать, звонко сбивать остатки сучков, откатывая обработанные бревна к тем, что лягут венцами в его новый дом.
– Давай, мужики, грузить, – весело крякнул Ратников, подмигнул Суздальцеву и стал подхватывать комель бревна. – Давай, Андреич, с другого конца.
Суздальцев ухватил бревно, вместе с Ратниковым они подняли его, тяжело, мгновенно покраснев лицами, перенесли к тракторному прицепу, вкатили и толкнули, слыша, как хрустит, перекатывается по днищу кузова бревно. – Красный лес, самый лучший для дома, – сказал Ратников, стряхивая с темных ладоней чешуйки коры.
Лесники хватали бревна, грузили в трактор, закатывали в глубину, натужно ахали, подбадривали друг дуга. Суздальцев работал со всеми, пачкался смолой, напрягал что есть силы свои молодые мускулы, старался не уступать корявым, сильным, умелым мужикам. Радовался тому, что принят ими в их круг, совершает вместе с ними тяжкую, артельную работу. Устает в этой работе, приобщается этой работой к трудам и заботам людей. Эти русские люди населяли темные деревни, окруженные родными лесами, любимыми реками, сырыми проселками, по которым он вышел в свой путь, загадочный и прекрасный.
– Я знаю, это жестоко с моей стороны, даже подло. Но ты поймешь. Ты всегда понимала возвышенные побуждения. Мною движет не честолюбие, не погоня за славой. Это судьба, вихрь, который в меня вселился, странный и загадочный зов. Будто кто-то свыше уверяет меня в моем предназначении, наделяет меня неповторимой судьбой, обещает чудо. Не знаю, в чем это чудо, но мне его обещают.
– Чудо, это когда два человека любят друг друга. Когда у них рождаются дети. Когда вдвоем они спасаются от разрушительных и жестоких сил, сберегают семью, детей. Разве ты можешь так разом разрушить все, что нас связывает?
Та студенческая вечеринка, где они познакомились и он увлек ее, отобрал у долговязого, в очках филолога, который был в нее влюблен. Их прогулки по Москве, исполненная остроумием игра, в которой они состязались в молодом острословии, в вычурных и виртуозных высказываниях, дразня и восхищая друг друга. Домик Васнецова с тяжелой открытой калиткой, зимним палисадником, на который из желтого резного окна льется волшебный свет, и он обнимает ее, ласкает под шубой ее горячую грудь, жадно, до помрачения целует ее пухлые губы, ее закрытые глаза, ловит под варежкой ее тонкие чудные пальцы. Их близость у нее дома, когда не было ее домочадцев, и за окнами плескал и шумел московский дождь, и в открытое окно залетел зеленый свет фонаря, окруженного распустившимися тополями. И ослепительная, много раз повторяемая вспышка, уносящая их в сладкую и ужасную бесконечность, после которой они лежали неподвижные и пустые, как две раковины на отмели. Сколько было нежности, восхитительных мечтаний, стихов. Сколько было молодых торопливо произносимых слов, которые приближали их к последнему признанию, к последнему откровению, после чего они станут неразлучны. Теперь весь этот восхитительный, казавшийся драгоценным мир отлетал, и это он сам оттолкнул его, в своем слепом разрушительном порыве.
– Ну, хорошо, ну, поезжай. Пиши свою «Голубиную книгу». Я стану тебя навещать, разделю твои труды.
– Это невозможно. Мне нужно быть одному.
– Ну, будь один. Напиши свою книгу и возвращайся. Я буду тебя ждать, как ждали ушедших на войну.
– С этой войны я не вернусь. Ты меня не дождешься.
– Но, может быть, ты одумаешься. Твое наваждение пройдет.
– Это не наваждение, и оно не пройдет.
Ее лицо казалось несчастным, с маленькими горькими складками у губ. И эти складки становились глубже, темней, и лицо ее, такое очаровательное, милое, вдруг постарело, в нем появилась жестокость, словно проступили черты ее будущей старости. И она, отпуская его, отвергая, мстя напоследок, так чтобы этой местью причинить ему непроходящую боль, сказала:
– В тебе всегда ощущались вероломство и зыбкость. Твой образ всегда двоился, как отражение на воде. Ты одержим безумной идеей, в жертву которой приносишь истинные человеческие чувства. Ты никогда не станешь писателем, для этого у тебя нет дарования. Ты изнасилуешь свой маленький талант, и он умрет, как выкидыш. Неудачником, уязвленным, несчастным, ты вернешься из лесов в Москву, будешь искать свое прошлое, но не найдешь. Ты стольких людей делаешь несчастными, стольких людей обманул, что они будут бежать от одного твоего вида и голоса. Не ты от меня уходишь, а я от тебя ухожу. Не смей! – воскликнула она, когда он хотел тронуть ее руку. – Не смей ко мне прикасаться! Ненавижу! – И она ушла, исчезая в огненных всплесках. А он стоял под дождем, чувствуя освобождение, и в этой открывшейся свободе раскручивался вихрь, брал его на свои свистящие лопасти, уносил из Москвы.
Он уезжал из города на утренней полупустой электричке. В его потертом вещевом мешке были уложены матерью теплое белье и носки. Упакованные бабушкой бутерброды. Там лежало несколько книг. На крюке у окна висел брезентовый чехол с разобранной двустволкой, и он, прислонившись головой, чувствовал металлический ствол. Он смотрел, как желтеют деревянные вагонные лавки, как за тусклым окном плывут угрюмые заводы и склады, и в черном небе багрово горит предпраздничная неоновая надпись «45 лет Октября».
ГЛАВА 2
После городских треволнений, мучительных объяснений с друзьями и близкими он вдруг оказался среди огромной, сумрачной красоты осенних лесов, в которых витали молчаливые могучие духи русской природы. Теперь он работал в лесничестве лесным объездчиком. У него не было лошади. Леса, отданные ему в опеку, он обходил пешком, по лесным разбухшим дорогам и туманным просекам, часто плутая, забредая в непролазные чащи, выходя к незнакомым опушкам. Оттуда открывались мглистые, красно-золотые пространства, серые, затуманенные дождями деревни, таинственные иконостасы и нимбы. Среди них реяли едва различимые духи, их прозрачные крылья, их невесомые тела. И он, закинув за плечи двустволку, созерцал перемещение этих загадочных существ, молился на иконостасы лесов, чувствовал свою молодость, одиночество и свободу как ниспосланную благодать.
У него в подчинении находилось пять лесников, живших в пяти окрестных деревнях. Это были зрелые деревенские мужики, повидавшие войну, тертые жизнью, суровые философы, смышленые хитрецы, бражные. Они восприняли его появление как необременительную странность, не слишком досадную случайность, которая не помешает их заработкам, охотам, лесным, с бутылкой водки, посиделкам, когда они обмывали с артелью заезжих лесорубов вырубку дровяной делянки, получая с этой делянки неучтенный навар.
Он поселился в селе Красавино, на берегу речки Вери, темной от дождей, что петляла среди луговин и холмов, с мостом, голыми ивами, черным, разбитым копытами берегом, куда летом выходило на водопой стадо.
Хозяйка старенькой, с латаной крышей избушки, взявшая его на постой, маленькая, быстрая, с веселым говорком тетя Поля, была стареющей вдовой, как и ее подруги, не дождавшиеся с войны мужей. Она пустила Суздальцева за скромную плату, составлявшую половину его более чем скудного заработка. Отвела ему за перегородкой место, где помещалась высокая железная кровать, утлый стол, белела своим известковым боком русская печь.
– Будем жить, Петруха. От тебя дрова и квартирные, от меня капуста, картошка. Глядишь, ты из леса зайца или рябчика принесешь. А нет, курочки яичко снесут. Живи на здоровье.
И он зажил новой, незнакомой жизнью, чувствуя, как все еще болят и мучают отломленные и отсеченные связи. Временами пугался этой новизны, но этот испуг сменялся восторженным ощущением воли, ожиданием восхитительного будущего.
Теперь он шел через туманное поле. Его клеенчатый плащ блестел от дождя. На плече висела двустволка, из которой за всю неделю он не сделал ни единого выстрела. В брезентовом рюкзаке болталось клеймо – стальной двусторонний молоток с рельефной звездой и пятизначным номером, которые давали клейму статус государственного знака. Знак ударом наносился на срубленное в лесу дерево. Там же, в рюкзаке, помещалась мерная линейка, которой замерялась толщина ствола, определялся объем древесины.
Он шел в лес, где поджидали его лесники у груды спиленных бревен, которые надлежало обмерить, заклеймить, погрузить на трактор и отправить в лесничество. Там распродать драгоценный товар на строительные нужды окрестных совхозов. Это было первое, полученное от лесничего задание, и он торопился, чтобы прилежно его исполнить.
Он шел через просторное поле, по рыжей стерне, чувствуя сырую мякоть земли. Лес из тумана медленно приближался, молчаливый, тревожный, наблюдавший за ним множеством таинственных глаз. Туманные деревья вышли на край поля и наблюдали за ним. Темно-синие, фиолетовые, огненно-желтые, красные, они казались загадочным племенем со своими царями, князьями и пастырями. Смотрели, как он приближается. Безмолвно вопрошали – кто он такой, чего ждать от его появления. Он обращал к ним свое разгоряченное ветром лицо, убеждал их, что в его помыслах была одно добро.
Петр приблизился к стоящим на опушке березам с легчайшей, оставшейся на них позолотой. Березы расступились и пустили его в туманный сумрак с проблесками тихого света. Осины тянули в небо сизые стволы с голыми рогатыми вершинами. Листва, золотая и красная, устилала подножья осин, густо, тяжело шуршала под ногами. Он зачерпнул с земли сырой ворох, окунул в него лицо и дышал, вкушал чистые грустные ароматы. Чувствовал на щеках их круглые отпечатки. Осыпал себя этим ворохом, и листья приклеились к его груди, как золотые медали.
Громадные ели с черными шершавыми стволами протянули ему свои зеленые руки для поцелуев, как торжественные великанши, оказывающие ему милость. И он целовал их персты, усыпанные каплями дождя, похожими на холодные бриллианты. Густой темно-зеленый мох был пропитан водой, как губка, и в нем краснела череда мухоморов, словно кто-то брызнул кистью и оставил сочные, все уменьшающиеся красные кляксы. Он тронул красную, в белых крапинах, шляпку гриба, передавая прикосновением свою нежность. Услышал быстрый трепетный звук, удалявшийся в елках полет. Это рябчик покинул еловую ветку, перелетел на другую, забился в хвою. И не было желания стянуть с плеча ружье, красться по мхам, отыскивая в вышине рябую серую птицу. Было довольно услышать ее полет, знать, что где-то рядом бьется ее испуганное малое сердце.
Лес клал ему на голову тяжелые лапы, осенял высокими крестами, окроплял блестящими каплями. Принимал в свои туманы и чащи. Вешал на грудь ордена и медали.
Среди сырых и холодных запахов заструился запах табака. Послышались голоса. Раскисшая дорога повернулась, и он увидел синий трактор, въехавший в колею, прицеп с отброшенными бортами, груду распиленных, с одинаковыми круглыми срезами бревен, и на них – лесников в телогрейках, куртках, вязаных свитерах, в резиновых и кирзовых сапогах.
– Начальство идет, – хмуро хмыкнул лесник Одиноков в потертой «летческой» куртке и мятой кепке, обратив к Суздальцеву помятое синеглазое лицо, исполненное пренебрежения – не к Суздальцеву, а ко всему суетному, не заслуживающему внимания бытию, среди которого он по недоразумению оказался.
– Андреич, долго спишь! – Лесник Ратников, тучный, с толстым животом и смеющимися заплывшими глазками был в телогрейке и мятой фетровой шляпе, к которой прикоснулся при появлении Суздальцева, изображая мнимое к нему почтение.
– Небось Пелагея Каверина ему свою постель уступила. На перине у бабы сладко спать, – со знанием дела заметил лесник Полунин, с малиновым румянцем на скуластом лице, воловьими глазами, разделенными коротким с большими ноздрями носом. На голове его красовалась фуражка лесника с бархатным зеленым околышком и дубовыми ветками.
– Че зря брешешь, – осудил его лесник Капралов, дико сверкнув стеклянным вставным глазом, перебросив с места на место негнущуюся, с протезом, ногу. – Пелагея Каверина вдова; в матери, а то и в бабки ему годится.
– Какая барыня ни будь, все равно ее ебуть. – Одиноков презрительно сплюнул, выставив нижнюю, с простудной болячкой губу, а Суздальцева обожгла эта циничная присказка, казалось, произнесенная специально для него, чтобы уязвить и испытать его, городского чистюлю, ниспосланного им в начальники.
– Ладно, Андреич, все брехня. Давай клейми. – Лесник Кондратьев, серьезный и озабоченный, похожий на толстенького хомячка с синими бисерными глазами, желтыми резцами на небритом лице, казалось, заслонял Суздальцева от иронии и тайной неприязни мужиков, не готовых подчиняться городскому юнцу, поставленному надзирать за ними.
Тракторист с измызганными маслеными руками сидел поодаль, курил цигарку, выпуская дым, вяло улетавший к сырым вершинам.
Суздальцев чувствовал, что подвергается испытанию, что каждый его взгляд и движение исследуются, берутся на заметку. Лесники решали, как обходиться с этим молодым чужаком, – смириться, принять в свой круг, погрузить в свои мужицкие дела или отвергнуть, заслониться от него стеною циничных шуток и презрительных насмешек, делающих невозможным их общение.
Суздальцев извлек из рюкзака мерную линейку, клеймо на длинной рукоятке. Подошел к торцам спиленных сосновых бревен и, чувствуя зоркие испытующие взгляды лесников, размахнулся клеймом и ударил в торец. Звук удара прошел сквозь ствол и, казалось, излетел с противоположной стороны звонким хлопком. От удара остался отпечаток звезды, помещенной в круг, и второй удар запечатлел рядом круг с пятизначным числом. Сосновый торец, янтарно-желтый, был взят на учет, и он, Суздальцев, был представитель государства, пресекавший всякую попытку воровских незаконных порубок, направлявший каждое спиленное дерево в копилку рачительного государства.
Он держал длинную рукоятку увесистого литого клейма. Размахивался, прицельно бил от торца к торцу, и лес гулко откликался на его меткие звонкие удары. Лесники смотрели, не делая замечаний, молча одобряли его работу.
– Ну, давай, измеряй кубометры! – торопил Кондратьев, когда все бревна получили тавро. – Кубов шесть будет.
Суздальцев раздвинул мерную линейку, помещая в нее кругляки бревен, зажимая между рейками чешуйчатый красно-смолистый ствол. Снимал размеры, умножал на длину, записывал столбиком результаты обмеров в блокнот. Лесники за ним наблюдали. Он замечал их пристальную зоркость, настороженное беспокойство, придирчивый, недоверчивый взгляд. Не понимал еще причину этого молчаливого зоркого слежения.
– Сколько? – спросил Ратников.
– Восемь с половиной кубов, – ответил Суздальцев, готовясь записать результат в накладную.
– Пиши шесть, – сказал Ратников.
– Почему? – удивился Суздальцев.
– Два с половиной куба спишем. Сережка Кондратьев избу ставит. Ему отдадим два куба.
Лесники молча обступили его, Сергей Кондратьев мигал синими пуговками глаз, нервно щурился, открывая желтые кроличьи резцы. Суздальцев понимал, что подвергается испытанию, мучительному искушению: сохранить ли за собой роль блюстителя государственных интересов, хранителя символа государственной власти, отпечатавшего на сосновых бревнах пятиконечную звезду, – или перейти на сторону этих тертых жизнью, измятых войной, деревенской заботой мужиков, которые находились в невидимой непрерывной борьбе с государством, пытаясь выскользнуть из его цепких безжалостных рук. Ему предлагалось выбрать между этими мужиками и государством, обмануть государство и уступить мужикам малый ломоть государственной собственности. Он выбирал между государством, доверившим ему клеймо со звездой, и мужиками, просившими его о незаконной услуге. И мучаясь, неуверенный в своей правоте, он выбрал мужиков, их телогрейки, измызганные сапоги, их синие глаза на утомленных плохо выбритых лицах.
– Пишу шесть кубов, – сказал он и заполнил накладную. Лесники облегченно вздохнули.
– Спасибо, Андреич, – сказал Кондратьев, жадно оглядывая бревна, часть из которых перекочует в его деревню, и он с помощником оседлает красный ствол и плотницким топором станет шкурить, отесывать, звонко сбивать остатки сучков, откатывая обработанные бревна к тем, что лягут венцами в его новый дом.
– Давай, мужики, грузить, – весело крякнул Ратников, подмигнул Суздальцеву и стал подхватывать комель бревна. – Давай, Андреич, с другого конца.
Суздальцев ухватил бревно, вместе с Ратниковым они подняли его, тяжело, мгновенно покраснев лицами, перенесли к тракторному прицепу, вкатили и толкнули, слыша, как хрустит, перекатывается по днищу кузова бревно. – Красный лес, самый лучший для дома, – сказал Ратников, стряхивая с темных ладоней чешуйки коры.
Лесники хватали бревна, грузили в трактор, закатывали в глубину, натужно ахали, подбадривали друг дуга. Суздальцев работал со всеми, пачкался смолой, напрягал что есть силы свои молодые мускулы, старался не уступать корявым, сильным, умелым мужикам. Радовался тому, что принят ими в их круг, совершает вместе с ними тяжкую, артельную работу. Устает в этой работе, приобщается этой работой к трудам и заботам людей. Эти русские люди населяли темные деревни, окруженные родными лесами, любимыми реками, сырыми проселками, по которым он вышел в свой путь, загадочный и прекрасный.