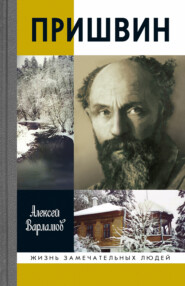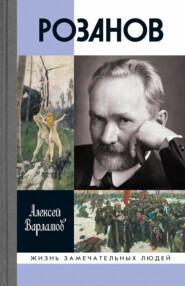По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одсун. Роман без границ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не знаю, что она имела тогда в виду и помнит ли об этих словах сегодня, а я был настолько поглощен московской жизнью, что все происходившее вне Москвы оценивал лишь в зависимости от того, насколько оно нас касалось. Для меня существовал один критерий: за перестройку ты или против, и я назвал бы братом или сестрой каждого, кто орал «Долой!», и всем было понятно, о чем речь.
Каммингс-аут
На ноябрьские праздники мы снова поехали в Купавну. Было очень холодно, неуютно, серо, и наше милое летнее озеро, кое-где возле берегов уже прихваченное льдом, казалось тяжелым, чужим, колючим. По берегам лежал снег, и оттого вода была зловещей и безумно красивой. Снег медленно осыпался с наклонившихся деревьев и разбавлял ее черноту исчезающей белизной. Мы попробовали рыбачить, но леска обмерзала, не клевало. Катя, южное создание, скоро продрогла, и мы вернулись на дачу, но там было еще холоднее, ветер выдувал тепло из щелястого домика, и тогда мы развели в саду здоровенный костер, а потом весело ругались с Кукой, который вместе с овчаркой Найдой прибежал из своей сторожки тушить наш пожар. Пламя отражалось в окнах домика, огромные тени метались вокруг, и Найда прыгала за ними, а стоило отойти от костра, как ты оказывался под такими холодными и яркими звездами, каких не бывает летом, и можно было поверить во все космические путешествия и в пришельцев, которыми мы пугали много лет назад Петьку.
Я рассказывал Кате, как зимой на третьем курсе ходил с Конюхом в поход по Кольскому полуострову, видел северное сияние, ночевал в палатке в лесу, причем спальные мешки мы соединяли и спали по нескольку человек, мальчишки вперемежку с девчонками – и ничего. Самое страшное наступало утром, когда надо было надевать замерзшие за ночь, колом стоявшие штаны и влезать в окаменевшие ботинки, и высшим мужским благородством считалось высушить носки девушки у себя на животе.
– И с кем вместе ты спал? Кому сушил? – спросила Катя ревниво.
– Никому, ждал тебя.
Она покачала головой, а я спел ей песенку, которую однажды услыхал от Тимохи:
если поесть нельзя так попробуй
закурить но у нас ничего не осталось
чтобы закурить; иди ко мне моя радость
давай поспим
если закурить нельзя так попробуй
спеть но у нас ничего не осталось
чтобы спеть; иди ко мне моя радость
давай поспим
если спеть нельзя так попробуй
умереть но у нас ничего не осталось
чтобы умереть; иди ко мне моя радость
давай поспим
если умереть нельзя так попробуй
помечтать но у нас ничего не осталось
чтобы помечтать (иди ко мне моя радость
давай поспим)[1 - Пер. с англ. стихотворения Эдварда Эстлина Каммингса. В. Британишского. – Примеч. авт.]
Я знал, что пою неважно и в отличие от Тимофея у меня нет ни голоса, ни слуха, но мне нужно было ей это высказать, пусть чужими словами, раз нет своих; а потом мы легли в нашем холодном домике на моей отроческой кроватке, крепко-крепко обнялись, и волки, которые гнались за санями на тканом коврике, подходили к домику и дышали в наши спины. И ветер выл так страшно. У-у-у-у-у! Да, мы были очень сиротливыми, но поддерживали друг друга, я любил ее, и мне кажется, эта любовь вызывала лучшее, что было во мне спрятано глубоко-глубоко.
Я ведь вырос порядочным эгоистом – вы, наверное, батюшка, это уже заметили. А вы-то, матушка Анна, уж точно знаете. Но понимаете, мама после смерти отца боялась воспитывать меня строго и в чем-либо отказывать, она меня избаловала до невозможного; ей говорили, просили этого не делать и мои тетки, и сестра, но она была так всем напугана… С сестрой получилось иначе, мама полагала, что девочка крепче, гибче, она все вынесет, а мальчик хрупкий, может не выдержать, сломаться. Я не оправдываю ни ее, ни себя, а просто рассказываю вам, как было. И вот я хочу сказать, что с Катей я почувствовал, как меняюсь не только потому, что становлюсь разговорчивее, а потому, что в моей жизни впервые появился человек, который стал мне дороже самого себя, – новое и совершенно удивительное для меня состояние.
Ночью пошел снег, он укрыл все пространство вокруг, и наш сад, наши грядки, кусты малины и смородины, яблони и вишни – все было покрыто плотным слоем снега. Сразу же сделалось теплее, ярче, светлее, мы дурачились, гонялись друг за дружкой, бросали снежки и падали в сугробы, пока не пришел Кука в кроличьей шапке-ушанке, валенках и овчинном тулупе. На этот раз он был недоволен тем, что мы наследили в переулке, но мы так смеялись, что он махнул рукой и стал смеяться вместе с нами и рассказывать про моего деда, с которым они на купавинских болотах вместе разбивали участки и вешали на кольях гадюк. И про мою бабушку, и про дядьку Алешку, еще молодого, неженатого. Про то, как дружно жили, ходили друг к другу в гости, играли в волейбол, отмечали праздники, и не было тогда между садами и огородами никаких заборов, но после все это появилось и что-то важное из жизни ушло.
Я слушал Куку с удивлением – никогда я не подозревал в мерзком старикашке такой сентиментальности. А потом он надоел нам своей болтовней, и мы пошли к станции. Там забились в теплую электричку и проспали до самой Москвы. Но когда я проводил Катю до общежития на улице Добролюбова и она исчезла в монструозном здании, снизу доверху набитом литературными гениями, ревность начала мучить меня и изводить все сильнее.
Помню, как несколько ночей подряд просыпался в третьем часу и воображал себе поэтов, которые пишут в ее честь стихи, прозаиков, посвящающих ей романы, – трудно ли вскружить голову доверчивой провинциальной девочке? Напоить, охмурить, соблазнить? А может, кто-то уже так и сделал или делает сейчас, в эту минуту, а Катя просто все умело скрывает? Не решается прямо сказать? У них же там это просто. И каждый раз, когда мы встречались после ее семинаров в институте, я долго всматривался в Катино лицо, вслушивался в ее голос и пытался понять, не изменилось ли в ней что-то, не произошло ли, пускай случайно, ужасное, необратимое, и оттого делался мрачен, напряжен, неразговорчив. А Катя не понимала, что со мной творится, тормошила меня, смешила, обижалась, тревожилась, задавала вопросы, на которые я не знал как ответить. Так я мучил ее и мучился сам, пока однажды она не сказала сквозь слезы:
– Я тебя очень прошу, Вячик, не бросай меня, пожалуйста. У меня, кроме тебя, никого тут нет. Ни родных, ни подруг. Никого.
Я посмотрел на нее пораженно: как, почему, откуда такие мысли возникли в ее голове, – и, не в силах больше терпеть, неуклюже признался в том, что меня терзает.
Это было в середине декабря, мы шли по Тверскому бульвару; уже зажглись фонари, вокруг толпился народ, и я ожидал, что Катя рассмеется, а может быть, ей даже станет приятно и она воспримет мою ревность как свидетельство любви и собственной значимости, но она отнеслась ко всему с необычайной важностью. Мы дошли до конца бульвара, и там возле Никитских Ворот семнадцатилетняя девушка, глядя на большую заснеженную церковь, остановилась, истово перекрестилась, а потом повернулась ко мне и сказала:
– Я никогда не была и обещаю тебе, что никогда не буду с другим мужчиной.
Она стояла передо мной юная, строгая, торжественная, в длинном драповом пальто и пуховом платке, засыпанном снегом, ресницы ее дрожали, а черные глаза блестели в неверных московских сумерках и смотрели на меня, матушка Анна, так серьезно, так непреклонно, что какой-то частью души я вдруг пожалел, что выпросил, выклянчил у ребенка эту страшную клятву, смысла которой она и оценить-то не может. А потом обнял, прижал ее к себе, как когда-то в Крыму на лавочке над морем, но тревога моя не сделалась от этого меньше, и тем острее мне не хотелось никуда Катю от себя отпускать, а жить и делать все вместе с ней: ложиться спать и просыпаться, ходить в магазин, готовить еду, убираться, – и чем приземленнее и проще будут наши дни и поступки, тем лучше. Кажется, я даже говорил об этом, целуя в холодные, мокрые от снежинок щеки и теплые губы, и мы снова бродили до полуночи, мерзли, а когда замерзали, то поднимались в чужие подъезды и там без конца целовались.
Катя сказала, что есть смысл сходить к новому ректору, быть может, он разрешит нам жить в общежитии вместе, ведь все говорят о нем как о справедливом и великодушном руководителе. Однако я не хотел ни у кого одалживаться. Я тогда был гордым и еще не потерял веру в себя. А значит, надо было искать деньги, чтобы снимать квартиру. Пускай не в Москве, а где-то в пригородах, в Старой Купавне, например, в Балашихе или в Железнодорожном, там это могло быть дешевле. Я боялся, что Катя станет капризничать, но она была очень непритязательна, терпелива, она видела, как я переживаю, и всегда поддерживала меня. Мне важно вам об этом сказать, потому что как бы ни складывались наши отношения потом – она была славным, добрым человеком.
Я не знал, что делать, и поехал на могилу к отцу. Кладбище находилось далеко от Москвы, и я бывал там не очень часто, но подобно тому как некоторые люди ходят в церковь, когда им плохо, так и я ездил к отцу и разговаривал с ним. Не помощи просил, а просто о себе рассказывал. И вот я стал говорить ему про Катю. Мне кажется, он бы сразу ее полюбил и сумел бы убедить маму и Ленку в том, что она хорошая, верная. В тот день случилась оттепель, туман, я не сразу нашел могилу, ноги у меня промокли, но я курил и не уходил от ограды. А он смотрел на меня с фотографии на памятнике без креста, тридцатипятилетний веселый человек, и все понимал.
Господи, кому и зачем было надо, чтоб все это закончилось?
Голова Гоголя
В начале мая становится тепло, и Одиссей дает мне свой велосипед. Он плохо приспособлен для горных дорог, шины у него не надувные, а сплошные, преимущество их в том, что их невозможно проколоть, но зато они чувствуют каждую неровность земли. Переключатель скоростей отсутствует, и даже не на очень крутых подъемах мне приходится слезать и идти с ним в гору; и наоборот, свободно катиться вниз я боюсь, потому что не доверяю ни тормозам, ни своим рукам и ногам. Но все равно велосипед – это счастье. Я все чаще отпрашиваюсь у отца Иржи и, к неудовольствию матушки Анны, с утра укатываю на велике и гоняю целый день.
Впрочем, гоняю – громко сказано. Это меня обгоняют блестящие профессионалы на горных велосипедах с очень толстыми или очень тонкими шинами; они презрительно проносятся мимо, низко наклонившись над рулем в своих обтягивающих штанах, крупных очках и шлемах. Я по сравнению с ними задыхающийся чайник, жигуль перед мерседесом. Этот дрындопед уступает даже купавинской «Украине» моего детства, но меня это нисколько не смущает. Сижу прямо, медленно кручу педали и еду куда заблагорассудится. Я не садился на велик лет тридцать, последний раз это было опять-таки в Купавне, которую я объездил в детстве вдоль и поперек, и теперь мне жутко нравится вспоминать руками и ногами, всем своим телом, как это было. Должно быть, я достиг того возраста, когда душа уже не просит ничего нового, а больше всего хочет вернуться в прошлое и делать то, что любила тогда.
Вокруг нашей деревушки множество живописных мест, долин, ручьев, пригорков, озер с реликтовыми цветами, пещер и один городок. У него смешное название – Есеник. По написанию похоже на Есенин. Но ударение, как всегда у чехов, на первый слог, хотя корень может быть и общий, связанный с осенью. Городишко небольшой, со старыми домами, красивой площадью, ратушей, торговой улицей, школой, с железнодорожной станцией. Я качу по улицам, где совсем не слышно русской речи, – русские обыкновенно едут на запад, в Карловы Вары, – и мне это нравится. Не хотелось бы встретиться с кем-нибудь из соотечественников.
Но однажды в неприметном месте, в стороне от центра, среди обычных современных домов вдруг замечаю памятник. Это голова человека на довольно высоком, выше человеческого роста, прямоугольном постаменте, и она кажется мне знакомой. Подъезжаю ближе.
Ба! Гоголь!
Точно он, и внизу по-чешски что-то написано. Если я правильно понимаю, он тут лечился. Вероятно, в санатории, который находится выше по склону, – его старинное, красивое здание, окруженное павильонами, беседками, открытыми бассейнами, скульптурными группами, аллеями и дорожками для пешеходных прогулок разной сложности и продолжительности, видно издалека.
Батюшки мои, я-то всё думал про себя, что едва ли не первый русский, кто по своей воле ступил на эту землю, ан – нет. Вечером у грека залезаю в интернет и выясняю, что Гоголь бывал в здешних краях дважды и оба раза его запихивали на несколько часов в ванну с холодной водой и энное количество воды заставляли принимать внутрь. Такие были методы лечения у местного доктора-самоучки, бывшего пастуха, который этот курорт придумал и был помешан на гидропатии и трудовой терапии. Кормил пациентов грубой пищей и заставлял с утра до вечера работать на свежем воздухе. В сущности, создал трудовой лагерь.
Первый раз Гоголю тут понравилось, и он написал матушке, что благодаря холодному лечению припадки его не так тяжки и страдания духа на время угасают. Но год спустя сжег в здешней печи второй том, а затем, спасаясь от сурового пастушьего распорядка, сбежал из Есеника в бельгийский Остенде. Точнее, не из Есеника, этот городок назывался тогда по-другому, и жили здесь не чехи, а немцы, у которых потребность создавать лагеря, должно быть, в крови. Это другая тема, и мне от нее не уйти – хозяин дома, чей дух бродит по комнатам, ко мне взывает, и рано или поздно я буду должен докопаться до правды, хотя о судетских немцах здесь говорят очень неохотно. А вернее, просто молчат.
Но Гоголь, Гоголь…
Через несколько дней снова проезжаю мимо памятника. Не случайно, нет – меня тянет к этому персонажу. Для Катерины он предатель, отступник, отказался от мовы в пользу клятого русского языка и был за это наказан безумием. А для меня? Я покупаю в «Потравинах у Адама» пиво и сажусь на асфальт напротив памятника. Голова Гоголя чуть наклонена и смотрит на меня печально, с укором, но и с какой-то усмешкой. Конечно, это трогательно, что чехи поставили ему памятник, и критиковать сей монумент было бы неловко, но положа руку на сердце памятник не очень удачный. А впрочем, когда ему с памятниками везло?
Гоголь, Гоголь, кто вас выдумал и кто вы нам? Друг, враг, лазутчик, патриот, русский монархист или тайный украинофил? За что не любил вас Розанов и знали ли вы, что в вашей стране произойдет? Как вы там сказали… Пушкин – это русский человек, каким он явится через двести лет. Ну вот, прошли они, эти двести лет, вот все исполнилось – и что? Страну разворовали, ограбили, обкорнали, дворцов себе понастроили, лживых попов наплодили – кто? Пушкины? Мне стыдно за банальные обывательские мысли, но если я лузер, то почему в моей голове должны быть другие? А птица-тройка ваша дурацкая, а Русь святая, которую сторонятся другие народы? Сторонятся они, как же! Шарахаются от нее и гонят отовсюду! Вы даже вообразить себе, голубчик, этого не можете. Ни одному русскому царю такого не снилось. Даже тому, кто рыбу в гатчинском пруду удил, покуда Европа ждала со своими вопросами. И вам, Николай Васильевич, это всё как? Нравится? Мчится она неведомо куда… Ну, положим, не мчится, а еле тащится, только хотелось бы пусть приблизительно знать направление. Может, подскажете из выбранных мест в вашей переписке?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: