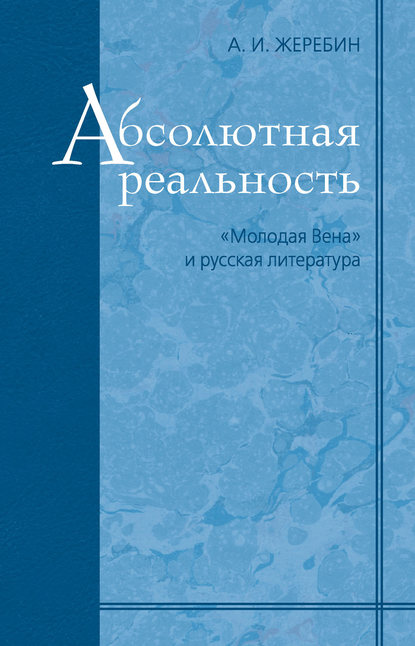По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Абсолютная реальность: «Молодая Вена» и русская литература
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Освоение культурной традиции становится в творчестве младовенцев формой обновления самой жизни. В этом – суть младовенского эстетизма и его принципиальное отличие от того бессознательного бегства в царство радужной эстетической иллюзии, которое характеризует жизненную стратегию культурного бюргерства Вены в эпоху ее «веселого апокалипсиса». Поклоняясь искусству, либеральная австрийская буржуазия изживает свою неудовлетворенность исторической действительностью. Лишенная политического влияния и обманутая в своих надеждах на общественный прогресс, она меняет место в парламенте на кресло в театральном партере и нейтрализует непоправимую действительность, отождествляя ее с театральным представлением по общему признаку иллюзорности: жизнь, осмысленная как театр, не внушает страха и не требует ответственности. Все становится по видимости безопасной, хотя и щекочущей нервы игрой, как это показано, например, в пьесе Артура Шницлера «Зеленый какаду» (1899).
Эстетизм «Молодой Вены» – другого рода. Он начинается с ригористической демаркации границ. «Нет прямого пути ни от поэзии к жизни, ни от жизни к поэзии», – пишет Гофмансталь в лекции 1896 года «Поэзия и жизнь»[25 - Г. Гофмансталь. Избранное. С. 502.]. Но путь, не прямой, а окольный, все же есть, и его завершением становится авангардистское требование преображения, «пресуществления» действительности по законам искусства. Уже в теории эстетизма дифференциация искусства и жизни важна не сама по себе, искусство требует для себя независимости и автономии не для того, чтобы навсегда сохранить свою чистоту. Эстетическая революция видит свою задачу в искуплении материального мира и стремится к империалистической экспансии – к воплощению «царства». «Новое искусство, которое мы создадим, – пишет Бар, – станет и новой религией, ибо искусство, наука и религия – это одно и то же».[26 - Die Wiener Moderne. S. 191.]
Сущность модернизма в интерпретации его Германом Баром заключается в том, что в условиях кризиса рационалистической культуры искусство принимает на себя смыслополагающую функцию религиозной ремифилогизации мира на основе синтеза духовного и чувственно-материального начал. Эссе Бара знаменует, таким образом, переход к новому типу культурного творчества – от горизонтальной культуры к культуре вертикального типа.
Горизонтальная культура классического либерализма предстает на рубеже веков как изощренная система принуждений, бессмысленно усиливающая свой гнет под угрозой близящегося взрыва. Но «новые люди», от имени которых говорит Бар, знают, что ничто не может ее спасти. Ожидается событие, равное по значению культурному перевороту Ренессанса, начинает складываться вертикальная вневременная модель мира, отвергнутая Новым временем. Движение человечества вперед по горизонтали исторического времени перестает быть основным критерием всех оценок, и ведущая роль переходит к другому процессу – восхождению индивидуальной души по метафизической вертикали, соединяющей мир и Бога. Картина мира, основанная на логическом отношении субъекта и объекта, причины и следствия, сменяется картиной мира, основанной на принципе символических сближений и перекличек, на внутреннем тяготении вещей и явлений друг к другу. Ее центром становится отношение Бога и мира, движущихся навстречу друг другу и желающих своего взаимного воплощения.
Единство всего сущего, зашифрованное в противоречиях эмпирической действительности, обозначается на рубеже веков словами «тайна жизни». Жизнь – общий предмет научных, философских и поэтических исканий эпохи – принадлежит к числу важнейших лозунгов и «Молодой Вены»[27 - Оппонент «Молодой Вены» Карл Краус иронически писал о младовенцах в памфлете «Дряхлеющая литература» (Die demolierte Literatur, 1896): «Важнейшим их лозунгом была жизнь, и они каждый вечер сходились вместе, чтобы выяснять свои отношения с жизнью, а когда души их воспаряли, то и толковать ее неизъяснимую тайну» (Die Wiener Moderne. S. 644).]. В приобщении к тайне жизни заключается для младовенцев высшее предназначение художника, который постигает ее, спускаясь на дно своей души. Самопознание поэта требует отречения и одиночества, разрыва внешних и поверхностных связей во имя связей глубинных и сущностных, означающих обретение утраченного единства человека с божественной целокупностью бытия за пределами рационального знания[28 - См. об этом: Г. Гофмансталь. Избранное. С. 590—591.]. Отчаянное одиночество перед лицом лживой действительности и мучительная немота перед лицом лживого языка – цена, которую поэт должен заплатить за грядущее обновление. Но когда цена эта будет заплачена, путь отречения будет пройден, ему откроется истинная реальность мировой жизни, и он воплотит ее в небывалых образах, которые станут плотью нового совершенного мира. Тогда – конец дуализму, определившему трагедию Нового времени: душа и тело, дух и плоть, субъект и объект, явление и сущность, Град земной и Град Божий – все воссоединится в постисторическом пространстве победившего модернизма.
* * *
Первые итоги этого движения по вертикали Герман Бар подводит в 1899-м году в эссе «Наше десятилетие». За десять лет существования группы «Молодая Вена» сложилась, по мнению Бара, самостоятельная литература «венского стиля», независимая от Германии, но и не сводимая к подражанию французским декадентам. Основание для оптимизма дают Бару произведения младовенцев, вышедшие в 1890-е годы: лирика и новеллистика Гофмансталя, его лирические драмы «Вчера» (Gestern, 1891), «Смерть Тициана» (Der Tod des Tizian, 1892), «Глупец и смерть» (Der Tor und der Tod, 1893), драмы и новеллы Шницлера, в особенности его драматический цикл «Анатоль» (Anatol, 1893), повести Леопольда Андриана «Сад познания» (Der Garten der Erkenntnis, 1895) и Рихарда Беер-Гофмана «Смерть Георга» (Der Tod Georgs, 1900)[29 - Значительные фрагменты публиковались в журналах до выхода книги.], первый сборник лирических миниатюр Петера Альтенберга «Как я это вижу» (Wie ich es sehe, 1896), лирические сборники Феликса Дермана («Нейротика» (Neurotica), 1891; «Ощущения» (Sensationen), 1892) и Рихарда Шаукаля («Мои сады» (Meine Garten), 1893; «Tristia», 1898).
К 1900-му году «Молодая Вена», действительно, завоевывает господствующее положение в австрийской культуре, которое обеспечивается большой сплоченностью молодой культурной элиты и сохраняется до Первой мировой войны. Бар становится ведущим литературным и театральным критиком, печатается в центральных изданиях Австрии и Германии и находит себе сильных союзников в лице художников «Сецессиона» с их журналом «Ver sacrum», представлявшем то же направление, что и орган младовенцев «Современная литература». Социально-психологические пьесы Шницлера ставятся на сцене Бургтеатра, вытесняя натуралистическую драматургию Гауптмана и даже Ибсена. Гофмансталь, переживший кризис «преэкзистенциального», по его определению, эстетизма, обращается к театру, в котором видит путь к социальному искусству, и его плодотворный союз с Рихардом Штраусом реализуется на сцене венской оперы, возглавляемой их единомышленником Густавом Малером. За блистательным успехом оперы «Электра» (1906) последовали «Кавалер роз» (Der Rosenkavalier, 1910), «Ариадна на Наксосе» (Ariadne auf Naxos, 1911) и еще несколько более поздних совместных работ.
В первое десятилетие XX века культура Вены представляет собой своего рода «синкретическое произведение искусства», о котором мечтал Рихард Вагнер. В союзе с эстетическим модернизмом выступает философия и наука, важнейшими представителями которой являются Эрнст Max (Ernst Mach, 1838—1916) и Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud, 1856—1938). Сочинения того и другого, сомнительные с точки зрения консервативных университетских кругов, получают тем более широкий резонанс в модернистской среде, и это способствует формированию своеобразного философско-литературного, а в случае Фрейда и медицинско-литературного дискурса. В отличие от Франции и Германии, где союз литературы и естествознания сложился преимущественно в рамках натурализма, в Австрии этот союз служит преодолению натуралистической эстетики.
Для младовенцев открытия Маха и Фрейда играли роль научной легитимации их кризисного мироощущения. В первую очередь это относится к книге Маха «Анализ ощущений и отношение физического к психическому» (Beitr?ge zur Analyse der Empfindungen, 1886; Die Analyse der Empfindungen und das Verhaltnis des Physischen zum Psychischen, 1900), содержавшей антиметафизическую философию «чистого опыта».
По Маху, реально существует лишь то, что предоставлено нам в опыте наших ощущений, а опыт дает нам свойства и группы свойств, но никак не представления об их «объективных» носителях. Материальные тела, на объективном существовании которых настаивает материализм – такая же фикция, как и «духовные сущности» идеалистической философии; то и другое – лишь временные узлы свойств, которые непрерывно возникают и распадаются как узоры в калейдоскопе. Из таких изменчивых комплексов, физических и психических одновременно, состоит вся действительность – вечный поток бытия, уносящий с собой все, что казалось постоянным и неизменным.
Идеалистической иллюзией является, с точки зрения Маха, и человеческая личность, самотождественность нашего воспринимающего и мыслящего «Я» – той точки, от которой, начиная с Декарта, отсчитывались все мировые смыслы. «Я обречено на гибель», – утверждает Мах[30 - Е. Mach. Die Analyse der Empfindungen und das Verhaltnis des Physischen zum Psychischen. Jena, 1911. S. 20.], это тоже лишь психофизический комплекс, связка или пучок переживаний и ощущений, непрерывно меняющийся в зависимости от их характера и сочетаний, в которые они вступают. Вместе с понятиями «субъект» и «объект» махизм отменяет и границу, их разделявшую: мир чистого опыта мыслится как единый поток однородных элементов-ощущений, психических и физических одновременно.
Кризис личности, центральная тема Ницше и «философии жизни», является тем пунктом, в котором махизм соприкасается с учением Фрейда. Если Мах топит сознательное «Я» в потоке противоречивых субъективных ощущений, то Фрейд отдает его во власть «бессознательного», восходящего к архаическим инстинктам. Субъект становится у Фрейда марионеткой таинственного «либидо», замещается образом «множественного Я», невольного актера в многофигурной драме ложных самоидентификаций, которые попеременно овладевают сознанием, замещая иллюзию личного тождества. В результате сознание утрачивает не только интеллектуальное господство над действительностью, но и контроль над внутренним миром личности: «Я (…) не является более хозяином даже в своем собственном доме».[31 - 3. Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. M., 1991. С. 181.]
В творчестве писателей «Молодой Вены» тема деперсонализации раскрывается под прямым влиянием Фрейда, воспринятым младовенцами в широком контексте современной психиатрической литературы, работ Теодуля Рибо, Пьера Жане, Мортона Принса. Яркий образ дезинтегрированной личности дает Гофмансталь в неоконченном романе «Андреас, или Воссоединенные» (Andreas oder die Vereinigten, 1907—1913). Но с особой очевидностью диалог с Фрейдом обнаруживается в прозе Артура Шницлера, которого сам Фрейд, не без чувства зависти, признавал своим «двойником» в области художественной литературы[32 - S. Freud.Briefe an Arthur Schnitzler//Neue Rundschau. 1955. №66. S. 97.]. Врач по образованию, автор ряда статей о гипнозе и внушении, Шницлер в одних случаях предвосхищает, в других использует теорию Фрейда, художественно оформляя хитросплетения осознанного и подсознательного как психологическое выражение кризиса культуры. В дальнейшем фрейдистские импликации становятся неотъемлемой частью психологической новеллы в творчестве таких разных писателей, как Франц Верфель («Не убийца, а убитый виноват», 1919), Франц Кафка («Письмо к отцу», 1919), Стефан Цвейг («Амок», 1922).
Важно подчеркнуть, что, читая Фрейда и Маха, младовенцы находят у них не только теоретический анализ кризиса современной личности, но и важные импульсы к разработке новых принципов ее художественного изображения. Показательны в этом отношении две новеллы Шницлера – «Лейтенант Густль» (Leutnant Gustl, 1900), первый в немецкой прозе опыт широкого примененная техники «внутреннего монолога», и написанная значительно позже «Барышня Эльза» (Fr?ulein Else, 1924), в которой Шницлер, задетый ссылкой Джойса на первенство Эдуара Дюжардена, повторяет этот опыт с еще большим мастерством. В том и другом тексте махистская тема диссоциации личности раскрывается с привлечением психоаналитического метода свободных ассоциаций: поток сознания персонажей – рыхлая вереница их мимолетных впечатлений, мгновенных воспоминаний и фрагментарных размышлений – напоминает описанный Фрейдом полусон-полубред пациентов на кушетке психоаналитика.
Снимая оппозицию голоса повествователя и голоса персонажа, Шницлер демонстрирует общую и чрезвычайно характерную тенденцию зарождающейся поэтики модернизма к пересмотру или разрушению границ, определявших классическую структуру литературной реальности. Внутренний монолог только частный случай этой тенденции. Уже в творчестве писателей «Молодой Вены» по всем линиям нарушаются границы – между произведением и читателем, текстом и контекстом, речью и молчанием, знаком и значением, предметом и образом, между различными жанровыми формами, различными видами искусства, искусством и жизнью. Повсюду ощущается стремление к созданию гибридных конструкций, к интеграции и синкретизму, и обоснование этой тенденции дает научная критика автономного субъекта и субъектно-объектных отношений.
По мысли Жана-Франсуа Лиотара, австрийская культура начала XX века взяла на себя «погребальный труд» развенчания и делегитимации господствующих научных и эстетических представлений – «метарассказов» XIX столетия[33 - Ж-Ф. Лиотар. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 100—101.]. Но не менее важно и другое: беспощадный диагноз кризисных явлений сочетается в те же годы и у тех же авторов с напряженными поисками их преодоления, с выработкой утопических решений. Чем решительнее осуществляется на рубеже веков развенчание личности, тем отчетливее выступает на передний план и потребность в ее восстановлении – не в прежних ее границах, а в образе «нового человека», способного обрести более прочную идентичность на почве другой, истинной реальности.
В учении Фрейда психоанализ, устанавливающий причины кризиса, является и средством психотерапии, цель которой – замещение бездумной и потому столь непрочной привязанности пациента к своему иллюзорному «Я» трагическим, но и спасительным сознанием закономерной укорененности каждой индивидуальной психики и судьбы в вечной тотальности общезначимого древнего мифа – модернизированного Фрейдом мифа об Эдипе. Принимая истину психоанализа, человек получает шанс внести смысл в путаницу своей собственной жизни и в хаос мироздания, реинтегрировать свое распадающееся «Я», вписывая его в новую и в то же время древнюю как мир систему ценностных координат. Психоаналитический миф объединяет индивидов в рамках эстетическо-религиозного сверхобщества, противопоставленного распадающемуся социуму. Тем самым он выступает в качестве союзника эстетической утопии венского модернизма, параллельно с которой он и создавался. Их содружество представляет собой военный союз против лжереального мира политики и истории.
«Царский путь» самопознания, т. е. приобщения к универсальному мифу, ведет, по Фрейду, через страну снов, где ложь сознательной жизни рассеивается в стихии бессознательного и исполняются «вытесненные» желания, которые не способна удовлетворить дневная действительность. «Толкование сновидений» (Die Traumdeutung, 1900), книга, в которой Фрейд видел своего рода введение в культуру XX века, воспринимается поэтами «Молодой Вены» как научное подтверждение их антинатуралистической программы. Натурализм, писал в 1894-м году Бар, «требовал от искусства быть действительностью и ничем, кроме действительности»; декаденты же решают вопрос об отношении искусства и жизни, «требуя от искусства (…) быть сновидением и ничем, кроме сновидения».[34 - Die Wiener Moderne. S. 225.]
Образы сновидения, кошмары и чары сна, грезы и мечты, действительно, играют в поэзии раннего венского модернизма ключевую роль, выступая одновременно как символы разочарования и надежды. Если жизнь есть сон, то и сон есть жизнь, если внешний мир – мираж, то «миры, рожденные в мечтах» являют истину и получают оправдание в качестве главного предмета поэзии. «Я говорю сну:
останься, будь правдой. / И говорю действительности: исчезни, будь сном», – эти стихи Гофмансталя[35 - Н. Hofmannsthal. Gesammelte Werke in zehn Einzelbanden. Bd. 1: Gedichte, DramenI: 1891—1898. Frankfurt a. M., 1979. S. 91.] представляют собой лишь один из многих примеров предвосхищения «фрейдистского кода» в его лирике 1890-х годов. Так, в стихотворении «Терцины» (Terzinen, 1894) мотив иллюзорности внешнего мира, оформленный шекспировской строкой «Мы созданы из вещества того же, что наши сны», не сводится к барочному vanitas, как у Шекспира в «Буре», а открывает тему магического преображения жизни и перехода в высшую реальность, где царит спасительное тождество: «Три суть одно: человек, вещь, греза»[36 - Г. Гофмансталь. Избранное. С. 759.]. Неоромантическая метафора «жизнь-сон» характеризует у Гофмансталя состояние мистического опыта, приобщающего лирического героя к сущностному миропорядку. Аналогичное решение темы сна – истинной реальности, замещающей бессмыслицу сознательной жизни – дают, наряду с поэзией и прозой Гофмансталя многие тексты его современников, например роман Рихарда Беер-Гофмана «Смерть Георга» или поздняя новелла Шницлера «Сновидение» (Die Traumnovelle, 1924).
В беседе с писателями, записанной Бертой Цукеркандль[37 - Die Wiener Moderne. S. 171—176.], Мах высказал мнение, что австрийская литература сновидений родилась в 1866-м году, когда Австрия потерпела поражение от Пруссии и оказалась за бортом истории. Вероятно, Маху помнились насмешливые строки Гейне о немцах: «Французам и русским досталась земля, / Британец владеет морем, / А мы – воздушным царством грез, / Там наш престиж бесспорен». То, что Гейне говорил о Германии, Мах через полвека переносит на Австрию, ибо на рубеже веков ситуация меняется: Германия Бисмарка завоевывает себе место среди стран, утверждающих свое господство над миром в области реальной действительности, в мире экономики и политики, науки и техники. Страной, вытесненной из истории, испытывающей кризис своего национального самосознания, становится теперь Австро-Венгрия, и Мах полагает, что в лице своих поэтов и философов она берет реванш за политическое унижение, утверждается, как когда-то романтическая Германия, в автономном царстве грез модернисткой культуры.
Участвовавший в беседе с Махом Герман Бар это мнение, кажется, подтверждает: «Да, верно, сон под названием Австрия – вот чему мы хотим придать смысл и форму, цвет и звучание»[38 - Die Wiener Moderne. S. 176.]. Но его реплика вносит решающий нюанс: грезы важнее, чем действительность. Австрия, какой она предстает в сновидениях ее поэтов[39 - По выражению Гофмансталя, «поэты – это сновидцы, грезящие символами» (H. Hofmannsthal. Gesammelte Werke. Reden und Aufsatze П. Frankfurt a. M., 1980. S. 49).], не только не совпадает с обреченной империей, но и не должна с нею совпадать. Последняя не заслуживает внимания художника, потому что она – лишь иллюзия. Истинная же реальность – это Австрия-сновидение, и только она требует своего воплощения в эстетической утопии, тесно соседствующей с родственной ей утопией психоаналитического мифа.
Оптимистический пафос утверждения высшей реальности не чужд и взглядам самого Маха. По мнению ученого, его слова «Я должно погибнуть» не следует понимать как формулу деструкции и отчаяния, ибо они же заключают в себе и признание возможности нового всемирного «Я» с открытыми границами.
Из философии Маха следовало, что мир (комплекс ощущений) есть либо иллюзия, которую наше сознание принимает за реальность, либо реальность, которую мы подменили иллюзией. Мировоззрение поэтов и художников Вены колеблется между этими вариантами, пробиваясь от деструктивного к конструктивному пониманию махизма. Это необходимо принимать во внимание при оценке австрийского импрессионизма, развивавшегося под воздействием махистской теории и нашедшего в ней свое философское оправдание. «В моде Поль Бурже и Будда», – пишет Гофмансталь в эссе о Д'Аннунцио[40 - Г. Гофмансталь. Избранное. С. 490.]. Имя Бурже указывает на закон декаданса – распад целого, имя Будды означает противоположную тенденцию, волю к всеединству. Значение венского импрессионизма в том, что он объединяет в себе оба полюса современного сознания, как объединяет их в себе и учение Маха.
В своей декадентской версии импрессионизм раскрывает тему утраты ценностей: мир больше не объективное целое, он распался на бессвязные факты и мелькающие мгновения, которые существуют лишь до тех пор, пока воспринимаются чувствами; его символами выступают игра теней, пляска призраков, карты, маски, театр. «Импрессионистический человек», творец и герой этого мира иллюзий, презирает общество и мораль и не знает другого закона, кроме личной воли и личного счастья. Свободный и одинокий, он исповедует культ своего «Я», только себя самого мнит достойным любви и хочет бездумно скользить по золотым волнам жизни, срывая цветы чувственных и интеллектуальных наслаждений.[41 - См.: H. Bahr. Zur Uberwindung des Naturalismus. S. 338; R. Hamann. Der Impressionismus in Leben und Kunst. 2. Aufl. Marburg, 1923.]
Но когда разрушается вера в объективный мир, исчезает и автономный субъект; согласно Маху, он такая же фикция, как и призрачный мир воспринимаемых им объектов. Вот почему homme libre импрессионистической культуры – это актер, не верящий в убедительность своей роли. За эйфорическими призывами импрессиониста «погрузиться в лазоревые сны раскрепощенных нервов», где «нет истины, а только красота»[42 - H. Bahr. Ibid. S. 85.], неизменно ощутим тайный страх метафизической пустоты, придающий импрессионистическому чувству жизни тот оттенок скептической резиньяции, который так ясно выразили Гофмансталь в своем стихотворном «Прологе»[43 - H. Hofmannsthal. Zu einem Buch ?hnlicher Art // Samtliche Werke. Kritische Ausgabe. Frankfurt a. M., 1984. Bd. 1. S. 31.], и Шницлер в «Парацельсе» (Paracelsus, 1898).[44 - A. Schnitzler. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Das dramatische Werk. Frankfurt a. M., 1977. Bd. 1. S. 498.]
Именно Шницлер и представляет нигилистическую линию в литературе венского импрессионизма с наибольшей последовательностью. Путь к свободе, который выбирают его герои, выстраивается как серия болезненных разрывов и разоблачений. Он усеян невинными жертвами и невосполнимыми потерями, ведет к одиночеству, разочарованию и смерти (пьесы «Любовная забава», 1895, «Одиноким путем», 1903, «Бескрайняя страна», 1911).
Болезнь современной души, которую Шницлер не устает изображать в своих пьесах и новеллах, – это экзистенциальный страх, порожденный отчуждением личности, разрывом между сознанием и реальностью. Преломляясь в сознании шницлеровских персонажей, реальность обессмысливается и от этого ускользает, не дается ни чувствам, ни рассудку, готова в любой момент обернуться призрачной фантасмагорией. Изгнанный из реальности, герой Шницлера словно разучился жить; он блуждает среди привычных фактов и отношений как на чужбине, пугаясь своей отрешенности, не узнавая самых простых вещей. Дневная действительность еще не вполне подчинена у Шницлера абсурдной логике ночных сновидений, как это происходит в произведениях Кафки, но ясность очертаний она уже утратила, уже начала исчезать в сумерках, и, если во тьме кафкианского абсурда всегда мерцает огонек религиозной надежды, то серые рассветы Шницлера, кажется, исключают возможность спасения.
Шницлер не верит в апокалипсическую диалектику утраты и обретения, согласно которой смерть искупляет новую жизнь, распад чувственно-материальной действительности освобождает место для абсолютной реальности, кризис автономного субъекта является условием рождения симфонической личности-микрокосма.
С признанием этой диалектики связана вторая версия импрессионизма, в согласии с которой игру наших ощущений, кажущихся бессвязными и мимолетными, следует представлять себе как единый орнамент жизни, где каждый «психофизический» элемент, причудливо переплетаясь с другими, участвует в создании величественной гармонии целого и проникнут его общим смыслом.
В литературно-критической эссеистике Бара к импрессионизму отнесены самые разные авторы и произведения – лирические драмы Метерлинка и Гофмансталя, скульптуры Родена и картины Климта, японские гравюры на выставке «Сецессиона». Признак, который их объединяет, – это умение художника создавать необъяснимые связи (cohеsion indеfinissable)[45 - Выражение одного из любимых художников венских импрессионистов Мориса Дени: М. Denis. Journal. Paris, 1957. T. 1. P. 134.], «видеть в части целое или в одном все»[46 - R. Kassner. Sammtliche Werke in 10 Bdn. Pfullingen, 1969. Bd. V. S. 9.], изображать явления чувственно-материального мира так, чтобы возникало ощущение той тайны, которую Гофмансталь назвал «тайной сцепленности всего земного»[47 - H. Hofmannsthal. Die Frau ohne Schatten // Samtliche Werke. Bd. XXVIII: Erzahlungenl. Frankfurt a. M., 1975. S. 196.]. Махистское искусство импрессионизма, как понимали его в Вене, настаивает на отмене границ, которыми изрезало Вселенную рационалистическое сознание. Импрессионизм там, где вещи выведены их из их изолированности, где восстанавливается единство и принципиальное тождество всего существующего, и человеческое «Я» включается во всемирное братство всех вещей.
Таков, в частности, импрессионизм Петера Альтенберга, у которого импрессионистический принцип дематериализации мира в призме субъективных впечатлений интерпретируется на основе махистской философии тождества внешнего и внутреннего, субъекта и объекта, сознания и бытия. Душа, проповедует Альтенберг, должна «расширить свою территорию»[48 - P. Altenberg. Prodromos. Berlin, 1905. S. 27.], разрастись до масштабов Вселенной. Средством этого расширения является, по его убеждению, поэзия. Поэт – это «Робеспьер души»[49 - P. Altenberg. Was der Tag mir zutragt. Berlin, 1906. S. 73.], но его оружие – не революционная риторика, а магический взгляд[50 - Сравнение творчества Альтенберга с магией имеется у Эгона Фриделя: DasAltenberg-Buch/Hg. v. E. Friedell. Leipzig; Wien, 1922. S. 19—20.]. Называя первый сборник своих лирических миниатюр «Как я это вижу», Альтенберг подчеркивает, что под ударением должно стоять в этом названии не слово «Я», а слово «вижу»[51 - P. Altenberg. Individualitat // Prodromos. S. 95. Петер Хилле характеризует Альтенберга так: «Петер Альтенберг: рецепт, как видеть мир» (P. Hille. Gesammelte Werke. Bd. 1-2. Berlin; Leipzig, 1904. Bd. 2. S. 120).]. Ценность зрительных ощущений определяется для Альтенберга не точностью отражения внешнего мира, а силой его творческого преображения, при котором субъект исчезает, растворяется в объекте. По лучу магического взгляда душа поэта словно перетекает в мир, пропитывает плоть мира как влага губку[52 - P. Altenberg. Wie ich es sehe. Berlin, 1910. S. 112.], и когда она в мире воплотится, мир станет святой плотью и будет спасен.
Грядущее «царство» воплощенной души и одухотворенной плоти предполагает преодоление principium individuationis, и одним из самых суггестивных символов этого преодоления выступает у Альтенберга танец: «„Я есмь“ и „Я танцую“ – эти миры абсолютно противоположны», – пишет Альтенберг[53 - P. Altenberg. Der Tanz // P. Altenberg. Auswahl aus seinen Btichern von Karl Kraus. Zurich, 1963. S. 475.], ибо танцующий отрекается от обособленности своего «Я», по выражению Ницше-Заратустры, «вытанцовывает себя» из границ своей индивидуальности[54 - Ф. Ницше. Соч.: В 2 т. Т. 2. M., 1990. С. 214.]. Такая трактовка танца прямо противоположна той, которая дана в пьесе Шницлера «Хоровод» (Der Reigen, 1900), где эротическая энергия жизни порождает бессмысленное движение по замкнутому кругу и не преодолевает, а организует лживый мир социальной действительности.
Для Альтенберга человек, вовлеченный в дионисийский танец, обретает свободу. Путь к свободе – это не одинокий путь к смерти, как у Шницлера; смерть означает переход через инобытие и условие вхождения в истинную жизнь. С особым пафосом раскрывает эту тему философ и эссеист Густав Ландауэр (Gustav Landauer, 1870—1919), пламенный почитатель Фрица Маутнера (Fritz Mauthner, 1849—1923), чья фундаментальная «Критика языка» (Beitr?ge zu einer Kritik der Sprache, 1901—1902) оказала в одном ряду с учением Маха значительное влияние на «Молодую Вену». В философии Маутнера слову – лживому языку мысли и инструменту отчуждения мира, противостоит молчание – язык мистического чувства. Заостряя мысль своего учителя, Ландауэр пишет: «Есть только один способ избавиться от чувства одиночества и богооставленности: принять мир и принести в жертву ему свое личное „Я“. Но только затем, чтобы почувствовать, что мое Я – это и есть весь мир, в котором оно растворено. Обособившееся Я убивает себя, чтобы дать жизнь Я всемирному».[55 - G. Landauer. Skepsis und Mystik. K?ln, 1925. S. 10, 13.]
Именно этот путь – от гносеологического скептицизма и отчаяния к мистическим «эпифаниям» – проходит герой новеллы Гофмансталя «Письмо» (Ein Brief, 1902) лорд Чэндос, поэт, испытавший отвращение к лживому слову и погрузившийся в молчание. Новелла – тонкая стилизация эпистолярного стиля елизаветинской эпохи – представляет исповедь умолкнувшего поэта, обращенную к его старшему другу и наставнику Бэкону Веруламскому. Гофмансталь прощается со своим героем на пороге авангардизма, в тот момент, когда лорд Чэндос ощущает приближение новых «волшебных слов», о которых он говорит, что они, если бы оформились в его сознании, могли бы «одолеть тех херувимов, в которых он не верует»[56 - Г. Гофмансталь. Избранное. С. 526.]. Это, несомненно, ключевое место «Письма». Речь идет о библейских херувимах с огненными мечами, которые охраняют врата Рая, препятствуя возвращению изгнанного человечества к древу жизни. Неверие в них лорда Чэндоса имеет принципиальное значение: он не верит в грехопадение, в его окончательность, и в недоступность райского сада. Маутнер был убежден, что единство души и плоти, Бога и мира может быть пережито только в безмолвии; вторжение слов неизбежно разрушает мистическое переживание. История лорда Чэндоса это убеждение не столько подтверждает, сколько ставит под сомнение. На последней глубине падения падший переживает блаженные мгновения сверхчувственной интуиции. В его измученном немотой сознании зарождаются неведомые слова нового апофатического языка, на котором говорят не с людьми, а с Богом. Вера в слово сменяется неверием, но кризис безмолвия нужен для того, чтобы родилась другая, истинно священная речь.
Вальтер Йене называет эту новеллу Гофмансталя «свидетельством о рождении модернизма»[57 - W. Jens. Der Mensch und die Dinge. Die Revolution der deutschen Prosa. Hofmannsthal, Rilke, Musil, Kafka, Heim. Statt einer Literaturgeschichte. Pfiillingen, 1978. S. 113.]. Это верно прежде всего потому, что индивидуальная история лорда Чэндоса явственно выстраивается в соответствии с трехтактной парадигмой исторического процесса: от неразделенности Бога и мира до грехопадения к их окончательной нераздельности по ту сторону преодоленной истории, от рая к Новому Иерусалиму.
Определяя модель самоописания модернистской культуры в целом, эта диалектика утраты и обретения находит свое отражение и в идейной структуре важнейших произведений, созданных на рубеже веков в Вене. Центральное звено сюжета образует, как правило, промежуточный этап кризиса, жизнь героя в изгнании, в состоянии инобытия и отчаяния на пороге смерти. Но завершающая сюжет смерть героя – не только конец, но и начало. Уже в ранней пьесе Гофмансталя «Глупец и смерть» смерть является не в образе отвратительной старухи, а в образе прекрасного юноши-музыканта. Когда о принце Эрвине, герое повести Леопольда Андриана «Сад познания», говорится, что он умер, не познав смысла своей жизни, это означает, что познание предполагалось[58 - Ср. оценку «Сада познания» в критической статье Г. Бара: H. Bahr. Der Garten der Erkenntnis // Das Junge Wien. Osterreichische Literaturund Kunstkritik 1887—1902. 2 Bde. Tubingen, 1976. S. 489.]; когда в новелле Гофмансталя «Сказка шестьсот семьдесят второй ночи» (Das M?rchen der 672. Nacht, 1895) герой умирает, с отвращением оглядываясь на свою жизнь, это означает, что была какая-то ошибка, и эта ошибка требует исправления. Со всей определенностью переход в стихию истинной жизни дан лишь в повести Рихарда Беер-Гофмана «Смерть Георга», но имплицитно, как своего рода нулевой член оппозиции, мотив грядущего преображения присутствует во всех текстах писателей «Молодой Вены».
Высшее переживание, которое знают и кладут в основу своего творчества младовенцы, – это переживание unio mystica, в формулировке Гофмансталя, переживание того, что «мы пребываем в состоянии единства со всем, что есть и когда-либо было, не с краю творения, и ни из чего не исключены»[59 - H. Hofmannsthal. Aufzeichmmgen aus dem Nachlass // H Hofmannsthal. Gesammelte Werke in 10 Einzelbanden. Frankfurt a. M., 1979. S. 578.]. Выражая стремление к этому единству, венский импрессионизм все больше отдаляется от декаданса и сближается с символизмом, т. е. образует стадию перехода от декаданса к символизму. Зыбкий мир импрессионистических ощущений, который венцы противопоставляют незыблемой чувственно-материальной действительности немецких натуралистов, важен прежде всего потому, что он зыбок и непрочен. Когда материя утонченных чувственных ощущений истончается до предела, сквозь нее начинает просвечивать абсолютная реальность: «открываются снова просветы в таинственную жизнь мироздания», «за гранью конечного открывается бесконечная даль».[60 - В. M. Жирмунский. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1914. С. 195.]
* * *
Диалектика кризиса-возрождения, намеченная уже в эссе Бара «Модернизм» и столь очевидная в истории эстетического воплощения идей Маха и Фрейда, дает содержание всему периоду венского модернизма. И в годы войны, приведшей к распаду Габсбургской империи, и после нее писатели Вены сохраняют верность основному направлению своего творчества, противопоставляющего социально-исторической действительности абсолютную реальность вечного мифа.
Поздний Шницлер остается скептиком, но все больше тяготеет к фрейдизму. Он демонстративно не замечает политики и истории и, углубляя впечатление о вневременности душевной жизни, мифологизирует психологические конфликты в образах бесцельной и жестокой игры Эроса и Танатоса, которая способна разрушить любую социальную иерархию. Гофмансталь, напротив, бросается в политику и становится патриотом родной Австрии, подменяя распавшуюся империю ее «духовной сущностью» – «австрийской идеей» «консервативной революции», смысл которой заключается в возвращении от идеологии либерализма в лоно барочной католической традиции. Наряду с культурно-философской и политической прозой («Австрийская идея» (Die ?sterreichische Idee, 1917), «Цена и слава немецкого языка» (Wert und Ehre deutscher Sprache, 1927), «Письменность как духовное пространство нации» (Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation, 1927)) свидетельством этого является его увлеченная работа над проектом театрального «Зальцбургского фестиваля», в рамках которого создаются и ставятся его поздние пьесы – «Имярек» (Jedermann, 1911), «Большой Зальцбургский театр жизни» (Das Salzburger GroBe Welttheater, 1922), «Башня» (Der Turm, 1926). Тот же пафос «заоблачного зодчества» питает патриотическую публицистику и общественную деятельность Леопольда Андриана («Австрия сквозь призму ее идеи», 1937), Феликса Зальтена («Принц Евгений, благородный рыцарь», (Prinz Eugen, der edle Putter) 1915) и Рихарда Шаукаля («Родина души» (Die Heimat der Seele), 1916). Еще раньше встает на этот путь Герман Бар, пропагандист метафизической «австрийской души», и, по-своему, Беер-Гофман, отличающийся от друзей своей юности тем, что идея преображения критической культуры в органическую переносится им с Австрии на обетованную землю Израиля.
Уже в девятисотые годы младовенская концепция искусства приобретает новых сильных союзников, вероятно, более сильных и чем сами младовенцы, и чем австрийские экспрессионисты. Это Райнер Мария Рильке (Rainer Maria Rilke, 1875—1926) и Роберт Музиль (Robert Musil, 1880—1942), тот и другой носители глубокого мистического сознания. Подобно поэтам «Молодой Вены», они стремятся к воплощению иной истинной реальности и противопоставляют влиянию немецкого натурализма опыт мировой культуры.
Музиль предпосылает своему первому роману «Душевные смуты воспитанника Терлеса» (Die Verwirrungen des Z?glings T?rleB, 1906) эпиграф из Метерлинка, в котором речь идет о недоступных сокровищах, мерцающих во тьме души. В сознании Терлеса все вещи удваиваются, помимо своего привычного облика они имеют еще и другой, который не воспринимается органами чувств, но дан непосредственно, в интеллектуальном созерцании. Проблема героя и проблема романа – это существование второй реальности, которая присутствует в явлениях эмпирического мира как бесконечное в конечном. Терлесу кажется, что она так же непостижима, как мнимые числа в математике, например, квадратный корень из минус единицы или параллельные линии, которые где-то в бесконечности все же пересекаются. Ясно чувствуя присутствие этой второй реальности, Терлес бьется над разгадкой ее связи с чувственно-предметным миром. Учитель советует ему читать Канта, но логика разума, противопоставляющая явление и сущность, Терлеса не удовлетворяет.
Неприятие Канта важно в романе о Терлесе потому, что оно напоминает об антиметафизическом монизме Эрнста Маха, намечая через эту аллюзию тему «иного состояния», развернутую позднее Музилем в его романе «Человек без свойств» (Der Mann ohne Eigenschaften, 1930—1943). Музиль внимательно изучал Маха и хорошо помнил то примечание к «Анализу ощущений», где Мах рассказывает о своем личном переживании, которое он испытал в юности, читая Канта, и которое заставило его осознать бессмысленность понятия «вещь в себе». «Однажды летним днем в саду, – вспоминает Мах, – весь мир представился мне нерасчлененным потоком взаимосвязанных ощущений, а мое „Я“ – лишь более плотным их сгустком»[61 - Е. Mach. Die Analyse der Empfindungen. S. 24.]. Последняя завершенная глава романа «Человек без свойств» называется «Дыхание летнего дня». Ульрих и Агата, лежа рядом друг с другом под деревьями цветущего сада, замирают в предчувствии «Тысячелетнего Царства». Им кажется, что стоит им отрешиться от всех знаний, закрыть глаза, и они почувствуют, «как соприкоснутся наконец, внешний и внутренний миры, словно выпал клин, который разделял мироздание».[62 - P. Музиль. Человек без свойств. Кн. 2. М., 1994. С. 492—93.]
К снятию границ внешнего и внутреннего в образе абсолютной реальности стремится и Рильке. «Два чуда существуют на свете – духовное и чувственное – и их единство», – писал Гофмансталь[63 - Н. Hofmannsthal. Gesammelte Werke in 10 Einzelbanden. Reden und Aufsatze III: 1925—1929. Aufzeichmmgen. Frankfurt a. M., 1980. S. 578.], и вся поэзия Рильке утверждает веру в реальность этих чудес, являя опыт воплощения сверхчувственной интуиции в формах пространства и времени.
Подобно поэтам «Молодой Вены» Рильке убежден, что жизнь едина, и какие бы разум не устанавливал границы между вещами, эти границы – иллюзия. Их создают различные виды отношений чего-то единого к самому себе, и вся пестрая множественность явлений жизни возникает лишь как различие складок все той же ткани, оформленной все тем же художником. Из поэзии Рильке явствует, что на свете нет и немыслимо ничего, что могло бы быть само по себе, без всякой связи с чем-либо иным. Бытие – это бесконечный поток связей и отношений, где нет ничего автономного, все является иным иного, все отдельное, частное есть и мыслимо только через свою связь с чем-нибудь другим. Уже в раннем сборнике «Часослов» (Das Stundenbuch, 1905) причину и цель этой взаимосвязанности Рильке обозначает именем Бога, но и сам Бог не мыслим вне отношения к тому, что есть его творение: различие между сотворенными субстанциями так же относительно, как и различие между творцом и тварью. В образном языке Рильке это ведет к воскрешению архаического синкретизма, при котором традиционный метафорический перенос значения по условному сходству замещается отношением субстанционального семантического тождества очень удаленных друг от друга предметов и явлений, образующих смысловое пространство символических соответствий.
Ключевой образ Рильке – «внутреннее пространство мира» (Weltinnenraum). Здесь происходит чудо преображения конечного в бесконечное, взаимное спасение «Я» и «не-Я». Когда поэт предается своим грезам, он не отгораживается от мира, а творит высшее бытие, спасает вещи от тления, «перенося их внутрь своего сердца»[64 - P. M. Рильке. Собрание стихотворнеий. СПб., 1995. С. 303.], и чем больше элементов физического мира включает он в свое Я, тем шире раздвигаются его границы – они раздвигаются до тех пор, пока не исчезают в безграничности Вселенной: «Все обреченное на гибель проваливается в более глубокое бытие».[65 - R-M. Rilke. Briefe aus Muzot. 19021-1926. Frankfurt a. M., 1940. S. 896.]
Но наряду с сильными союзниками у «Молодой Вены» были и сильные противники; венская школа утверждалась под огнем критики со стороны ее оппонентов.
Важнейшим из них является сатирик Карл Краус (Karl Kraus, 1874—1936), издатель и почти единственный автор журнала «Факел» (Die Fackel), в котором он на протяжении трех десятилетий беспощадно клеймит ложь современной цивилизации, обличая лицемерную мораль и социальное угнетение, коррумпированную власть и ее институты. Оригинальность Крауса заключается в том, что главной целью своих сатирических атак он делает язык – кривое зеркало извращенного общественного сознания. В статьях, памфлетах и стихотворениях, заполняющих страницы «Факела», трагедия культуры предстает как трагедия ее языка, который продажная пресса и беспринципная журналистика превратили в инструмент манипуляции общественным мнением и насилия над человеческой природой, в средство фальсификации фактов и духовных ценностей.