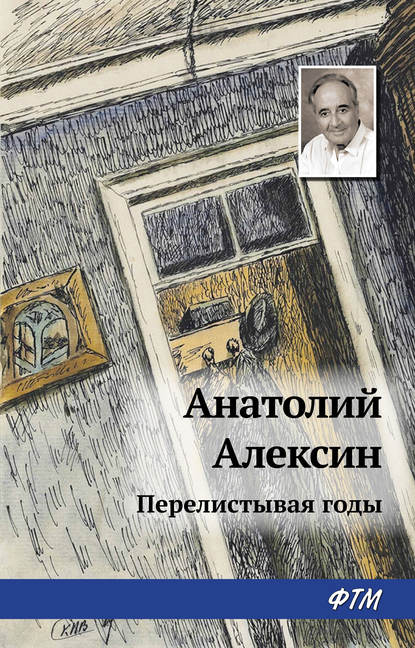По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перелистывая годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Без настырности (но изгладиться, остаться незамеченным это не могло!) он давал понять, что и в сыне любит меня, поскольку Ефим Второй повторяет меня и лицом, и характером. «Лучше бы и тем, и другим он повторял отца!» – мысленно возражала я.
Ефим Второй – так, будто царственную особу, именовала я в полушутку сына. Но только в «полу», потому что он, действительно, был для меня вторым после Ефима Первого.
– Ольга Митрофановна спасает нашу семью, – в другой раз сказал муж, – а сама нуждается в помощи. И даже в спасении!
Это значило, что он ее непременно спасет. Совершит спасение ради спасения – меня, мамы, сына… и вообще всех, кого она старалась избавить, исцелить от удушья.
Я хотела, чтобы Ефим Второй повторил Ефима Первого, а он повторил меня.
– Ты в детстве была – ну, точь-в-точь! – преподнесла мне сюрприз мама.
Муж называл меня красавицей. Выгодно было в это поверить. И я поверила… Значит, и сын должен был выглядеть неотразимым. Однако, когда женские характер и внешность достаются сыну, а мужские – дочери, случается «нестыковка». Муж при всей своей деликатности был неотвратимо определенен в намерениях и шагах. Сын же не шагал, а по-женски метался. Я жалела его и старалась привить ему отцовские качества, но возможность пересадки внутренних органов на душу и характер, увы, не распространяется. Муж был до педантичности обязателен. А если сын обещал вернуться домой часов в шесть, раньше десяти я его не ждала. Точней, не должна была ждать… Но все равно по-матерински места себе не находила.
– Не тревожься, пожалуйста, – просил муж. – Все в порядке. Ничего опасного…
И опасения сами собой рассеивались, исчезали.
По утрам мы с мужем поднимались вместе. Все двадцать пять лет. Четверть века! Он провожал меня до музея, где я была реставратором. Я и дома стремилась все реставрировать… Кроме своих отношений с мужем: они в реставрации не нуждались. Так было каждый день, каждый день… А по вечерам он заходил за мной с такой обязательностью, будто я была не супругой, а девочкой в детском саду. Изо дня в день, изо дня в день…
Для нашей с мамой спасательницы он отыскал дорогу к лекарствам, ингаляторам и вообще ко всему, без чего Ольга Митрофановна не смогла бы справляться с болезнью-душительницей.
– Во имя медицины и возвращения людям здоровья – по крайней мере, в масштабе нашего города! – мне следовало бы заболеть всеми недугами, – как-то сказала я по этому поводу.
– Не преувеличивай. Не фантазируй, – попросил он. «Да, всем моим хворям, будь их хоть тысяча, он бы сумел дать отпор, – подумала я в тот день, который казался мне самым безысходным в истории. – А свою болезнь… проглядел. Я ее заслонила! Только я… Лучше бы этот рак легких на меня навалился! И все болезни лучше бы на меня…»
Ольга Митрофановна не была хирургом, но подняла на ноги весь медицинский мир. О, как я за нее уцепилась! И только в ней видела шанс на чудо. Она разыскала и вытащила из отпуска самого опытного онколога, дочь которого тоже спасала от астмы.
– Зачем он курил? – равнодушно осведомился хирург, ко всему уж привыкший и отучившийся горевать в обнимку с больными и их родственниками.
– Зачем курил? Работа была такая… Он отвечал за объекты, которые что-то вредное выделяли. Очень вредное. И с ними что-то могло случаться… Я точно не знаю. Муж оберегал меня…
– Его тоже следовало беречь.
Хирург сказал правду, но не потому, что дорожил моим мужем, а потому, что так говорил всем.
– Надежда есть, а? Скажите… Есть? – шепотом произнесла я, заранее ужасаясь его ответу. – Муж не хотел меня тревожить. Скрывал от меня… Есть надежда?
– Жена обязана знать, если от нее и скрывают, – проговорил он, не отвечая на мой главный вопрос. И разглядывал при этом свои, по-медицински тщательно обстриженные, ногти.
– Надежда есть?
– А сколько он курил… в сутки?
– Одну сигарету прикуривал от другой. Особенно в последние годы, – ответила я. – Но все обойдется, а?
– Как же вы допустили подобное? – вместо ответа спросил он сам.
«Как же я допустила? Как же я?.. Как же?!» – разрывал запоздалый вопрос.
– Нервничал слишком? – дежурно поинтересовался хирург.
Он был знаменитым. «Но знаменитость свою, – подумала я, – приобрел не душевностью, не состраданием.» Впрочем, от него требовались врачебное искусство и знания, а не жалостливая душевность. Где было взять ее в том количестве, какое требовала его профессия? Все равно бы на всех не хватило…
Что было на кладбище, я не помню. Говорят, кричала: «Фимочка, я с тобой!» И рвалась вслед за ним. Говорят, пять или шесть мужчин еле удерживали меня. Говорят…
Я собрала все наши сбережения, кое-что продала, кое-что одолжила. И поставила нам с Фимой памятник. Нам обоим, потому что рядом с его фотографией в темно-серый гранит врезали и мою. Под ней – день, месяц и год рождения, за ними – черточка, а за черточкой – пустое каменное пространство для даты смерти, которую я звала, мечтала приблизить. Кроме наших с ним имен, нашей фамилии и дат, на памятнике, посреди него, высечено было лишь одно слово: «Люблю…» Все субботы и воскресенья я проводила на лавочке возле памятника. Мыла его нежно и старательно, погружала в цветы.
Пожилая женщина, подметавшая кладбищенские дорожки, как-то подошла сзади и негромко спросила:
– Он знал, что ты так его любишь?
– Он так же меня любил.
Через год и четырнадцать дней после смерти мужа сын, уже студент третьего курса, зачем-то стал листать книгу, в которую мы никогда не заглядывали. Это был учебник японского языка, который забыл у нас Фимин приятель, живший в Оренбурге, но преклонявшийся перед японцами. Из Оренбурга он сообщил нам лет десять назад, что учебник ему не нужен: это начальный курс, а он продвинулся дальше. Сын учился в автодорожном… Зачем ему понадобился японский язык? Вроде, ничего в жизни не бывает случайным. Но ему-то к чему было раскрывать ту книгу и разглядывать иероглифы? Иероглифы… Это слово с того дня преследует меня, как символ непостижимости.
Сын на что-то наткнулся в той книжке. Прочитал… И, как о нежданной сенсации, крикнул:
– Посмотри, мама!
Я взяла в руки лист, вырванный из врачебного блокнота с фамильным штампом:
«Милый! Как коротки наши встречи… И как невыносимо длинны разлуки! Ты говоришь, что еще никогда так не любил. А я вообще, не любила – ни так, ни по-другому. И никому больше не скажу слова, которое повторяю с рассвета дотемна (и по ночам тоже!) – все эти четыре года: «Жду!» А все другое делаю уже механически. Врачу стыдно в этом признаться…
Я жду! Но как бы ситуация не оказалась той астмой, которая нас задушит…
Твоя Ольга.
P.S. В Москву, ты знаешь, вылетаю через неделю. Буду по-прежнему писать до востребования каждый день. Если даже письма долетят до тебя позже, чем я сама… Жду!»
Я забыла дорогу на кладбище. И возненавидела сына. Разве не мог он предать то письмо огню? Превратить в клочки, которые невозможно было бы склеить? Зачем протянул его мне – и перечеркнул мою жизнь?. Которую я вспомнила сейчас так, будто все, что казалось мне счастьем, было счастьем на самом деле… Я воссоздала события с объективностью, приносящей страдания. Воссоздала точно такими, какими ощущала их в пору, когда они возникали, происходили. Зачем? Чем сильней очаровываешься, тем мучительней разочарование, если оно наступает. Но я не была разочарована – я была убита.
Могилы, надгробия, памятники… Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сравнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому…
К памятнику, покинутому одним, может приникнуть другой. Может, конечно. О своем бывшем памятнике я ничего такого не знаю. Он стал заброшенным для меня. И фотография моя там – не на своем месте. Трудно себе представить…
Надгробия, памятники, могилы… Нет, они не безмолвны – они свидетельствуют, они повествуют.
Как создавались легенды…
Из блокнота
Одним из лучших редакторов издательства «Детская литература» не только считалась, но и была Екатерина Тихоновна Бобрышева. Двух ее братьев (из того же фанатичного племени коммунистов-идеалистов!) расстреляли в лубянском подвале. А третий был убит тоже пулей, но немецкой, в бою. Его имя начертано золотом на мраморе в вестибюле Центрального Дома литераторов.
Считается, что пороки с возрастом прогрессируют. Вот и «величайший вождь и мучитель» стал вовсе уж величайшим на краю своего дьявольского существования: расправа с Еврейским антифашистским комитетом, «дело врачей»… Подстраиваясь под общий политический психоз, один из наиболее инициативных московских райкомов партии снарядил «ответственную комиссию» и натравил ее на самое крупное издательство детской литературы. Самое крупное в планетарном измерении… Райкомовская чистка призвана была очистить коллектив от засорения родственниками «врагов народа». Директор издательства Константин Федотович Пискунов – один из самых святых людей, которых я когда-либо встречал, – пытался противоборствовать, противодействовать… Но безуспешно. Комиссия потребовала «убрать» в том числе и сестру «братьев-разбойников», уничтоженных еще в тридцать седьмом году. Тогда группа писателей отправилась к Фадееву отстаивать любимую Катю Бобрышеву… Лицо Александра Александровича, которое всегда казалось мне притягивающе красивым и мужественным, стало неэстетично заливаться густо-алым цветом, что резко обозначилось на фоне его белоснежной, без малейших оттенков, шевелюры.
– Обращайтесь ко мне с любыми просьбами. Кроме подобных…
Я отважился вслух изумиться:
Ефим Второй – так, будто царственную особу, именовала я в полушутку сына. Но только в «полу», потому что он, действительно, был для меня вторым после Ефима Первого.
– Ольга Митрофановна спасает нашу семью, – в другой раз сказал муж, – а сама нуждается в помощи. И даже в спасении!
Это значило, что он ее непременно спасет. Совершит спасение ради спасения – меня, мамы, сына… и вообще всех, кого она старалась избавить, исцелить от удушья.
Я хотела, чтобы Ефим Второй повторил Ефима Первого, а он повторил меня.
– Ты в детстве была – ну, точь-в-точь! – преподнесла мне сюрприз мама.
Муж называл меня красавицей. Выгодно было в это поверить. И я поверила… Значит, и сын должен был выглядеть неотразимым. Однако, когда женские характер и внешность достаются сыну, а мужские – дочери, случается «нестыковка». Муж при всей своей деликатности был неотвратимо определенен в намерениях и шагах. Сын же не шагал, а по-женски метался. Я жалела его и старалась привить ему отцовские качества, но возможность пересадки внутренних органов на душу и характер, увы, не распространяется. Муж был до педантичности обязателен. А если сын обещал вернуться домой часов в шесть, раньше десяти я его не ждала. Точней, не должна была ждать… Но все равно по-матерински места себе не находила.
– Не тревожься, пожалуйста, – просил муж. – Все в порядке. Ничего опасного…
И опасения сами собой рассеивались, исчезали.
По утрам мы с мужем поднимались вместе. Все двадцать пять лет. Четверть века! Он провожал меня до музея, где я была реставратором. Я и дома стремилась все реставрировать… Кроме своих отношений с мужем: они в реставрации не нуждались. Так было каждый день, каждый день… А по вечерам он заходил за мной с такой обязательностью, будто я была не супругой, а девочкой в детском саду. Изо дня в день, изо дня в день…
Для нашей с мамой спасательницы он отыскал дорогу к лекарствам, ингаляторам и вообще ко всему, без чего Ольга Митрофановна не смогла бы справляться с болезнью-душительницей.
– Во имя медицины и возвращения людям здоровья – по крайней мере, в масштабе нашего города! – мне следовало бы заболеть всеми недугами, – как-то сказала я по этому поводу.
– Не преувеличивай. Не фантазируй, – попросил он. «Да, всем моим хворям, будь их хоть тысяча, он бы сумел дать отпор, – подумала я в тот день, который казался мне самым безысходным в истории. – А свою болезнь… проглядел. Я ее заслонила! Только я… Лучше бы этот рак легких на меня навалился! И все болезни лучше бы на меня…»
Ольга Митрофановна не была хирургом, но подняла на ноги весь медицинский мир. О, как я за нее уцепилась! И только в ней видела шанс на чудо. Она разыскала и вытащила из отпуска самого опытного онколога, дочь которого тоже спасала от астмы.
– Зачем он курил? – равнодушно осведомился хирург, ко всему уж привыкший и отучившийся горевать в обнимку с больными и их родственниками.
– Зачем курил? Работа была такая… Он отвечал за объекты, которые что-то вредное выделяли. Очень вредное. И с ними что-то могло случаться… Я точно не знаю. Муж оберегал меня…
– Его тоже следовало беречь.
Хирург сказал правду, но не потому, что дорожил моим мужем, а потому, что так говорил всем.
– Надежда есть, а? Скажите… Есть? – шепотом произнесла я, заранее ужасаясь его ответу. – Муж не хотел меня тревожить. Скрывал от меня… Есть надежда?
– Жена обязана знать, если от нее и скрывают, – проговорил он, не отвечая на мой главный вопрос. И разглядывал при этом свои, по-медицински тщательно обстриженные, ногти.
– Надежда есть?
– А сколько он курил… в сутки?
– Одну сигарету прикуривал от другой. Особенно в последние годы, – ответила я. – Но все обойдется, а?
– Как же вы допустили подобное? – вместо ответа спросил он сам.
«Как же я допустила? Как же я?.. Как же?!» – разрывал запоздалый вопрос.
– Нервничал слишком? – дежурно поинтересовался хирург.
Он был знаменитым. «Но знаменитость свою, – подумала я, – приобрел не душевностью, не состраданием.» Впрочем, от него требовались врачебное искусство и знания, а не жалостливая душевность. Где было взять ее в том количестве, какое требовала его профессия? Все равно бы на всех не хватило…
Что было на кладбище, я не помню. Говорят, кричала: «Фимочка, я с тобой!» И рвалась вслед за ним. Говорят, пять или шесть мужчин еле удерживали меня. Говорят…
Я собрала все наши сбережения, кое-что продала, кое-что одолжила. И поставила нам с Фимой памятник. Нам обоим, потому что рядом с его фотографией в темно-серый гранит врезали и мою. Под ней – день, месяц и год рождения, за ними – черточка, а за черточкой – пустое каменное пространство для даты смерти, которую я звала, мечтала приблизить. Кроме наших с ним имен, нашей фамилии и дат, на памятнике, посреди него, высечено было лишь одно слово: «Люблю…» Все субботы и воскресенья я проводила на лавочке возле памятника. Мыла его нежно и старательно, погружала в цветы.
Пожилая женщина, подметавшая кладбищенские дорожки, как-то подошла сзади и негромко спросила:
– Он знал, что ты так его любишь?
– Он так же меня любил.
Через год и четырнадцать дней после смерти мужа сын, уже студент третьего курса, зачем-то стал листать книгу, в которую мы никогда не заглядывали. Это был учебник японского языка, который забыл у нас Фимин приятель, живший в Оренбурге, но преклонявшийся перед японцами. Из Оренбурга он сообщил нам лет десять назад, что учебник ему не нужен: это начальный курс, а он продвинулся дальше. Сын учился в автодорожном… Зачем ему понадобился японский язык? Вроде, ничего в жизни не бывает случайным. Но ему-то к чему было раскрывать ту книгу и разглядывать иероглифы? Иероглифы… Это слово с того дня преследует меня, как символ непостижимости.
Сын на что-то наткнулся в той книжке. Прочитал… И, как о нежданной сенсации, крикнул:
– Посмотри, мама!
Я взяла в руки лист, вырванный из врачебного блокнота с фамильным штампом:
«Милый! Как коротки наши встречи… И как невыносимо длинны разлуки! Ты говоришь, что еще никогда так не любил. А я вообще, не любила – ни так, ни по-другому. И никому больше не скажу слова, которое повторяю с рассвета дотемна (и по ночам тоже!) – все эти четыре года: «Жду!» А все другое делаю уже механически. Врачу стыдно в этом признаться…
Я жду! Но как бы ситуация не оказалась той астмой, которая нас задушит…
Твоя Ольга.
P.S. В Москву, ты знаешь, вылетаю через неделю. Буду по-прежнему писать до востребования каждый день. Если даже письма долетят до тебя позже, чем я сама… Жду!»
Я забыла дорогу на кладбище. И возненавидела сына. Разве не мог он предать то письмо огню? Превратить в клочки, которые невозможно было бы склеить? Зачем протянул его мне – и перечеркнул мою жизнь?. Которую я вспомнила сейчас так, будто все, что казалось мне счастьем, было счастьем на самом деле… Я воссоздала события с объективностью, приносящей страдания. Воссоздала точно такими, какими ощущала их в пору, когда они возникали, происходили. Зачем? Чем сильней очаровываешься, тем мучительней разочарование, если оно наступает. Но я не была разочарована – я была убита.
Могилы, надгробия, памятники… Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сравнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому…
К памятнику, покинутому одним, может приникнуть другой. Может, конечно. О своем бывшем памятнике я ничего такого не знаю. Он стал заброшенным для меня. И фотография моя там – не на своем месте. Трудно себе представить…
Надгробия, памятники, могилы… Нет, они не безмолвны – они свидетельствуют, они повествуют.
Как создавались легенды…
Из блокнота
Одним из лучших редакторов издательства «Детская литература» не только считалась, но и была Екатерина Тихоновна Бобрышева. Двух ее братьев (из того же фанатичного племени коммунистов-идеалистов!) расстреляли в лубянском подвале. А третий был убит тоже пулей, но немецкой, в бою. Его имя начертано золотом на мраморе в вестибюле Центрального Дома литераторов.
Считается, что пороки с возрастом прогрессируют. Вот и «величайший вождь и мучитель» стал вовсе уж величайшим на краю своего дьявольского существования: расправа с Еврейским антифашистским комитетом, «дело врачей»… Подстраиваясь под общий политический психоз, один из наиболее инициативных московских райкомов партии снарядил «ответственную комиссию» и натравил ее на самое крупное издательство детской литературы. Самое крупное в планетарном измерении… Райкомовская чистка призвана была очистить коллектив от засорения родственниками «врагов народа». Директор издательства Константин Федотович Пискунов – один из самых святых людей, которых я когда-либо встречал, – пытался противоборствовать, противодействовать… Но безуспешно. Комиссия потребовала «убрать» в том числе и сестру «братьев-разбойников», уничтоженных еще в тридцать седьмом году. Тогда группа писателей отправилась к Фадееву отстаивать любимую Катю Бобрышеву… Лицо Александра Александровича, которое всегда казалось мне притягивающе красивым и мужественным, стало неэстетично заливаться густо-алым цветом, что резко обозначилось на фоне его белоснежной, без малейших оттенков, шевелюры.
– Обращайтесь ко мне с любыми просьбами. Кроме подобных…
Я отважился вслух изумиться: