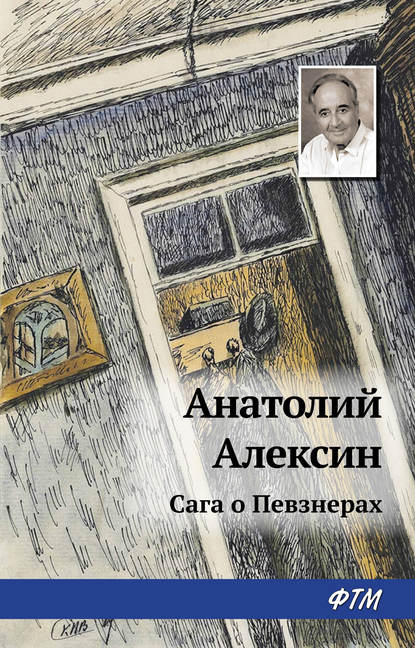По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сага о Певзнерах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Такие интеллигенты… Но не кивнули даже.
Знаменитости и друг с другом совершенно никак не общались. Сидели на диване, на стульях вдоль стен, уставившись в никуда. Отца как бы и не заметили. Восковая, сероватая бледность покрывала их лица. А растерянность и крайнее напряжение проявляли себя в недвижности рук. Пальцы так сцепились друг с другом, что, казалось, могло произойти замыкание и вспыхнуть пожар.
Передвигались только два руководящих деятеля и отец. Его подвели к столу… Посреди на зеленом сукне (можно было бы сказать, «как на поле», но с полем то сукно, хоть и зеленое, протестующе не ассоциировалось) – так вот, на зеленом сукне возлежал неестественно огромный двойной, или хищно двукрылый, лист. А на нем – текст и колонки фамилий, напечатанных типографским способом, будто вросших в бумагу. И еще подписи, истерично изрисовавшие второе крыло листа – параллельно, полуперпендикулярно, вкривь и вкось… Когда отец начал всматриваться в текст, крылья стали казаться ему все более зловещими, а подписи нарочито неразборчивыми. Та продуманная неразборчивость была трусливо-наивной: она расшифровывалась инициалами, фамилиями, набранными жестким шрифтом. Он был таким, что сомнения – даже в букве единой! – диктаторски исключались.
Согласно тексту, который отец, обладавший снайперским зрением, дословно прочитать не смог, новаторы, именовавшиеся тогда стахановцами, ученые и писатели, музыканты и режиссеры – все согласно и дружно, хоть в реальности стеснялись друг на друга взглянуть, – признавали вину еврейского народа перед другими народами и жаждали лишь одного: искупления. Оно, как понял отец, могло осуществиться только вдали от нашего дома, в Приморье, где расположилась автономная Еврейская область. Воссоединение с ее населением – а может быть, поселением – являлось, оказывается, целью жизни тех, кто собрался в казенно-барственном кабинете. Там, где отца с разных сторон гипнотизировало слово «ПРАВДА», будто высеченное из кремня. Исключительно вдалеке от родного города и родного дома могла быть, оказывается, обеспечена, гарантирована и наша полная безопасность, ибо народ всей страны, понял отец, возмущался так сильно, что готов был к действиям необузданным, непредсказуемым.
Затвердевшие на диване и на стульях вдоль стены знаменитости просили без всякой задержки, как можно скорее погрузить их в теплушки и отправить для воссоединения, искупления и спасения.
– Подпишите, пожалуйста, – мягко подсказал отцу один из руководящих деятелей, будто речь шла о каком-нибудь юбилейном поздравлении.
– Если, разумеется, вы согласны, – с ласковой демократичностью добавил второй.
И отец расписался. В чем? В доверчивости? Или в трусости, хоть от рождения был Героем? На это сейчас с достоверностью трудно ответить. Но только не в трусости! Окаменелая убежденность, я думаю, водила его пером. Но сквозь эту окаменелость пробилось странное изумление: неужели Гутенберг изобрел свой станок, чтобы напечатали со временем то, что он, отец, подписал.
При чем тут был Гутенберг? Но ведь и все остальное навалилось вопреки реальности и рассудку.
Обычно отцовская подпись «Певзнер» выглядела по-строевому прямолинейно и безоговорочно, как слово «Правда» в серокаменном здании. Но там, в этом здании и его особой важно-вельможной обители, отец расписался тоже с нарочитой неразборчивостью.
– Ты, значит, подписал прошение о депортации? – еле слышно, беспощадно комкая свой пустой рукав, сказал Анекдот.
– О чем? – переспросил отец.
– О депортации. Это тотальная, поголовная высылка. – Мамы не было, и Абрам Абрамович мог не сдерживаться. – Сражаешься с чумой?.. А она все распространяется, перерождаясь в эпидемию. По-моему, ты борешься с какой-то не той чумой. Надо бы с нравственной, политической!
* * *
Тот спор не просто возник в моей памяти – он заныл в ней, как старая рана, когда я присел в одном из своих маршрутов на осеннем, но еще не поддавшемся медной окраске бульваре. Его имя – Нордау – казалось мне скандинавским… На самом краешке скамьи приспособилась старушка, сжавшаяся, хоть было тепло, от какой-то мысли, терзавшей ее, мне показалось, всю жизнь.
– Вы о чем? – бестактно задал я негромкий вопрос, потому что, мне чудилось, думали мы об одном и том же. То была мистика. Я, как обнаружилось чуть раньше, обладал способностью притягивать к своим мыслям чужие. Но все же не до такой степени, как выяснилось на той скамейке.
– Мужа моего англичане депортировали в Советский Союз, к Сталину… после войны. Как пленного. В лагере смерти у фашистов он выжил. Немцы в нем еврея не опознали. А в сталинском лагере доконали. За что? Он ведь попал в плен тяжелораненым, был в беспамятстве. За что же его? Я думаю об этом с сорок пятого года. За что я на свете одна? Детей у нас не было: он ушел на фронт прямо со свадьбы. Что плохого мы сделали Сталину, Гитлеру, англичанам? Депортация… За что я одна?
– Осторожно, – сказал я. – Вы же на самом краешке…
– Я там уже очень давно.
* * *
Абрам Абрамович учился вместе с отцом. Когда они были студентами третьего курса, состоялся исторический, как называл его впоследствии Анекдот, совместный «вечер отдыха» двух институтов – медицинского и педагогического. Отдых был таким безмятежным, что закончился дракой. Будущие медики, которым предстояло лечить людей, дрались с будущими педагогами, которым предстояло людей воспитывать. И только доблесть отца, который не побоялся разбросать в разные стороны будущих воспитателей и целителей, остановила свару, грозившую превратиться в побоище. Мама подошла к отцу, чтобы поблагодарить его, – и они взаимно влюбились: он – в неотразимую красоту, а она – в неотразимое мужество.
– Она его за смелость полюбила, а он – за то… – Анекдот, перефразируя Отелло, закончил: – А он ее за то… за что бы каждый полюбил.
Абрам Абрамович тоже помог «бороться за мир», что было столь модно не только в масштабе вечера отдыха, но и в масштабе планеты. «Борьба» и «мир» – понятия противоположные. Но этого никто у нас как-то не замечал.
– Мы с тобой родились в результате драки, – сказал мне однажды Игорь. В той шутке была не доля правды, а полная правда и ничего, кроме правды.
Желая уточнить детали нашего грядущего появления на свет, я спросил:
– А из-за чего дрались?
Мама и папа не помнили. Но Абрам Абрамович объяснил:
– Из-за того, что кто-то пытался нарушить очередь.
– За чем? – спросил я.
– Не «за чем», а «на что»! На танец с вашей мамой.
Отец запоздало возревновал:
– Чересчур большая была очередь!
– Ну, ты-то был бы вне конкуренции и вне очереди, – успокоил его Анекдот. – Но ты не сразу заметил Юдифь: претенденты на танец ее заслонили. А я числился девятым. И до меня не дошло…
– До сих пор помнишь порядковый номер?
– А как же…
Почувствовав, что произнес это с излишней печалью, Абрам Абрамович свернул на свой испытанный путь:
– Знаете, есть такой анекдот… Стоит женщина на остановке. К ней подходит мужчина, вероятно еврей, и спрашивает: «Третий номер троллейбуса здесь проходит?» – «Проходит», – отвечает она. «А пятый номер?» – «Проходит». – «А седьмой номер?» – «Здесь проходят третий номер, и пятый, и седьмой, – отвечает женщина. – Но ваш номер не пройдет!» – Абрам Абрамович с той же грустью добавил: – Мой тоже не прошел… – И вновь спохватился: – Но твой-то номер, Борис, прошел! Хоть в очередь ты и не становился.
В институтские годы Абрам Абрамович, естественно, был более молодым, но не был менее мудрым. И посоветовал отцу незамедлительно сделать предложение нашей будущей маме.
– Каждый день промедления смерти подобен, – сказал Анекдот. – Ее уведут!
Отец кинулся в наступление, завершившееся взятием крепости «Юдифь», которую пытались захватить многие. Но он оказался отважней и отчаянней других атакующих.
Еврейский Анекдот жил в одной из семи комнат коммунальной квартиры вместе со своей мамой, которая была приговоренно парализована. Всеми возможными и невозможными средствами он продлевал ее жизнь, парализуя этим свою личную. И постепенно привык быть холостяком. Мама, дождавшись, когда сын окончит институт, умерла. А привычка быть холостяком у Анекдота осталась… Тем более, что одиночества Абрам Абрамович не испытывал: он стал членом нашей семьи.
– Какая разница – Певзнер или Абрамович? – говорил он. – Для антисемитов – это одно и то же. И для меня, как ни странно!
По этой причине он обменял одну из семи комнат коммунальной квартиры на одну из девяти комнат другой коммунальной квартиры. Но зато на нашей улице.
А вернувшись с войны раньше отца, он, лишенный правой руки, взял в руки, как тогда говорили, «заботу о семье фронтовика», состоявшую из одной нашей будущей мамы. Она ждала мужа, глубоко запрятав страх и отчаяние. Сокрытая же взрывчатка гораздо опаснее той, которая на поверхности, видна и поддается контролю.
Через многие десятилетия – не могу вновь не вспомнить – я скажу умирающему Анекдоту:
– Абрам Абрамович, я не хочу прощаться… Вы не должны уходить… Вы так любите жизнь!
– Я любил вашу маму, – ответит мне он.
Сквозь страдания его, которые я угадаю, в глаза Абрама Абрамовича все же пробьется юмор, перемешанный с грустью.
– Есть такой анекдот…
Его голос ослабеет, но не утратит иронии.