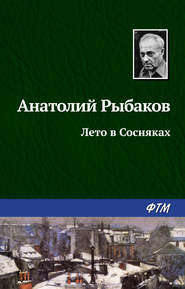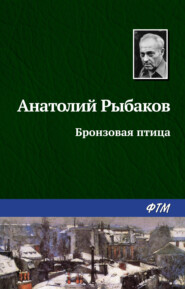По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Роман-воспоминание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У дедушки было пятеро сыновей и две дочери. Моя мать – старшая.
Дедушка надеялся, что сыновья, как и он, будут торговцами. Торговцем стал только старший – Толя. Но, в отличие от деда, был торгаш, жадный и лукавый. Во время послевоенной денежной реформы за какую-то операцию с деньгами его осудили на десять лет лагерей. В лагере и умер.
Второй, Гриша, однажды ночью исчез и оказался в Америке, работал там шофером на грузовике. В тридцать втором году приезжал в СССР. Немудрящий человек, спокойный и деликатный. Советскую жизнь одобрял, только не понимал, почему людям запрещают торговать. Гордился значками, удостоверявшими, что в одной фирме он проработал много лет. Через год после возвращения из Союза в Штаты умер. Болел сердцем, но, боясь потерять право на какую-то особую пенсию, продолжал работать. Работа была тяжелая.
Третий – Лева, фантазер и мечтатель, носил пенсне, читал запоем, из него хотели сделать «образованного» человека. Помешали: процентная норма, война, революция, женитьба, а главное – его собственная ленивая созерцательность. В середине двадцатых годов уехал в Палестину, но вскоре там умерла его жена, он вернулся в Россию с двумя сыновьями, устроился в Ленинграде мелким служащим. Хороший был человек, какими часто бывают непрактичные и неумелые мечтатели. Был у него талант рассказчика, мог целый день, а то и ночь пересказывать виденные кинофильмы и прочитанные книги. Во время блокады из Ленинграда не уезжал, участвовал в его обороне и вскоре после войны умер.
Давид был самый младший, в семье его звали Дончик, худенький, мальчишеского роста, с ангельским лицом, но недобрым и мстительным характером. Комсомолец, потом член партии, всю жизнь доказывал, что еще в ранней юности порвал с отцом-торговцем. Я помню бесчисленные заявления, опровержения, сбор свидетельских показаний. Он работал в прокуратуре, болел диабетом, последние годы адвокатствовал. Умер в возрасте пятидесяти пяти лет. Ничем не был похож на своего отца, моего деда. Хорошо вписывался в общественно-социальный фон тридцатых годов.
И только один из сыновей, Миша, попав в горнило великих событий, поднялся до высоты дедушкиного характера. Доброта и отвага, проявление которых в дедушке было ограничено его положением торговца, переросли в дяде Мише – командире Красной Армии, участнике гражданской войны – в безоглядную щедрость и отчаянную храбрость. И внешне он больше других братьев походил на деда – широкоплечий крепыш с чеканным загорелым монгольским лицом и раскосыми глазами, сорвиголова. Другим сыновьям дедушка раздавал пощечины, Мишу колотил нещадно.
В конце первой мировой войны, шестнадцати лет, он сбежал на фронт, присоединился к проходящему кавалерийскому эскадрону. Три года не подавал о себе вестей, его считали погибшим, и вдруг он появился в Сновске: живописный красный командир в папахе, длинной кавалерийской шинели, перетянутой ремнями, с шашкой и пистолетом на боку, со звенящими шпорами на сапогах. Весь город им гордился, – герой гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени, ну, а я особенно – мой дядя! В доме полно оружия, в конюшне красавцы кони. Два дня он пробыл в Сновске, и я не отходил от него ни на шаг, куда он, туда и я, он меня не прогонял, добрый человек, бесшабашный, отважный, справедливый и бескорыстный. В революции обрел мужественную веру, заменившую ему веру предков, его прямой ум не выносил талмудистских хитросплетений, простая арифметика революции была ему понятней, гражданская война дала выход кипучей энергии, ясность солдатского бытия освобождала от мелочей жизни.
С ним мы чувствовали себя в безопасности, но вскоре он уехал, и снова начались страхи перед бандами, белыми, зелеными, разными «батьками» и атаманами, свирепствовавшими в окрестных селах. Ночью по улицам ходили отряды местной самообороны: дети еврейских торговцев и ремесленников, рабочие депо и железнодорожных мастерских. На станции стояли воинские эшелоны, санитарные кордоны, заградительные отряды, лошади переступали копытами в вагонах… Мир разделился на белых и красных, я был за красных и гордился тем, что в дедушкином доме живет комиссар – матрос Крылов. Рассказывал своим товарищам всяческие небылицы о нашей с ним дружбе. Дружбы никакой не было, было преклонение мальчика перед сильным и грубым военным моряком, на которого я бессознательно переносил свое обожание и преклонение перед дядей Мишей.
Крылова боялись: он собирал контрибуцию и иногда вызывал к себе тех, кому полагалось ее платить, но которые ее не платили. В этих случаях меня отсылали из дому. Но однажды я вбежал с улицы, меня не успели остановить. На полу лежал длинный худой еврей, на нем сидел Крылов и бил его по голове кулаками. Тот извивался, корчился и плакал, грязно-серые штрипки кальсон торчали из-под задравшихся брюк. Крылов повернулся ко мне, и я увидел его налитые мутной кровью дикие глаза. На кухне жались перепуганные люди. Дедушка вошел вслед за мной, взял за плечи и вывел из комнаты.
Я сидел на улице. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах лаяли собаки. И эта вечерняя тишина, когда рядом в доме избивают человека, была страшной и угнетающей. На крыльце показался избитый еврей. Я смотрел на него с отвращением. Но кончилось и мое преклонение перед Крыловым. Нет, он не такой, как дядя Миша.
Осенью девятнадцатого года мы переехали в Москву. Ехали долго, месяца полтора или два по югу России, по Украине. Нигде гражданская война не бушевала так, как здесь. Этот переезд мне хорошо запомнился. Я видел дороги России, по которым катилась Революция – массы людей, поднятых неотвратимой стихией и брошенных в неизвестность.
Пассажирские поезда не ходили, наш вагон прицепляли к проходящим эшелонам. Мосты были разрушены, мы выбирались на действующие дороги в объезд, кружным путем. Леса, поля, деревеньки, белые хаты-мазанки, небо и равномерный стук колес, потом опять шумные станции, вокзалы, воинские эшелоны, разутые красноармейцы, щеголеватые матросы, рабочие, мешочники, озверелые толпы людей, кидающиеся на проходящие поезда, люди на крышах, тормозах и буферах вагонов, митинги, плакаты, частушки.
На одной станции мы стояли очень долго. Из станционных зданий выносили трупы умерших от голода и от тифа. Грязные дети копошились на платформах. Небритые солдаты разводили на путях костры, что-то варили в котелках.
К нашему составу прицепили товарный вагон, в нем везли продовольствие для детских домов Москвы. Вагон был запломбирован. Каким образом узнали о нем красноармейцы, не знаю. Но узнали и окружили вагон. Командиры потребовали выдачи продовольствия. Начальник эшелона им отказал: вагон нетронутым должен быть доставлен в Москву. Командиры грозили, что красноармейцы все равно отберут продовольствие. Пока велись переговоры, толпа увеличивалась: голодные люди облепили вагон, взобрались на крышу, отшвырнули часового, затрещал замок, тяжелая дверь покатилась по рельсе.
И в эту минуту появился дядя Миша. Не могу понять, откуда он возник. Я увидел его, когда он уже вскочил в вагон и стоял, обращаясь к толпе.
Он не был ни трибун, ни оратор. Но он был свой. Отчаянный, лихой парень, которых так добродушно любит толпа, бесстрашный человек, привыкший управлять себе подобными, не дающий их в обиду, но и не позволяющий самовольничать. Никто или мало кто знал его здесь, но что это за человек, толпа угадала сразу.
О чем он говорил, я не помню. Важно не то, о чем говорил, важно, что стоял в дверях вагона, и для того, чтобы войти в вагон, надо было оттолкнуть его. А дотронуться до него никто бы не решился – застрелит первого, кто поднимет на него руку.
Потом он объявил, что в вагоне есть несколько мешков сухарей и эти сухари сейчас раздадут красноармейцам.
Сухари выдавали тут же, у вагона, один сухарь на человека. Солдаты подходили, каждый брал свой сухарь и отходил в сторону. Никто не пытался получить второй.
Сухари кончились. Начали выдавать крошки, по две горсти на человека. Теперь подставляли шапки… Кончились и крошки. Нескольким солдатам ничего не досталось. С ними делились те, кто не успел дожевать свой сухарь. Командиры стояли в стороне, они не брали сухарей, хотя тоже были голодны. Дядя Миша зашел к нам в вагон, пошутил с моей матерью и исчез так же внезапно, как и появился.
Таким я видел его в последний раз, таким запомнил, таким представлялся мне истинный революционер. «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву», – так писал он дедушке, когда служил в конном корпусе Гая.
После гражданской войны дядя Миша был командиром расквартированной в Чернигове части. В городской тюрьме содержались трое его земляков-сновчан. По стране ходили тогда всякого рода денежные знаки: советские, царские ассигнации, карбованцы, керенки, деньги, выпускаемые разными правительствами, генералами, атаманами, даже уездами, объявившими себя республиками. Говорили, будто на деньгах, выпущенных Махно, было написано: «Гоп, куме, не журися, у батьки Махно гроши завелися». Возможно, это был анекдот того времени. Единственной и надежной валютой считались золотые царские монеты, на них можно было что-то купить у крестьян и перепродать. Однако это преследовалось, как спекуляция золотом. И вот трое сновчан на этом попались, сидели в тюрьме, им грозил расстрел. Их жены кинулись к Мише Рыбакову, видному человеку в Чернигове: дети останутся сиротами, что делать?! Дядя Миша знал этих людей, не считал их преступление таким уж значительным, начал хлопотать за них, хлопоты ни к чему не привели. Тогда со взводом солдат он явился в тюрьму и освободил арестованных.
За это трибунал приговорил его к расстрелу.
Его любили, никто не хотел его гибели, и предоставили возможность бежать, выдали дедушке на три дня на поруки. Факт невероятный, тем не менее это было так. У дедушки стояли наготове лошади. Но дядя Миша бежать отказался. Он объехал всех, кому задолжал: сапожника, портного – был щеголь, – роздал долги, попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму.
Безусловно, его расстреляли, однако никто не поверил в его смерть. Много лет после этого дедушке сообщали, будто встречали дядю Мишу то в Харькове, то во Владивостоке, то вблизи румынской границы. Просто смерть такого человека должна быть абсолютно достоверной, чтобы в нее поверили: он так часто рискует жизнью, так удачлив, что кажется неподверженным смерти.
Но дядя Миша не был удачливым человеком, он был простодушен и прямолинеен, как и та короткая эпоха, в которую жил, – конец этой эпохи был и его концом. Он принимал жестокости войны, но жестокость без войны была ему отвратительна. Он мог стрелять, но не расстреливать. Он жил стихией гражданской войны, а революция и гражданская война – это лава, которую выбрасывают вулканы истории; разливаясь, она все сжигает на своем пути.
Дедушка был противником революции, дядя Миша – ее творцом. Оба они погибли в ее огне. Дядя Миша дрался за революцию, когда она несла людям освобождение. Он вступил с ней в конфликт, когда она начала карать поверженных…
Я рассказал здесь то, что запомнил о своем раннем детстве. Оно осталось в моей памяти мягкими красками украинского лета, огнем и громом российской гражданской войны, мелодиями еврейских молитв, их вековой печалью. Революция вошла в мое сознание, когда она утверждала принципы свободы и справедливости. Это были ее романтические годы. Но я видел и насилие. «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата» – на этой ленинской формуле воспитывалось мое поколение. Позже я увидел, какие страшные и бесчеловечные формы приняла эта формула, когда Сталин сделал ее краеугольным камнем своей государственной политики.
3
Мы приехали в Москву осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года. Переезд (на телеге) с Брянского вокзала (теперь он называется Киевский) показался мне длинным, хотя расстояние до Арбата небольшое. Первое мое впечатление о Москве – мотоцикл с коляской. Мотоциклы я раньше видел, но с коляской – никогда. Я решил, что это детский автомобиль, и испытал восторг, который испытывает ребенок, впервые увидевший пони – маленькую, но живую лошадку.
Поселились на Арбате в доме номер 51, он существует и сейчас. Три восьмиэтажных корпуса тесно стоят один за другим, низкие арочные проезды соединяют два глубоких темных двора, прикрытых квадратами серого московского неба. В квартиры первого корпуса, просторные и солнечные (фасад выходит на Арбат и ничем не загораживается), после революции вселили рабочих, военных, «уплотнив» старых хозяев, шикарные раньше апартаменты оказались коммунальными. Наоборот, небольшие квартиры второго и третьего корпуса, тесные и темные, остались у прежних жильцов. В этом доме на втором этаже второго корпуса в квартире номер 87 я прожил до ареста, до ноября тридцать третьего года. В пятьдесят девятом году там умерла моя мать. Дом моего детства, моей юности, я описал его в «Кортике», в «Детях Арбата», он хорошо известен старым москвичам: долгие годы там существовал кинотеатр «Арбатский Аре», потом он назывался «Наука и знание». А соседний, 53-й дом знаменит тем, что в нем 18 февраля 1831 года поселились после женитьбы Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной.
В моем доме и поныне сохранилась булочная, ранее принадлежавшая известному московскому хлебопеку Чуеву. Длинная очередь загибалась с улицы во двор, хлеб выдавали по карточкам – 100 граммов иждивенцу, 200 – работающему. Матери на весь день оставляли нас в очереди, ее номер химическим карандашом был выведен у каждого на ладони. Тревожное, холодное и голодное время. Говорили, что Деникин уже в Туле, в 180 километрах от Москвы. Мальчишки распевали частушки: «Я на бочке сижу, а под бочкой мышка», одни добавляли: «Скоро белые придут, коммунистам крышка», другие: «В Тулу красные придут, монархистам крышка».
Центральное отопление не действовало, квартиры отапливались железными печками-обуржуйками»: выведенные в форточку трубы тянулись через всю комнату, здесь же лежали и дрова, добытые неизвестно где; если дров не было, в ход шли мебель, книги. Лифт не действовал. Пальто, перешитые из старых солдатских шинелей, латаные, подшитые валенки зимой, рваные сандалии летом. В школе вместо горячего завтрака – кусок селедки с куском непропеченного хлеба. Рабочим с окраин было легче: они перебирались в свои деревни или привозили оттуда картофель, капусту, какие-то продукты. Жители Арбата продавали на Смоленском рынке свое барахло. Раз в месяц мы с мамой отправлялись к отцу на работу и на детских саночках привозили с другого конца Москвы его жалкий паек. Пустынный, затихший, холодный и голодный – таким был Арбат начала двадцатых годов.
Арбат – улица интеллигенции. В переулках между Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой располагалась Старая Конюшенная – дворянское гнездо Москвы, а вокруг Поварской улицы ( Хлебный, Серебряный, Скатертный, Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадка) обитала когда-то царская кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студенты Московского университета. Возле Арбата на углу Никольского и Гагаринского переулков помещалась поликлиника ЦЕКУБУ – центрального комитета улучшения быта ученых. Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, тоже опекалась ЦЕКУБУ.
Мой отец – крупный инженер, семья естественно вписалась в интеллигентную арбатскую среду. В двадцать третьем году, когда жизнь в стране наладилась, у нас появилась высокая сухопарая француженка, больше смахивающая на англичанку. Служила раньше у богатых людей, почему после революции застряла в России, не знаю, на каких правах обитала в нашем доме, тоже не помню, вроде бы как жиличка, помогала маме по хозяйству и заодно обучала детей французскому языку. Жила со мной и сестрой в одной комнате, было неудобно и ей и нам, раздраженная, придирчивая, плохо владела русским, заставляла нас говорить друг с другом по-французски, изводила склонениями и спряжениями, придиралась к произношению, мы ее не любили, нашей матери она надоела своими жалобами. Вскоре ее сменила другая француженка, приходящая, жившая неподалеку с русским мужем, веселая, разбитная, средних лет особа, прошедшая огонь и воду, даже участвовала в гражданской войне с мужем – красным командиром. Скорее всего, он подобрал ее в каком-нибудь борделе, в лучшем случае, в бывшем барском доме, где служила горничной. Никакого образования не имела, но владела живым народным языком, заниматься с ней было весело и интересно, грамматикой нас не мучила, сама была в ней слаба, рассказывала на французском какие-то веселые истории, читали мы с ней Альфонса Доде, Виктора Гюго. К сожалению, занятия эти прекратились, в школе французский язык заменили немецким, но уроки мадам Луизы (по-русски ее следовало называть Елизавета Ивановна) пошли впрок, мы с сестрой читали, писали, разговаривали по-французски, до сих пор в моей памяти живы персонажи прочитанных тогда книг, и даже сейчас, через семьдесят лет, могу кое-как объясниться по-французски.
Ходила к нам и преподавательница музыки, половину нашей детской комнаты занимал рояль «Беккер». К занятиям музыкой я не выказал ни способностей, ни желания. Пионер, потом комсомолец, домашние занятия французским, музыкой я считал признаком буржуазности, часами разыгрывать гаммы и ганоны – пустой тратой времени. Я бросил занятия, а Рая, моя сестра, продолжала, поступила в музыкальное училище Гнесиных, занималась у известного профессора Эйгеса. Некоторые ее черты я придал Варе – героине «Детей Арбата».
Этот период материального благополучия в семье был довольно короток и совпал с экономическим подъемом в стране, вызванным нэпом. Отец, беспартийный, как тогда говорили, «спец», получал оклад больший, чем его начальник: жалованье коммунистов, ограниченное «партмаксимумом», составляло, если не ошибаюсь, 175 рублей, затем Сталин его постепенно повышал – 225, 275 и наконец отменил, чем окончательно привлек на свою сторону партийную бюрократию. К тому же отец был изобретатель, рационализатор, изобретения его внедрялись в промышленность, что тоже оплачивалось.
Чтобы освободиться от импорта естественного каучука, в тридцатых годах в стране строились заводы синтетического каучука, сырьем для него служил спирт, выработанный из картофеля. Заводы к сроку не построили, а картофель завезли, громадные его бурты высились под открытым небом, появилась угроза порчи. Никто не знал, что делать. Отец объявил: если ему обеспечат полную свободу действий, независимость и безусловное выполнение его приказов, то весь картофель он переработает на крахмал. Выхода не было. Народный комиссар пищевой промышленности Микоян снабдил отца неограниченными полномочиями. Отец сконструировал крахмалоловушку (она носит его имя), установил ее на винокуренных заводах и за один сезон переработал весь картофель, за что был награжден большой суммой денег; об этом я, будучи тогда в ссылке, узнал из газет. Отец мог бы стать крупным ученым, изобретателем, промышленным деятелем, этому помешали его неуживчивость, раздражительность, мучительный педантизм.
Мной и сестрой отец не интересовался, никогда ничего нам не рассказывал, ни о чем не спрашивал, зато по любому поводу делал замечания: не так сидишь, не так держишь ложку, во время еды не разговаривай, почему смял салфетку, не кроши хлеб на стол. Эта удручающая фиксация каждого движения, этот неусыпный контроль были невыносимы. И тут же, кривя губы, выговаривал матери: «Твое воспитание». Если мы пытались объясниться, он обрывал нас: «Я не с вами говорю, а с вашей матерью. Помолчите!»
Гладко выбритый, высокий, красивый, с серыми, холодными, слегка выпученными глазами, аккуратно подстриженными усами, он был глуховат, переспрашивал, сердился; со службы возвращался заранее всем недовольный: неплотно прикрыта вторая дверь, тепло из квартиры уходит на лестницу, коврик для ног лежит не на месте, неужели коврик кому-то мешает. Что за люди! «Будем обедать?» – спрашивала мать. «Могу не обедать». За столом хмурым взглядом провожал каждое мамино движение, брезгливо осматривал тарелку, вилку, нож, ложку, хотя посуда сверкала: мать была очень аккуратна; молча сосредоточенно ел. «Второе будет?.. Ах, будет, спасибо!» Съедал все до крошки, и нас с сестрой заставлял съедать все до крошки: ничто не должно оставаться на тарелке, ничто не должно пропадать. Ботинки выставлял на ночь на подоконник, чтобы проветривались, каждый день чистил их в коридоре на расстеленной газете, всем мешал, но соседи молчали, не хотели с ним связываться.
Приходил ночью в детскую, зажигал свет, будил нас, переворачивал на правый бок – спать на левом боку вредно, с детства надо приучать себя спать правильно. Соблюдал порядок сам и требовал того же и от других, негодующий, раздраженный и агрессивный педант. Даже молчал с мрачным и обиженным лицом, готовый взорваться неожиданно, по любому поводу.
Слушая мать, презрительно кривил губы, обрывал: «Не говори глупости».
Я любил мать, жалел ее, страдал, временами ненавидел отца, но не мог преодолеть страх перед его леденящим взглядом. Не спал ночами, обдумывая, как завтра все ему выскажу, как оборву его, с этими мыслями уходил в школу, возвращался, наступал вечер, отец приходил со службы – и снова замечания, недовольство, а я не мог заставить себя произнести слова, которые придумывал ночью. Я был сильный и смелый мальчик, никого не боялся ни во дворе, ни на улице, ни в школе, презирал трусливых, мог дать отпор, умел драться, защитить слабых. Но дома я сам был слаб, это угнетало меня…
Как-то за ужином отец повысил голос, обращаясь к матери:
– Сколько раз тебе надо повторять?!
И тогда я сказал:
– Мама тебя не расслышала.
– Что, что?!
– Я говорю: мама тебя не расслышала.
Он выпучил на меня свои холодные серые глаза, повернулся к матери, скривил губы: