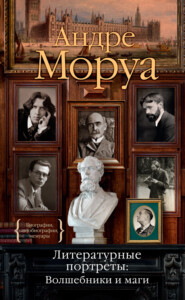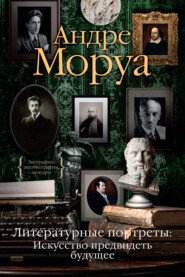По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературные портреты: В поисках прекрасного
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Франкфурт. 1775 год. Молодой Вольфганг Гёте, двадцатишестилетний сын императорского советника Иоганна Каспара Гёте, персоны в городе весьма влиятельной, возвращается в родные края. Он гениален и знает об этом. С детских лет верил в свою судьбу. «Звезды обо мне не забудут», – говорил Гёте в шесть лет. А еще он всегда знал, что рожден властвовать и наблюдать. «Гений природы за руку проведет тебя по всем странам, покажет тебе жизнь – всю как есть, эту диковинную суету людей, ты увидишь, как они блуждают, ищут, ошибаются, как они давят, уклоняются, вцепляются, толкаются, трутся, увидишь дикую возню людских толп. Но для тебя все это будет, словно картины в волшебном фонаре».
«Словно картины в волшебном фонаре…» Что это значит? Что его демон (ибо Гёте, подобно Сократу, верил, что в нем живет и им управляет некий демон) велит ему никогда не погружаться в дела людские всем своим существом. Лишь тому, кто сохраняет свободу духа, дано стать поэтом, создавать миры. Однако достигнуть такой отрешенности – нелегкая задача для молодого человека двадцати шести лет от роду. Гёте красив, он нравится женщинам, и они нужны ему. «Вечная Женственность влечет нас». Без любви Гёте не может творить. К тому же он необуздан, безрассудство страстей делает его добычей, особенно заманчивой для Сатаны.
В восемнадцать лет сей Фауст повстречал своего Мефистофеля – студента Бериша[113 - Бериш Эрнст Вольфганг (1738–1809) – друг Гёте, адресат его стихотворений («Три одны моему другу Беришу», 1767).] из Лейпцига. «Право же, – пишет юный Гёте этому инфернальному субъекту, – думается, теперь мне по плечу соблазнить девицу. Одним словом, сударь, я способен на все, чего вы вправе ожидать от самого усердного и прилежного из ваших учеников…» И тотчас наш Фауст нашел своих Гретхен, он не одно сердце разбил. В Эльзасе его пленила очаровательная Фредерика Брион[114 - Брион Фридерика (1752–1813) – дочь эльзасского священника, возлюбленная молодого Гёте.]. Тем не менее он оставил ее без малейших угрызений. «Провидению угодно, чтобы деревья не поднимались до небесного свода», – преспокойно заявляет он. Иначе говоря, приходит момент, когда страсть должна остановиться в своем росте. Или еще точнее: демон Гёте не велит ему отклоняться от своего пути.
Тем не менее однажды ему показалось, что несчастная любовь привела его на порог гибели. Его сразил брак Шарлотты Буфф, которую он обожал, с его же другом Кестнером[115 - Буфф Шарлотта София Генриетта (1753–1828) – прототип Лотты в романе «Страдания молодого Вертера» (1744); в 1773 г. вышла замуж за юриста Иоганна Кестнера (1741–1800).]. Он думал о самоубийстве. Несколько вечеров, ложась спать, клал с собой рядом кинжал. Однако не смог нанести себе никакой, даже самой легкой раны. Было ли это предательством тела, победившего волю? Нет, пересилила именно воля к жизни. Вместо того чтобы покончить с собой, он написал историю своей любви и своего самоубийства. Закончив «Вертера», он освободился от чар Шарлотты. «После великих страданий я снова обрел себя самого, – говорит он. – И в каком качестве? Я обрел себя как художника». Вот он, волшебный фонарь. Лишь такой мучительный опыт побудил его бросить вызов богам. В этом молодом человеке было что-то от Прометея.
Эти годы для Германии – эпоха «Бури и натиска», литературного течения, которое, будучи уже сродни романтизму, ему предшествовало. Его адепты хотели живописать гигантов в их борьбе с обществом. Гёте как приверженцу этого течения предстоит прославить его своими шедеврами. Он восстает против «разума», этого кумира французского XVIII века. Он превозносит могучие темные силы духа. Он равняет себя с титанами. Он проклинает Зевса. Его Прометей из одноименного стихотворения бросает в лицо громовержцу: «Гляди! Я создаю людей, // Леплю их // По своему подобью, // Чтобы они, как я, умели // Страдать, и плакать, // И радоваться, наслаждаясь жизнью, // И презирать ничтожество твое, // Подобно мне!»[116 - Перевод В. В. Левика.] Столь неукротимый бунт ужаснул некоторых из его друзей, они говорили, что он одержим демоном гордыни.
Верно: бунтовать против богов – занятие рискованное, опасность здесь в том, что оно ни к чему не ведет. Мир таков, каков он есть, и боги есть боги. Сильному человеку пристало не проклинать мир, а преображать его. Гёте на своем двадцать шестом году предстает перед нами красивым, гениальным, неповторимым, но можно опасаться, что он разобьется, натолкнувшись на уготованные ему препятствия. Лафатер[117 - Лафатер Иоганн Каспар (1741–1802) – швейцарский писатель, богослов и поэт, автор теории физиогномики.], любя его, дивится такому яростному неистовству, тревожится: «Гёте весь – сила, страсть, воображение. Он действует, сам не ведая, ни как, ни зачем, можно подумать, что его уносит поток». Да вот и сам Гёте про то же: «Не являюсь ли я бесчеловечным существом, стремящимся к пропасти без цели и удержу, подобно водопаду, что с ревом низвергается, прыгая со скалы на скалу?»
Но демон Вольфганга не дремлет, своими таинственными путями он подводит бесчеловечного к решающему повороту, что призван обратить его к человечности. Для этого ему потребуются девушка, князь, карета и знатная дама. Рок выбирает любые, самые непредвиденные орудия.
Анна Элизабет Шёнеман[118 - Шёнеман Анна Элизабет (Лили; 1758–1817) – невеста Гёте в 1775 г.] – так звали девушку. Она была дочерью крупного франкфуртского банкира, умершего за несколько лет до того дня, когда Гёте впервые увидел Элизабет, которую обычно звали просто Лили. Дело было в январе 1775-го. Благодаря своим стихам и «Вертеру» он уже успел стать знаменитостью, его всячески пытались заманивать во франкфуртские салоны. Юный титан противился, не хотел допустить, чтобы его приручили. Но чем старательнее он разыгрывал роль дикаря, этакого медведя, тем больше интереса возбуждал в свете. Когда однажды вечером друг внезапно предложил сводить его на концерт в дом одного банкира-кальвиниста, он согласился. Ему нравились неожиданности. Решение, принятое с бухты-барахты, – это ведь похоже на билет в житейской лотерее.
Его ввели в большую гостиную, в центре которой стоял клавесин. На нем играла единственная дочь хозяина дома, очаровательная кокетливая блондинка семнадцати лет. Ее музицирование пленяло беспечным изяществом. Расположившись напротив, Гёте любовался отчасти детской, на редкость естественной прелестью Лили. Когда он похвалил ее, она ответила так мило, что лучше и быть не могло. Он заметил, что она смотрит на него с удовольствием, словно на увлекательное зрелище. Это его не удивило, ведь он знал, что хорош собой и знаменит. Но Гёте и сам был восхищен тем, что видел. Он чувствует, что зарождается обоюдное влечение. Вокруг толпилась публика, поговорить было невозможно, однако, когда Гёте уходил, мать и дочь пригласили его навещать их.
Он стал часто пользоваться этим приглашением. Часы, что он проводил рядом с Лили, были самыми чарующими. Их беседы тотчас стали интимно-доверительными. Она рассказывала ему о своих отроческих годах богатой девицы, которой доступны все радости мира. Не таила от него и своих слабостей, первейшей из которых было кокетство, жажда пускать в ход свой дар покорять сердца. «Я и на вас его пробовала, – признается она, – но я за это наказана, потому что теперь сама тоже к вам привязалась». Вскоре он уже не мог обходиться без нее, что резко изменило его жизнь, ведь эта наследница громадного состояния вела почти непрерывную светскую жизнь. Ему, одиночке, приходилось идти на компромиссы, чтобы неотступно оставаться подле нее.
Как всегда, взирая на происходящее несколько свысока и слегка посмеиваясь над собой, Гёте в послании от 13 февраля 1775 года так пишет об этом своей приятельнице Августе фон Штольберг-Штольберг[119 - Штольберг-Штольбергская Луиза Августа Генриетта, графиня (1799–1875) – поэтесса, переводчица и издательница.]: «Вообразите, моя бесценная, Гёте в вышитом одеянии, в банальном свете люстр и канделябров, медлящего возле игорного стола, где его удерживает пара прелестных глаз, покидающего прием ради концерта, позволяющего наконец увлечь себя на бал, волочась без устали за хорошенькой блондинкой, и тогда перед вами предстанет образ ряженого Гёте, того самого, что еще недавно делился с вами некими глубокими и туманными чувствами». Затем он добавляет: «Но есть и другой Гёте, в серой бобровой шубе с коричневым шелковым шарфом. Дыша холодным воздухом февраля, он уже торопит весну и видит, как его дорогая бескрайняя вселенная распахивается перед ним снова…» В этой Гёте-симфонии разыгрывается спор двух мотивов – влюбленного, впервые угодившего в сети светского общества, и творца, алчущего независимости, поскольку ему нужны вся вселенная и весь род людской. «Любовь, любовь, верни свободу мне!..»
Вот в чем драма. Существуют два Гёте: тот, что несет в себе целый мир, и тот, что проводит последнюю ночь карнавала, танцуя, вдали от природы, вдали от трудов, вдали от самого себя. Безусловно, это мучительное раздвоение ему уже знакомо по опыту других любовных романов, но прежде он побеждал его либо ценой бегства от любимой женщины, либо овладев ею. На сей раз овладеть можно не иначе как посредством брака. Шёнеманы – семейство влиятельное и почтенное, Лили не Гретхен, которую можно просто соблазнить. Остается бегство. Но он счастлив подле своей возлюбленной даже в этом расфуфыренном светском кругу, влияние которого ему претит. Он с наслаждением любуется, с какой грацией, как не по летам уверенно она держится. Позже, в марте, снова встретив ее за городом, он испытывает ничем не омраченную радость – ведь теперь Лили больше ни с кем не нужно делить, часы их общения «полны и золотисты».
«Любовь, любовь, верни свободу мне!..» В те дни Гёте, похоже, готов утратить эту свободу. Правда, такие брачные планы не встречают особого восторга со стороны обоих семейств. Гёте – буржуа-лютеране, Шёнеманы – знатные кальвинисты. Корнелия[120 - Шлоссер Корнелия Фридерика Кристиана (1750–1777) – сестра Гёте.], сестра Гёте, как многие сестры гениев берущая на себя слишком много, ревниво хлопочет, спасая брата от него самого, отговаривает от этой затеи, да и от любых уз супружества. Но в дело вмешивается другое влияние, оно ускоряет события. В апреле Франкфурт посещает некая особа из Гейдельберга, фройляйн Дельф, обожающая устраивать свадьбы. Девица Дельф! Имя, как нельзя более подходящее, чтобы произвести впечатление на Гёте, имеющего слабость к сивиллам и оракулам!
Сивилла, общаясь с обеими семьями, вырвала у них согласие. Весьма решительная в своих повадках, эта Дельф умела закруглять ситуацию, приводя к желаемому итогу. Лично для себя она не искала никакой выгоды, для нее было счастьем поженить кого-нибудь. Это позволяло ей ощущать себя всемогущей. Лили она знала с детства и нежно любила. Дельф пригляделась к молодым людям, поняла, что они друг друга любят, но тянут с решением. Однажды, когда они пребывали наедине, она внезапно явилась к ним и возвестила, что добилась согласия их семейств. «Дайте друг другу руки!» – распорядилась она. Гёте, стоявший в этот момент перед Лили, протянул руку. Без колебаний, однако плавным, медленным движением Лили вложила свою ладонь в его. Потом, переведя дух, они бросились друг другу на шею. По воле фройляйн Дельф они стали женихом и невестой официально. Выходит, Сивилла взяла верх над демоном? Неподражаемый Гёте истолковал это иначе: «То было странное решение верховного существа, пожелавшего, чтобы в своей беспокойной жизни я на своем опыте познал помимо прочего чувства, которые испытывает жених». Иначе говоря, Провидение, желая создать образцового писателя, пеклось о том, чтобы обеспечить ему кое-какой опыт во всех областях бытия.
Это жениховское состояние, новое для него, показалось Гёте более чем приятным. Все враз изменилось. Преграды были устранены. Естественные порывы и благоразумие более не противоречили друг другу. Отныне он видел свою возлюбленную в новом свете. По-прежнему находя ее прекрасной, грациозной, при мысли о том, что она станет его женой, он радовался теперь и ее достоинству, уравновешенности ее характера. Короче, все сулило бы спокойное счастье и усладу, если бы его внутренний голос перестал ворчать. Но нет, гётевский демон слишком хорошо видел, какая участь ждет прирученного медведя. Он будет вести себя хорошо, если его хозяйка прикажет, будет урчать от удовольствия, когда она погладит его ножкой по спине. Он обоснуется во Франкфурте по-семейному, поселится в премиленьком «дворце». Станет верным супругом, превосходным отцом. Но Гёте, Гёте! Где тогда место Гёте?
А я?.. О боги, коль в вашей власти
Разрушить чары этой страсти,
То буду век у вас в долгу…[121 - Перевод Л. В. Гинзбурга.]
В мае он предпринял попытку побега. Отправился в Швейцарию в компании троих друзей. Было интересно и весело. Четверо красивых парней купались нагишом во всех встречных речках. Гёте виделся с Лафатером, катался по озерам на лодке, хмелел от близости природы. Друзья пытались затащить его аж в Италию, но внутренний голос и тут был начеку. Время, когда Италия станет необходима Гёте, еще не пришло. Он чувствовал, как при каждом шаге на его груди пляшет маленькое золотое сердечко, подарок Лили, и сочинил для нее эти прославленные строки:
Если бы я не грезил тобой, Лили,
Как меня пленил бы горный путь!
Но когда бы я не грезил Лили,
Было бы счастье в чем-нибудь?
Отсюда видно, что медведь еще не порвал свой шелковый поводок. Итак, Гёте снова держит путь на север и к исходу июля возвращается во Франкфурт. По видимости, жених и невеста влюблены друг в друга, как встарь. Будущая родня во время отсутствия Гёте всячески пыталась посеять между ними раскол, но Лили ему по-прежнему верна. Она говорит, что если этого вольного поэта пугает светская жизнь Франкфурта, то она готова уехать с ним в Америку. Он этого хочет? Но все же столь долгое отсутствие нареченного, притом добровольное, ее задело и опечалило, да иначе и быть не могло.
Что до Гёте, он в дни своего путешествия сравнивал себя с птицей, которая, ускользнув из клетки и вернувшись в лес, еще тащит за собой маленький обрывок веревки, как «позор унизительной неволи». Он «уж больше не прежняя птица, рожденная свободной». И вот теперь он возвратился в свою золоченую клетку, но чувствует себя в ней чем дальше, тем нестерпимее. И пишет своей далекой наперснице Августе фон Штольберг-Штольберг: «О, если бы я мог высказать все! Но здесь, в этой комнате, где живет дитя с ангельским сердцем, без всякой своей вины делающее меня несчастным… И вот я обречен на ребяческую простоту, загнан в тесные пределы, словно попугай на жердочке…» Когда рядом нет Лили, он флиртует с другой, чтобы доказать самому себе, что остается независимым, но эти шалости не приносят ему ни капли удовольствия: «Все это время я метался, будто крыса, что наелась отравы: она тычется во все дыры, пьет любую жидкость, какая ни подвернется, а ее внутренности жжет смертельный неугасимый огонь…»
Мужчина, пишущий подобные вещи, в сердце своем уже разорвал любовные узы. Однако он питает благие намерения, твердит себе, что это невозможно. Как нанести ангелу такой мучительный удар? Но в той глубине души, куда нет доступа сознанию, он ведает, что все кончено. И не выдерживает: 20 сентября, в среду, он говорит Лили «семь слов»: свершается разрыв. Отныне если он еще и увидит ее, то никогда больше с нею не заговорит. И рвет он не только с ней, но и с Франкфуртом-на-Майне. Судьба, продолжающая бдительно опекать Гёте, дарит ему дивный шанс начать жизнь заново, причем энергичнее, с большим размахом: она сталкивает его с молодым князем, правителем саксонского Веймара[122 - Карл Август (1757–1828) – герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский, покровитель и друг Гёте.]. Правитель – юноша восемнадцати лет, только что унаследовавший после смерти отца маленькое независимое княжество, где у него имеются замок, подданные, двор, кафедральный собор и Йенский университет. Он претендует на передовой образ мысли, у него есть реформаторские замыслы. Встреча с Гёте воодушевляет его.
При первом же разговоре у них заходит речь о политике. Гёте, размышлявший об этих материях, энергично изложил собеседнику свои идеи насчет правления. Князь Карл Август пришел в восторг, обнаружив у писателя столь явную предрасположенность к деятельной жизни и редкое знание действительности. «Какой министр выйдет из этого поэта!» – подумал он. А когда он заметил, что Гёте приятный компаньон в развлечениях и бесподобно умеет разгадывать секреты человеческих чувств, он сказал себе, что ему не найти ментора, более достойного и способного руководить неопытным юным правителем в житейских перипетиях. И ведь какая прелесть – вместо подобострастных старых придворных иметь подле себя молодого, красивого, блещущего умом спутника! Короче, Карл Август пригласил Гёте посетить Веймар в качестве его личного гостя. Вопрос о том, чтобы предложить ему какой-либо официальный пост, пока не вставал. Под каким видом Гёте явится ко двору? На какой срок? Все в тумане, да так оно и лучше. Не надо пугать птицу, когда, открывая перед ней дверцу клетки, заманиваешь ее в другой вольер, тот, что напротив.
Итак, он дал согласие всего-навсего на то, чтобы сесть в карету, которую князь в условленный день пришлет за ним во Франкфурт. Какие могут быть препятствия? Лили больше не помешает. Принесена в жертву. Ее роль сыграна. Художник, овладевающий искусством жить, знает, для чего Судьбе было нужно, чтобы на его пути встала Лили. В час, когда Гёте рисковал растратить силы на бесплодное бунтарство, надлежало вернуть его обществу и после Вертеровых мучений вновь преисполнить верой в свою способность внушать любовь. Бурный водопад его страстей грозил все разнести в прах. Бунтующий титан рисковал навлечь на себя молнию богов. Лили Шёнеман исцелила Гёте от его буйных порывов. Однако противоположная крайность была бы не менее опасна. Для того чтобы Гёте стал олимпийцем, ему надо одновременно быть свободным и осознавать необходимость некоторого самообуздания. Его гений позаботился о том, чтобы обеспечить такое равновесие. Эпизод с Лили был полезен, но польза его ныне исчерпана. С амурами покончено, вперед!
Но было другое препятствие. Его отец, имперский советник, предостерегал: не стоило полагаться на дружбу правителя. Эти люди легкомысленны и переменчивы. Побудешь их фаворитом несколько месяцев, а потом они избавятся от вчерашнего друга так же скоропалительно, как увлеклись. Но Гёте чувствовал искреннюю симпатию юного князя, он был уверен, что сможет удержать его. Однако пришел назначенный день, а княжеской кареты нет как нет. И никаких известий. Что произошло? Теперь Гёте был в растерянности. Он успел всему Франкфурту сообщить, что отправляется в Тюрингию. Чтобы не потерять лица, он заперся у себя дома, велел всем говорить, что уехал, и сел за работу над драмой «Эгмонт». Кареты по-прежнему не было. Неужели его верный демон на сей раз обманул Гёте? Устав от насмешек отца, он бежал в Гейдельберг. И там ждал. Верил: карета Судьбы появится в час, предначертанный звездами.
И действительно: в один прекрасный день в Гейдельберге посреди спора с фройляйн Дельф, Сивиллой-свахой, Гёте услышал у дверей почтовый рожок. На улице стояла княжеская карета. Посланец объяснил причину опоздания: произошла авария, но его господин ждет Гёте. Последний не замедлил покинуть Сивиллу, бросив ей на прощание фразу, только что сочиненную им для второго акта «Эгмонта»: «Словно бичуемые незримыми духами времени, мчат солнечные кони легкую колесницу Судьбы, и нам остается лишь твердо и мужественно управлять ими, сворачивая то вправо, то влево, чтобы не дать колесам там натолкнуться на камень, здесь сорваться в пропасть»[123 - Перевод Н. Ман.].
В этой стремительной скачке на пути к Веймару поворот был пройден. Гёте вырвался из франкфуртского семейного и светского круга. В новом кругу, где вскоре он уже будет царить, его гений сможет расцвести еще ярче. Карета сыграла роль, предназначенную Судьбой. Но чтобы завершить создание нашего Гёте, богам потребуются еще один князь и одна женщина.
Карл Август был на восемь лет моложе Гёте. Этим двоим предстояло провести вместе пятьдесят лет. Князь имел золотое сердце, он желал добра своим подданным и стремился совершать великие дела, причем во всех областях. Универсальность Гёте пленяла его. Перед ним был человек, способный сочинять экспромтом великолепные стихи, принимать участие в любых затеях, требующих физической тренированности, разбираться в проблемах управления и научных вопросах, в искусстве… короче, во всем. Если слово «гений» могло когда-либо обрести полноценный смысл, то именно в применении к Гёте. Влияние поэта на молодого князя было огромно. Он формировал его личность, заставлял размышлять, учил его использовать абсолютную власть, для того чтобы превратить Веймар в столицу духовной культуры, не пренебрегая при этом и материальным благосостоянием малоимущих.
Эта школа практической деятельности была не менее существенной и для самого Гёте. Князь не замедлил сделать его своим личным советником и обременить множеством разнообразных миссий. Позже поэт становится министром и вторым человеком в государстве. Разумеется, это вызывает у княжеского окружения сильнейшую зависть. Старые придворные бранят новшества, вводимые Гёте. Но тот, властвуя над душой и разумом правителя, держит ситуацию под контролем. «Вполне возможно, – писал он Иоганне Фалмер 14 февраля 1776 года, – что я останусь здесь. Буду играть свою роль как можно лучше до тех пор, пока это сможет доставлять мне удовольствие, настолько долго, как будет угодно Судьбе». Оставшись, он рос, становился все могущественнее и мудрее. Для духа нет ничего более оздоровительного, чем столкновение с фактами, с их упорным сопротивлением. Погрузиться в ученые труды Гёте заставили его обязанности. Занимался рудниками – следовательно, изучал минералы. Занимался лесами, разведением скота – пришлось и в это вникнуть. Он переходил от дорожного строительства к проблемам музыкального театра, от управления армией – к налоговой реформе. Так он расширял основание пирамиды, которой была его жизнь, и это позволяло ей расти в высоту. В Веймаре он накапливал материал для второй части «Фауста»: «В начале было действие».
Но одного лишь действия недостаточно, чтобы завершить шедевр человеческой природы. Деятельность, предоставленная себе самой, имеет тенденцию захватывать все жизненное пространство, она гнетет дух, пригибает к земле. Чтобы заново воскресить его, в случае Гёте потребовалось вмешательство Вечной Женственности. Мужчина активен, женщина эмоциональна. В Веймаре спасительницей Гёте стала Шарлотта фон Штейн[124 - Штейн Шарлотта Альбертина Эрнестина фон (1742–1827) – придворная дама герцогини Анны-Амалии Саксен-Веймар-Эйзенахской, подруга Гёте, Гердера и Шиллера.]. Без нее поворот судьбы не обрел бы законченности. Баронесса фон Штейн была аристократкой, дочерью бывшего маршала двора и женой шталмейстера. Выйдя замуж без любви, она произвела на свет восьмерых детей. Беременности у нее протекали тяжело, роды были трудными, они ее изнуряли. «Эта работа мне мучительно дается, – писала она подруге. – Зачем природе понадобилось обрекать половину рода людского на столь тягостные труды?» Она была кроткой, разумной, благородной, тактичной. Гёте тотчас потянулся к ней, но пылкие домогательства этого человека, такого красивого, внушающего такое восхищение, напугали ее, его признания были, «словно огненный поток». Гордясь, что восторг великого человека обращен к ней, одной из всех, она тем не менее твердо решила в первые годы эту любовь «сублимировать». В высшей степени благочестивая, она до той поры наслаждалась «безоблачным согласием с предначертаниями Господними». И теперь пыталась его не нарушить.
Итак, этот нежный гений женственности, «мирный и умиротворяющий», самому Гёте внушил (поначалу) свою чистоту. Она выслушивала излияния, даже начала принимать его в своем замке в Кохберге, однако условием их общения поставила «дисциплину сердца, чувств, манер, которая вменялась ему с такой твердостью и так благочестиво соблюдалась, что для Гёте это стало настоящей метаморфозой». Подобно тому как бешеный горный поток, низвергаясь со скал в тихое озеро, смешивается с его водами и перестает бурлить, принимая вид окружающей зеркальной глади, Гёте, смешивая свои кипучие помыслы с кроткими думами Миротворицы (как он именовал баронессу), сам приобщался к ее спокойному достоинству, к этой лунной безмятежности. Самообладание – вот что в глазах Шарлотты являлось высочайшим человеческим качеством. Этому она научила Гёте. Отныне благодаря ей он достигнет высот олимпийской мудрости, в которой величия еще больше, чем в ярости титана.
Гёте в Веймаре – едва ли не уникальный пример поэтического гения, держащего в своих руках рычаги управления государством. Это для него пора свершений и торжества воли. «Мои повседневные задачи требуют от меня постоянного присутствия, это долг, которым я день ото дня дорожу все больше, именно исполняя его, я желаю сравняться с величайшими из людей, сравняться только в этом… К тому же мне служит талисманом возвышенная любовь госпожи фон Штейн, флюиды, исходящие от нее, защищают меня…» Итак, поворот завершился. Гёте стал самим собой.
Но впереди его ждал еще один маленький поворот, это произойдет в сентябре 1786 года, когда он покинет Веймар, чтобы отправиться в Италию. Ведь крутой вираж, даже если его предпринимает великий мастер в искусстве жизни, всегда сопряжен с риском: карету его Судьбы могло занести слишком далеко, даром что управлял ею гений. Ему требовался легкий толчок, чтобы выправить крен. Веймар сверх меры уводил художника в сторону практической деятельности, Шарлотта слишком настойчиво убеждала его жертвовать плотью во имя духа. Гёте с его германским мистицизмом потянуло за границу, он жаждал уроков страны, где царит полуденный зной. Там, «где цветут апельсины», он эту школу прошел и два года спустя вернулся в Веймар, став сильнее и гибче. Но от Италии ему был нужен только толчок, больше он туда не возвращался, если не считать единственного раза, когда в марте 1790 года пришлось съездить в Венецию, чтобы дождаться там вдовствующую княгиню Анну-Амалию[125 - Анна-Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская, герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская (1739–1807) – мать герцога Карла Августа, покровительница наук и искусств.], которую он должен был сопровождать на пути в Веймар. Однако главным поворотом его жизни, свершившимся по мановению божественного перста, были разрыв с Лили Шёнеман, приглашение в 1775 году в Веймар и встреча с баронессой фон Штейн. Для того чтобы обеспечить становление одного из величайших умов человечества, Судьба использовала двух женщин, одного князя и одну карету.
Джакомо Леопарди[126 - Перевод И. Васюченко.]
Отчаянная песнь едва ль не всех прекрасней,
Есть песни дивные, похожие на плач[127 - Перевод С. А. Андреевского.].
Мюссе
Поль Валери, который Мюссе не жаловал, оценивал эти строки весьма нелицеприятно. «Рыдание, – заметил он, – отнюдь не песнь, это даже нечто обратное». Он был прав: всякая песнь – это прежде всего лад. Но когда за ее упорядоченной чистотой угадывается далекое эхо жалобы, которая задала ей тон, это значит, что поэт достиг вершины. Вордсворт определял поэзию как чувство, оживающее в спокойном воспоминании. У ее истока должно быть сильное, пронзительное мгновение, потом требуется время для вынашивания поэтического образа, и наконец воспоминание обретает форму. Подобный мотив мы находим в прустовском «Обретенном времени», и таков же секрет творчества Джакомо Леопарди. Поэт много страдал, свои муки он претворил в несколько кратких лирических стихотворений, столь совершенных, что они вошли в число высочайших шедевров мировой литературы. Будучи романтиком и по природе, и по велению эпохи, Леопарди вскормлен античной культурой. Новизну мысли он облекал в старинную стихотворную форму, возвращая современности строгое изящество греческих поэтов. В этом смысле он напоминает Шелли. Я не собираюсь знакомить читателя с его творениями, их надо читать по-итальянски, никакой перевод не передает кристальной чистоты этой поэзии, нет, я хочу напомнить о том, какую диковинную жизнь он прожил. Его историю часто пересказывали по-французски, самым первым это сделал Сент-Бёв («Портреты»), но благодаря многочисленным публикациям – газетам, письмам, биографическим сочинениям – за последние три десятилетия стали достоянием гласности многие доселе неизвестные тексты и факты. Я в своем рассказе опираюсь на последнее издание книги Айрис Ориго[128 - Ориго Айрис Маргарет, леди (1902–1988) – англо-ирландский биограф и писательница.] «Леопарди», которая содержит много информации, почерпнутой из недавних итальянских исследований, и рассказывает эту прекрасную и печальную историю с простотой, достойной героического эпоса.
I
«Я происхожу из благородной семьи, но родился в итальянском городе, лишенном благородства». Фраза кажется несправедливой по отношению к Реканати, маленькому городку в регионе Марке, расположенному на отрогах Апеннин, подступающих к Адриатическому морю, притом ничуть не уступающему в благородстве доброй сотне других. Голубое небо, холмы, увенчанные виноградниками и оливковыми рощами, море и высокие горы создают ему безупречно красивую рамку. Узкие мрачноватые улочки тянутся между дворцами, где в годы детства Леопарди обитали десятка четыре знатных семейств. «Все имели экипаж, устраивали приемы по несколько раз в год, наряжали слуг в ливреи, а для воспитания детей держали одного или нескольких священников». Они наблюдали друг за другом, зорко, завистливо следили. Простонародье города терпело их, ненавидя и насмехаясь.
Род Леопарди начиная с XIII века занимал высокое положение, исправно плодя воинов, судей, епископов, мальтийских рыцарей и монахинь, но все без особого блеска. Фамильный замок их был довольно внушителен. Винтовые лестницы, балконы с коваными решетками, галерея поясных портретов, обширная библиотека, где книжные шкафы хранили память многих поколений знатного и не лишенного культуры семейства. Граф Мональдо Леопарди[129 - Леопарди Мональдо, граф (1776–1847) – политический философ-консерватор, отец Джакомо Леопарди.], отец поэта, заявлял, что горд своим рангом, своим дворцом и своим городом. Он предпочитал быть одним из первых лиц в Реканати, нежели оказаться одним из последних в Риме. Так или иначе, он чтил власть Ватикана и считал святотатством вторжение французских войск на территорию Папской области[130 - Папская область – теократическое государство в центральной Италии, возглавлявшееся римскими папами; упразднено в 1870 г.]. Многими чертами он напоминал маркиза дель Донго, изображенного Стендалем в «Пармской обители». Примером такого сходства может служить его отказ взглянуть в окно, когда по городу проезжал Бонапарт. «Слишком много чести для этого ничтожества», – сказал он. В пятилетнем возрасте лишившись отца, Мональдо рос под началом матери, которая в деле воспитания проявляла непреклонную суровость. Его наставниками были домашний капеллан дон Винценто Ферри и иезуит дон Джузеппе Торрес. В восемнадцать лет юноша не мог выйти из дому без сопровождения одной из этих почтенных персон, настолько мало его мать, добродетельная особа, верила в нравственную стойкость.
Как отец семейства Мональдо Леопарди был добрым и неуклюжим, убежденным в собственной значимости, строгим и одновременно слабым. С утра до ночи он разгуливал в коротких кюлотах, расшитом камзоле и при шпаге. «Когда вы в парадной одежде и со шпагой на боку, – говаривал он, – невозможно пасть слишком низко, даже если бы вам того захотелось». Что свидетельствует разом и о силе одолевавших его искушений, и о твердом намерении им противостоять. Все мыслимые возможности упражняться в терпении он себе обеспечил, женившись в 1797 году на маркизе Аделаиде Античи. Мать со слезами умоляла его отказаться от этого брака. «Я бесчувственно молчал в ответ на ее слезы и был за это жестоко наказан, – признается он в своей автобиографии. – Арсеналы божественного отмщения неисчерпаемы: трепещите, вы, что навлекаете его на себя! Характер моей жены так же далек от моего, как земля от неба. Каждому женатому мужчине ведомо, что это значит».
Графиня Аделаида была женщиной безупречной в наихудшем смысле этого слова. Характер у нее имелся, но это был дурной характер. Между тем граф, движимый желанием принести пользу и надеждой получить прибыль, попробовал с помощью новых земледельческих методик отвоевать у болота часть земель в окрестностях Рима, но разорился подчистую: хуже, чем если бы был игроком или гулякой. С этого момента его супруга взяла бразды правления в свои руки. Туго завязав фамильную мошну, она сумела внешне поддерживать образ жизни семьи на прежнем уровне, но отказала мужу в праве на какой бы то ни было контроль над собой и на карманные деньги. Если ему требовалась пара экю, графиня вынуждала его красть их у самого себя. Рассказывают, что однажды зимним вечером граф, потрясенный жалостью к полуголому нищему, но не располагающий ни единым су, спрятался за дверцей кареты, сбросил с себя панталоны и вручил их этому бедолаге. Однако любое вмешательство супруги мгновенно гасило такие порывы перемежающейся щедрости.
Тем не менее графиня Аделаида блюла благопристойную видимость, так сказать, спасала фасад. Она не уволила ни одного священника, ни одного кучера или лакея. «Всю свою жизнь, – пишет ее муж, – она пеклась только о благе семьи и об угождении Богу». «Я близко знал, – напишет впоследствии ее сын Джакомо, – мать, которая не только отказывала в сострадании родителям, потерявшим малолетних детей, но и взирала на них с глубокой, искренней завистью, поскольку их чада, ускользнув от всех опасностей, вознеслись на небеса, сами же родители теперь избавлены от забот, сопряженных с их воспитанием. Когда жизнь ее собственных детей оказывалась под угрозой, а такое происходило, причем несколько раз, она не молилась о том, чтобы они умерли, ибо религия это запрещает, но на самом деле радовалась… День смерти одного из ее детей стал для нее праздником, она не понимала, как муж может впадать в уныние… Красоту она почитала истинным бедствием и благодарила Бога, видя своих детей невзрачными или больными… И никогда не упускала повода указать им на их уродство, чистосердечно и безжалостно распространяясь о том, сколько неизбежных унижений повлечет за собой такое телесное убожество… И все затем, чтобы искоренить в них грех гордыни…»
Таилась ли в глубине сердца этих «ужасных родителей», смахивающих на персонажей одноименного фильма Кокто[131 - Имеется в виду фильм «Ужасные родители» (1948) Жана Кокто (1889–1963).], хоть малая толика нежности к своим детям? Отец, несомненно, любил их, но показывать это опасался. Что до графини Аделаиды, она если и замечала в себе ласковое движение души, то тотчас обуздывала его. От окружающих не укрылось, что порой она, внезапно разразившись слезами, спешила удалиться в свою комнату. Может быть, причиной тому подавленная эмоциональность? Эта женщина была, разумеется, сущей мучительницей для самой себя, а заодно и для других. Ключом, раскрывающим загадку ее поведения, может послужить следующая молитва, текст которой обнаружен среди ее бумаг: «Боже, ты первый отец моих детей… Будь милостив, позволь им скорее умереть, чем прогневить тебя!» Она была одержима ужасом перед возможностью греха за себя и за близких.
Старший сын этой угрюмой четы, Джакомо Леопарди, родился 29 июня 1798 года. У него было одиннадцать братьев и сестер, из которых семеро умерли маленькими. Воспитывался он вместе с братом Карло и сестрой Паолиной. Спальня их матери сообщалась с комнатой обоих мальчиков. Они никогда не выходили на улицу без присмотра. «Ее глаза были постоянно устремлены на нас, – вспоминает Карло, – это была единственная возможная для нее ласка». Когда сыновья достигли возраста, когда полагается исповедоваться, она всегда оказывалась достаточно близко от исповедальни, чтобы все слышать. Такая почти божественная «вездесущность» удручала ее детей. Они изголодались по любви. Начиная с первых попыток излить душу, они наталкивались на ледяной стоицизм матери и робость отца, обреченного на рабское положение. Россказни кормилицы об аде, процессии кающихся – все это доводило их до ночных кошмаров. В воображении Джакомо кишмя кишели всякого рода гадины, призраки, дьяволы. Часами лежа без сна, он слушал, как скрипят флюгера Реканати и звонят его колокола.
Строгость в отношении к нему была как нельзя более несправедлива. Разумный, нежный, кроткий, Джакомо верил всему, что говорили его родители, проявлял искреннее благочестие, величайшей радостью для него было прислуживать во время богослужения. Он мечтал стать святым. Впрочем, на самом деле святость влекла его меньше, чем слава. Он жаждал в один прекрасный день стать знаменитым, чтобы улица встречала его приветственными кликами, как Людовика Святого[132 - Людовик IX Святой (1214–1270) – король Франции в 1226–1270 гг., руководитель Крестовых походов.]. В ту пору он был хорошеньким маленьким мальчиком, серьезным и меланхоличным. Его тесный мирок ограничивался домом, садом и церковью. Через чердачное окошко он созерцал луну и звездное небо. Мысли о бесконечности вселяли в него смятение. Он выдумывал фантастические истории, в которых тиран Мональдо, выступая под разными именами, тщетно пытался укротить храбрых и красноречивых героев – своих сыновей. «Какие это были счастливые времена, – скажет он позже, – когда фантазии хватало на то, чтобы оживлять ее создания, когда мы были уверены, что в лесах обитают сильфиды и фавны, когда, прильнув грудью к стволу дерева, мы чувствовали, что оно трепещет в наших объятиях, почти совсем как живое…» Так протекали юные годы Джакомо. Домашние священники обучали его латыни, а беженец-аббат Борне – французскому, который он освоил с ошеломляющей легкостью. В часы досуга он устраивал сам себе театр теней и считал звезды.
Отпрыски семейства Леопарди проявляли такие способности, были так не по возрасту развиты, что начиная с 1808 года их отец стал приглашать не только родственников, но и жителей Реканати присутствовать на экзаменах, во время которых дети должны были публично дискутировать со своими учителями на всевозможные темы. «30 января 1808 года. Трое детей Леопарди – граф Джакомо девяти лет, граф Карло восьми лет и графиня Паолина семи лет – пройдут испытание, посвященное их горячо любимому двоюродному деду графу Этторе Леопарди. Оба мальчика ответят на вопросы по грамматике и риторике, графиня Паолина – на вопросы, касающиеся христианской доктрины и мировой истории вплоть до падения Карфагена». Последний экзамен такого рода имел место, когда Джакомо было четырнадцать лет, то есть в 1812-м. К тому времени он уже года два-три как избавился от опеки своих наставников: им больше нечему было его научить, и отец предоставил ему полную свободу в пределах библиотеки, чтобы он продолжал занятия в одиночку.
Этой библиотекой граф Мональдо по праву гордился. Она включала четырнадцать тысяч томов, аккуратно расставленных в четырнадцати длинных галереях, стены которых были сплошь заняты полками. Он и сам пополнял коллекцию предков, время от времени покупая книги, то отринутые каким-нибудь пастырем-эрудитом, то привезенные изгнанными с Корфу греческими монахами. Все это стоило ему бесконечных ухищрений, нужных, чтобы избежать гнева графини Аделаиды: так, однажды ради очередного приобретения он продал мешок зерна, под покровом ночи собственноручно похищенный им из своего же урожая.
«Словно картины в волшебном фонаре…» Что это значит? Что его демон (ибо Гёте, подобно Сократу, верил, что в нем живет и им управляет некий демон) велит ему никогда не погружаться в дела людские всем своим существом. Лишь тому, кто сохраняет свободу духа, дано стать поэтом, создавать миры. Однако достигнуть такой отрешенности – нелегкая задача для молодого человека двадцати шести лет от роду. Гёте красив, он нравится женщинам, и они нужны ему. «Вечная Женственность влечет нас». Без любви Гёте не может творить. К тому же он необуздан, безрассудство страстей делает его добычей, особенно заманчивой для Сатаны.
В восемнадцать лет сей Фауст повстречал своего Мефистофеля – студента Бериша[113 - Бериш Эрнст Вольфганг (1738–1809) – друг Гёте, адресат его стихотворений («Три одны моему другу Беришу», 1767).] из Лейпцига. «Право же, – пишет юный Гёте этому инфернальному субъекту, – думается, теперь мне по плечу соблазнить девицу. Одним словом, сударь, я способен на все, чего вы вправе ожидать от самого усердного и прилежного из ваших учеников…» И тотчас наш Фауст нашел своих Гретхен, он не одно сердце разбил. В Эльзасе его пленила очаровательная Фредерика Брион[114 - Брион Фридерика (1752–1813) – дочь эльзасского священника, возлюбленная молодого Гёте.]. Тем не менее он оставил ее без малейших угрызений. «Провидению угодно, чтобы деревья не поднимались до небесного свода», – преспокойно заявляет он. Иначе говоря, приходит момент, когда страсть должна остановиться в своем росте. Или еще точнее: демон Гёте не велит ему отклоняться от своего пути.
Тем не менее однажды ему показалось, что несчастная любовь привела его на порог гибели. Его сразил брак Шарлотты Буфф, которую он обожал, с его же другом Кестнером[115 - Буфф Шарлотта София Генриетта (1753–1828) – прототип Лотты в романе «Страдания молодого Вертера» (1744); в 1773 г. вышла замуж за юриста Иоганна Кестнера (1741–1800).]. Он думал о самоубийстве. Несколько вечеров, ложась спать, клал с собой рядом кинжал. Однако не смог нанести себе никакой, даже самой легкой раны. Было ли это предательством тела, победившего волю? Нет, пересилила именно воля к жизни. Вместо того чтобы покончить с собой, он написал историю своей любви и своего самоубийства. Закончив «Вертера», он освободился от чар Шарлотты. «После великих страданий я снова обрел себя самого, – говорит он. – И в каком качестве? Я обрел себя как художника». Вот он, волшебный фонарь. Лишь такой мучительный опыт побудил его бросить вызов богам. В этом молодом человеке было что-то от Прометея.
Эти годы для Германии – эпоха «Бури и натиска», литературного течения, которое, будучи уже сродни романтизму, ему предшествовало. Его адепты хотели живописать гигантов в их борьбе с обществом. Гёте как приверженцу этого течения предстоит прославить его своими шедеврами. Он восстает против «разума», этого кумира французского XVIII века. Он превозносит могучие темные силы духа. Он равняет себя с титанами. Он проклинает Зевса. Его Прометей из одноименного стихотворения бросает в лицо громовержцу: «Гляди! Я создаю людей, // Леплю их // По своему подобью, // Чтобы они, как я, умели // Страдать, и плакать, // И радоваться, наслаждаясь жизнью, // И презирать ничтожество твое, // Подобно мне!»[116 - Перевод В. В. Левика.] Столь неукротимый бунт ужаснул некоторых из его друзей, они говорили, что он одержим демоном гордыни.
Верно: бунтовать против богов – занятие рискованное, опасность здесь в том, что оно ни к чему не ведет. Мир таков, каков он есть, и боги есть боги. Сильному человеку пристало не проклинать мир, а преображать его. Гёте на своем двадцать шестом году предстает перед нами красивым, гениальным, неповторимым, но можно опасаться, что он разобьется, натолкнувшись на уготованные ему препятствия. Лафатер[117 - Лафатер Иоганн Каспар (1741–1802) – швейцарский писатель, богослов и поэт, автор теории физиогномики.], любя его, дивится такому яростному неистовству, тревожится: «Гёте весь – сила, страсть, воображение. Он действует, сам не ведая, ни как, ни зачем, можно подумать, что его уносит поток». Да вот и сам Гёте про то же: «Не являюсь ли я бесчеловечным существом, стремящимся к пропасти без цели и удержу, подобно водопаду, что с ревом низвергается, прыгая со скалы на скалу?»
Но демон Вольфганга не дремлет, своими таинственными путями он подводит бесчеловечного к решающему повороту, что призван обратить его к человечности. Для этого ему потребуются девушка, князь, карета и знатная дама. Рок выбирает любые, самые непредвиденные орудия.
Анна Элизабет Шёнеман[118 - Шёнеман Анна Элизабет (Лили; 1758–1817) – невеста Гёте в 1775 г.] – так звали девушку. Она была дочерью крупного франкфуртского банкира, умершего за несколько лет до того дня, когда Гёте впервые увидел Элизабет, которую обычно звали просто Лили. Дело было в январе 1775-го. Благодаря своим стихам и «Вертеру» он уже успел стать знаменитостью, его всячески пытались заманивать во франкфуртские салоны. Юный титан противился, не хотел допустить, чтобы его приручили. Но чем старательнее он разыгрывал роль дикаря, этакого медведя, тем больше интереса возбуждал в свете. Когда однажды вечером друг внезапно предложил сводить его на концерт в дом одного банкира-кальвиниста, он согласился. Ему нравились неожиданности. Решение, принятое с бухты-барахты, – это ведь похоже на билет в житейской лотерее.
Его ввели в большую гостиную, в центре которой стоял клавесин. На нем играла единственная дочь хозяина дома, очаровательная кокетливая блондинка семнадцати лет. Ее музицирование пленяло беспечным изяществом. Расположившись напротив, Гёте любовался отчасти детской, на редкость естественной прелестью Лили. Когда он похвалил ее, она ответила так мило, что лучше и быть не могло. Он заметил, что она смотрит на него с удовольствием, словно на увлекательное зрелище. Это его не удивило, ведь он знал, что хорош собой и знаменит. Но Гёте и сам был восхищен тем, что видел. Он чувствует, что зарождается обоюдное влечение. Вокруг толпилась публика, поговорить было невозможно, однако, когда Гёте уходил, мать и дочь пригласили его навещать их.
Он стал часто пользоваться этим приглашением. Часы, что он проводил рядом с Лили, были самыми чарующими. Их беседы тотчас стали интимно-доверительными. Она рассказывала ему о своих отроческих годах богатой девицы, которой доступны все радости мира. Не таила от него и своих слабостей, первейшей из которых было кокетство, жажда пускать в ход свой дар покорять сердца. «Я и на вас его пробовала, – признается она, – но я за это наказана, потому что теперь сама тоже к вам привязалась». Вскоре он уже не мог обходиться без нее, что резко изменило его жизнь, ведь эта наследница громадного состояния вела почти непрерывную светскую жизнь. Ему, одиночке, приходилось идти на компромиссы, чтобы неотступно оставаться подле нее.
Как всегда, взирая на происходящее несколько свысока и слегка посмеиваясь над собой, Гёте в послании от 13 февраля 1775 года так пишет об этом своей приятельнице Августе фон Штольберг-Штольберг[119 - Штольберг-Штольбергская Луиза Августа Генриетта, графиня (1799–1875) – поэтесса, переводчица и издательница.]: «Вообразите, моя бесценная, Гёте в вышитом одеянии, в банальном свете люстр и канделябров, медлящего возле игорного стола, где его удерживает пара прелестных глаз, покидающего прием ради концерта, позволяющего наконец увлечь себя на бал, волочась без устали за хорошенькой блондинкой, и тогда перед вами предстанет образ ряженого Гёте, того самого, что еще недавно делился с вами некими глубокими и туманными чувствами». Затем он добавляет: «Но есть и другой Гёте, в серой бобровой шубе с коричневым шелковым шарфом. Дыша холодным воздухом февраля, он уже торопит весну и видит, как его дорогая бескрайняя вселенная распахивается перед ним снова…» В этой Гёте-симфонии разыгрывается спор двух мотивов – влюбленного, впервые угодившего в сети светского общества, и творца, алчущего независимости, поскольку ему нужны вся вселенная и весь род людской. «Любовь, любовь, верни свободу мне!..»
Вот в чем драма. Существуют два Гёте: тот, что несет в себе целый мир, и тот, что проводит последнюю ночь карнавала, танцуя, вдали от природы, вдали от трудов, вдали от самого себя. Безусловно, это мучительное раздвоение ему уже знакомо по опыту других любовных романов, но прежде он побеждал его либо ценой бегства от любимой женщины, либо овладев ею. На сей раз овладеть можно не иначе как посредством брака. Шёнеманы – семейство влиятельное и почтенное, Лили не Гретхен, которую можно просто соблазнить. Остается бегство. Но он счастлив подле своей возлюбленной даже в этом расфуфыренном светском кругу, влияние которого ему претит. Он с наслаждением любуется, с какой грацией, как не по летам уверенно она держится. Позже, в марте, снова встретив ее за городом, он испытывает ничем не омраченную радость – ведь теперь Лили больше ни с кем не нужно делить, часы их общения «полны и золотисты».
«Любовь, любовь, верни свободу мне!..» В те дни Гёте, похоже, готов утратить эту свободу. Правда, такие брачные планы не встречают особого восторга со стороны обоих семейств. Гёте – буржуа-лютеране, Шёнеманы – знатные кальвинисты. Корнелия[120 - Шлоссер Корнелия Фридерика Кристиана (1750–1777) – сестра Гёте.], сестра Гёте, как многие сестры гениев берущая на себя слишком много, ревниво хлопочет, спасая брата от него самого, отговаривает от этой затеи, да и от любых уз супружества. Но в дело вмешивается другое влияние, оно ускоряет события. В апреле Франкфурт посещает некая особа из Гейдельберга, фройляйн Дельф, обожающая устраивать свадьбы. Девица Дельф! Имя, как нельзя более подходящее, чтобы произвести впечатление на Гёте, имеющего слабость к сивиллам и оракулам!
Сивилла, общаясь с обеими семьями, вырвала у них согласие. Весьма решительная в своих повадках, эта Дельф умела закруглять ситуацию, приводя к желаемому итогу. Лично для себя она не искала никакой выгоды, для нее было счастьем поженить кого-нибудь. Это позволяло ей ощущать себя всемогущей. Лили она знала с детства и нежно любила. Дельф пригляделась к молодым людям, поняла, что они друг друга любят, но тянут с решением. Однажды, когда они пребывали наедине, она внезапно явилась к ним и возвестила, что добилась согласия их семейств. «Дайте друг другу руки!» – распорядилась она. Гёте, стоявший в этот момент перед Лили, протянул руку. Без колебаний, однако плавным, медленным движением Лили вложила свою ладонь в его. Потом, переведя дух, они бросились друг другу на шею. По воле фройляйн Дельф они стали женихом и невестой официально. Выходит, Сивилла взяла верх над демоном? Неподражаемый Гёте истолковал это иначе: «То было странное решение верховного существа, пожелавшего, чтобы в своей беспокойной жизни я на своем опыте познал помимо прочего чувства, которые испытывает жених». Иначе говоря, Провидение, желая создать образцового писателя, пеклось о том, чтобы обеспечить ему кое-какой опыт во всех областях бытия.
Это жениховское состояние, новое для него, показалось Гёте более чем приятным. Все враз изменилось. Преграды были устранены. Естественные порывы и благоразумие более не противоречили друг другу. Отныне он видел свою возлюбленную в новом свете. По-прежнему находя ее прекрасной, грациозной, при мысли о том, что она станет его женой, он радовался теперь и ее достоинству, уравновешенности ее характера. Короче, все сулило бы спокойное счастье и усладу, если бы его внутренний голос перестал ворчать. Но нет, гётевский демон слишком хорошо видел, какая участь ждет прирученного медведя. Он будет вести себя хорошо, если его хозяйка прикажет, будет урчать от удовольствия, когда она погладит его ножкой по спине. Он обоснуется во Франкфурте по-семейному, поселится в премиленьком «дворце». Станет верным супругом, превосходным отцом. Но Гёте, Гёте! Где тогда место Гёте?
А я?.. О боги, коль в вашей власти
Разрушить чары этой страсти,
То буду век у вас в долгу…[121 - Перевод Л. В. Гинзбурга.]
В мае он предпринял попытку побега. Отправился в Швейцарию в компании троих друзей. Было интересно и весело. Четверо красивых парней купались нагишом во всех встречных речках. Гёте виделся с Лафатером, катался по озерам на лодке, хмелел от близости природы. Друзья пытались затащить его аж в Италию, но внутренний голос и тут был начеку. Время, когда Италия станет необходима Гёте, еще не пришло. Он чувствовал, как при каждом шаге на его груди пляшет маленькое золотое сердечко, подарок Лили, и сочинил для нее эти прославленные строки:
Если бы я не грезил тобой, Лили,
Как меня пленил бы горный путь!
Но когда бы я не грезил Лили,
Было бы счастье в чем-нибудь?
Отсюда видно, что медведь еще не порвал свой шелковый поводок. Итак, Гёте снова держит путь на север и к исходу июля возвращается во Франкфурт. По видимости, жених и невеста влюблены друг в друга, как встарь. Будущая родня во время отсутствия Гёте всячески пыталась посеять между ними раскол, но Лили ему по-прежнему верна. Она говорит, что если этого вольного поэта пугает светская жизнь Франкфурта, то она готова уехать с ним в Америку. Он этого хочет? Но все же столь долгое отсутствие нареченного, притом добровольное, ее задело и опечалило, да иначе и быть не могло.
Что до Гёте, он в дни своего путешествия сравнивал себя с птицей, которая, ускользнув из клетки и вернувшись в лес, еще тащит за собой маленький обрывок веревки, как «позор унизительной неволи». Он «уж больше не прежняя птица, рожденная свободной». И вот теперь он возвратился в свою золоченую клетку, но чувствует себя в ней чем дальше, тем нестерпимее. И пишет своей далекой наперснице Августе фон Штольберг-Штольберг: «О, если бы я мог высказать все! Но здесь, в этой комнате, где живет дитя с ангельским сердцем, без всякой своей вины делающее меня несчастным… И вот я обречен на ребяческую простоту, загнан в тесные пределы, словно попугай на жердочке…» Когда рядом нет Лили, он флиртует с другой, чтобы доказать самому себе, что остается независимым, но эти шалости не приносят ему ни капли удовольствия: «Все это время я метался, будто крыса, что наелась отравы: она тычется во все дыры, пьет любую жидкость, какая ни подвернется, а ее внутренности жжет смертельный неугасимый огонь…»
Мужчина, пишущий подобные вещи, в сердце своем уже разорвал любовные узы. Однако он питает благие намерения, твердит себе, что это невозможно. Как нанести ангелу такой мучительный удар? Но в той глубине души, куда нет доступа сознанию, он ведает, что все кончено. И не выдерживает: 20 сентября, в среду, он говорит Лили «семь слов»: свершается разрыв. Отныне если он еще и увидит ее, то никогда больше с нею не заговорит. И рвет он не только с ней, но и с Франкфуртом-на-Майне. Судьба, продолжающая бдительно опекать Гёте, дарит ему дивный шанс начать жизнь заново, причем энергичнее, с большим размахом: она сталкивает его с молодым князем, правителем саксонского Веймара[122 - Карл Август (1757–1828) – герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский, покровитель и друг Гёте.]. Правитель – юноша восемнадцати лет, только что унаследовавший после смерти отца маленькое независимое княжество, где у него имеются замок, подданные, двор, кафедральный собор и Йенский университет. Он претендует на передовой образ мысли, у него есть реформаторские замыслы. Встреча с Гёте воодушевляет его.
При первом же разговоре у них заходит речь о политике. Гёте, размышлявший об этих материях, энергично изложил собеседнику свои идеи насчет правления. Князь Карл Август пришел в восторг, обнаружив у писателя столь явную предрасположенность к деятельной жизни и редкое знание действительности. «Какой министр выйдет из этого поэта!» – подумал он. А когда он заметил, что Гёте приятный компаньон в развлечениях и бесподобно умеет разгадывать секреты человеческих чувств, он сказал себе, что ему не найти ментора, более достойного и способного руководить неопытным юным правителем в житейских перипетиях. И ведь какая прелесть – вместо подобострастных старых придворных иметь подле себя молодого, красивого, блещущего умом спутника! Короче, Карл Август пригласил Гёте посетить Веймар в качестве его личного гостя. Вопрос о том, чтобы предложить ему какой-либо официальный пост, пока не вставал. Под каким видом Гёте явится ко двору? На какой срок? Все в тумане, да так оно и лучше. Не надо пугать птицу, когда, открывая перед ней дверцу клетки, заманиваешь ее в другой вольер, тот, что напротив.
Итак, он дал согласие всего-навсего на то, чтобы сесть в карету, которую князь в условленный день пришлет за ним во Франкфурт. Какие могут быть препятствия? Лили больше не помешает. Принесена в жертву. Ее роль сыграна. Художник, овладевающий искусством жить, знает, для чего Судьбе было нужно, чтобы на его пути встала Лили. В час, когда Гёте рисковал растратить силы на бесплодное бунтарство, надлежало вернуть его обществу и после Вертеровых мучений вновь преисполнить верой в свою способность внушать любовь. Бурный водопад его страстей грозил все разнести в прах. Бунтующий титан рисковал навлечь на себя молнию богов. Лили Шёнеман исцелила Гёте от его буйных порывов. Однако противоположная крайность была бы не менее опасна. Для того чтобы Гёте стал олимпийцем, ему надо одновременно быть свободным и осознавать необходимость некоторого самообуздания. Его гений позаботился о том, чтобы обеспечить такое равновесие. Эпизод с Лили был полезен, но польза его ныне исчерпана. С амурами покончено, вперед!
Но было другое препятствие. Его отец, имперский советник, предостерегал: не стоило полагаться на дружбу правителя. Эти люди легкомысленны и переменчивы. Побудешь их фаворитом несколько месяцев, а потом они избавятся от вчерашнего друга так же скоропалительно, как увлеклись. Но Гёте чувствовал искреннюю симпатию юного князя, он был уверен, что сможет удержать его. Однако пришел назначенный день, а княжеской кареты нет как нет. И никаких известий. Что произошло? Теперь Гёте был в растерянности. Он успел всему Франкфурту сообщить, что отправляется в Тюрингию. Чтобы не потерять лица, он заперся у себя дома, велел всем говорить, что уехал, и сел за работу над драмой «Эгмонт». Кареты по-прежнему не было. Неужели его верный демон на сей раз обманул Гёте? Устав от насмешек отца, он бежал в Гейдельберг. И там ждал. Верил: карета Судьбы появится в час, предначертанный звездами.
И действительно: в один прекрасный день в Гейдельберге посреди спора с фройляйн Дельф, Сивиллой-свахой, Гёте услышал у дверей почтовый рожок. На улице стояла княжеская карета. Посланец объяснил причину опоздания: произошла авария, но его господин ждет Гёте. Последний не замедлил покинуть Сивиллу, бросив ей на прощание фразу, только что сочиненную им для второго акта «Эгмонта»: «Словно бичуемые незримыми духами времени, мчат солнечные кони легкую колесницу Судьбы, и нам остается лишь твердо и мужественно управлять ими, сворачивая то вправо, то влево, чтобы не дать колесам там натолкнуться на камень, здесь сорваться в пропасть»[123 - Перевод Н. Ман.].
В этой стремительной скачке на пути к Веймару поворот был пройден. Гёте вырвался из франкфуртского семейного и светского круга. В новом кругу, где вскоре он уже будет царить, его гений сможет расцвести еще ярче. Карета сыграла роль, предназначенную Судьбой. Но чтобы завершить создание нашего Гёте, богам потребуются еще один князь и одна женщина.
Карл Август был на восемь лет моложе Гёте. Этим двоим предстояло провести вместе пятьдесят лет. Князь имел золотое сердце, он желал добра своим подданным и стремился совершать великие дела, причем во всех областях. Универсальность Гёте пленяла его. Перед ним был человек, способный сочинять экспромтом великолепные стихи, принимать участие в любых затеях, требующих физической тренированности, разбираться в проблемах управления и научных вопросах, в искусстве… короче, во всем. Если слово «гений» могло когда-либо обрести полноценный смысл, то именно в применении к Гёте. Влияние поэта на молодого князя было огромно. Он формировал его личность, заставлял размышлять, учил его использовать абсолютную власть, для того чтобы превратить Веймар в столицу духовной культуры, не пренебрегая при этом и материальным благосостоянием малоимущих.
Эта школа практической деятельности была не менее существенной и для самого Гёте. Князь не замедлил сделать его своим личным советником и обременить множеством разнообразных миссий. Позже поэт становится министром и вторым человеком в государстве. Разумеется, это вызывает у княжеского окружения сильнейшую зависть. Старые придворные бранят новшества, вводимые Гёте. Но тот, властвуя над душой и разумом правителя, держит ситуацию под контролем. «Вполне возможно, – писал он Иоганне Фалмер 14 февраля 1776 года, – что я останусь здесь. Буду играть свою роль как можно лучше до тех пор, пока это сможет доставлять мне удовольствие, настолько долго, как будет угодно Судьбе». Оставшись, он рос, становился все могущественнее и мудрее. Для духа нет ничего более оздоровительного, чем столкновение с фактами, с их упорным сопротивлением. Погрузиться в ученые труды Гёте заставили его обязанности. Занимался рудниками – следовательно, изучал минералы. Занимался лесами, разведением скота – пришлось и в это вникнуть. Он переходил от дорожного строительства к проблемам музыкального театра, от управления армией – к налоговой реформе. Так он расширял основание пирамиды, которой была его жизнь, и это позволяло ей расти в высоту. В Веймаре он накапливал материал для второй части «Фауста»: «В начале было действие».
Но одного лишь действия недостаточно, чтобы завершить шедевр человеческой природы. Деятельность, предоставленная себе самой, имеет тенденцию захватывать все жизненное пространство, она гнетет дух, пригибает к земле. Чтобы заново воскресить его, в случае Гёте потребовалось вмешательство Вечной Женственности. Мужчина активен, женщина эмоциональна. В Веймаре спасительницей Гёте стала Шарлотта фон Штейн[124 - Штейн Шарлотта Альбертина Эрнестина фон (1742–1827) – придворная дама герцогини Анны-Амалии Саксен-Веймар-Эйзенахской, подруга Гёте, Гердера и Шиллера.]. Без нее поворот судьбы не обрел бы законченности. Баронесса фон Штейн была аристократкой, дочерью бывшего маршала двора и женой шталмейстера. Выйдя замуж без любви, она произвела на свет восьмерых детей. Беременности у нее протекали тяжело, роды были трудными, они ее изнуряли. «Эта работа мне мучительно дается, – писала она подруге. – Зачем природе понадобилось обрекать половину рода людского на столь тягостные труды?» Она была кроткой, разумной, благородной, тактичной. Гёте тотчас потянулся к ней, но пылкие домогательства этого человека, такого красивого, внушающего такое восхищение, напугали ее, его признания были, «словно огненный поток». Гордясь, что восторг великого человека обращен к ней, одной из всех, она тем не менее твердо решила в первые годы эту любовь «сублимировать». В высшей степени благочестивая, она до той поры наслаждалась «безоблачным согласием с предначертаниями Господними». И теперь пыталась его не нарушить.
Итак, этот нежный гений женственности, «мирный и умиротворяющий», самому Гёте внушил (поначалу) свою чистоту. Она выслушивала излияния, даже начала принимать его в своем замке в Кохберге, однако условием их общения поставила «дисциплину сердца, чувств, манер, которая вменялась ему с такой твердостью и так благочестиво соблюдалась, что для Гёте это стало настоящей метаморфозой». Подобно тому как бешеный горный поток, низвергаясь со скал в тихое озеро, смешивается с его водами и перестает бурлить, принимая вид окружающей зеркальной глади, Гёте, смешивая свои кипучие помыслы с кроткими думами Миротворицы (как он именовал баронессу), сам приобщался к ее спокойному достоинству, к этой лунной безмятежности. Самообладание – вот что в глазах Шарлотты являлось высочайшим человеческим качеством. Этому она научила Гёте. Отныне благодаря ей он достигнет высот олимпийской мудрости, в которой величия еще больше, чем в ярости титана.
Гёте в Веймаре – едва ли не уникальный пример поэтического гения, держащего в своих руках рычаги управления государством. Это для него пора свершений и торжества воли. «Мои повседневные задачи требуют от меня постоянного присутствия, это долг, которым я день ото дня дорожу все больше, именно исполняя его, я желаю сравняться с величайшими из людей, сравняться только в этом… К тому же мне служит талисманом возвышенная любовь госпожи фон Штейн, флюиды, исходящие от нее, защищают меня…» Итак, поворот завершился. Гёте стал самим собой.
Но впереди его ждал еще один маленький поворот, это произойдет в сентябре 1786 года, когда он покинет Веймар, чтобы отправиться в Италию. Ведь крутой вираж, даже если его предпринимает великий мастер в искусстве жизни, всегда сопряжен с риском: карету его Судьбы могло занести слишком далеко, даром что управлял ею гений. Ему требовался легкий толчок, чтобы выправить крен. Веймар сверх меры уводил художника в сторону практической деятельности, Шарлотта слишком настойчиво убеждала его жертвовать плотью во имя духа. Гёте с его германским мистицизмом потянуло за границу, он жаждал уроков страны, где царит полуденный зной. Там, «где цветут апельсины», он эту школу прошел и два года спустя вернулся в Веймар, став сильнее и гибче. Но от Италии ему был нужен только толчок, больше он туда не возвращался, если не считать единственного раза, когда в марте 1790 года пришлось съездить в Венецию, чтобы дождаться там вдовствующую княгиню Анну-Амалию[125 - Анна-Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская, герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская (1739–1807) – мать герцога Карла Августа, покровительница наук и искусств.], которую он должен был сопровождать на пути в Веймар. Однако главным поворотом его жизни, свершившимся по мановению божественного перста, были разрыв с Лили Шёнеман, приглашение в 1775 году в Веймар и встреча с баронессой фон Штейн. Для того чтобы обеспечить становление одного из величайших умов человечества, Судьба использовала двух женщин, одного князя и одну карету.
Джакомо Леопарди[126 - Перевод И. Васюченко.]
Отчаянная песнь едва ль не всех прекрасней,
Есть песни дивные, похожие на плач[127 - Перевод С. А. Андреевского.].
Мюссе
Поль Валери, который Мюссе не жаловал, оценивал эти строки весьма нелицеприятно. «Рыдание, – заметил он, – отнюдь не песнь, это даже нечто обратное». Он был прав: всякая песнь – это прежде всего лад. Но когда за ее упорядоченной чистотой угадывается далекое эхо жалобы, которая задала ей тон, это значит, что поэт достиг вершины. Вордсворт определял поэзию как чувство, оживающее в спокойном воспоминании. У ее истока должно быть сильное, пронзительное мгновение, потом требуется время для вынашивания поэтического образа, и наконец воспоминание обретает форму. Подобный мотив мы находим в прустовском «Обретенном времени», и таков же секрет творчества Джакомо Леопарди. Поэт много страдал, свои муки он претворил в несколько кратких лирических стихотворений, столь совершенных, что они вошли в число высочайших шедевров мировой литературы. Будучи романтиком и по природе, и по велению эпохи, Леопарди вскормлен античной культурой. Новизну мысли он облекал в старинную стихотворную форму, возвращая современности строгое изящество греческих поэтов. В этом смысле он напоминает Шелли. Я не собираюсь знакомить читателя с его творениями, их надо читать по-итальянски, никакой перевод не передает кристальной чистоты этой поэзии, нет, я хочу напомнить о том, какую диковинную жизнь он прожил. Его историю часто пересказывали по-французски, самым первым это сделал Сент-Бёв («Портреты»), но благодаря многочисленным публикациям – газетам, письмам, биографическим сочинениям – за последние три десятилетия стали достоянием гласности многие доселе неизвестные тексты и факты. Я в своем рассказе опираюсь на последнее издание книги Айрис Ориго[128 - Ориго Айрис Маргарет, леди (1902–1988) – англо-ирландский биограф и писательница.] «Леопарди», которая содержит много информации, почерпнутой из недавних итальянских исследований, и рассказывает эту прекрасную и печальную историю с простотой, достойной героического эпоса.
I
«Я происхожу из благородной семьи, но родился в итальянском городе, лишенном благородства». Фраза кажется несправедливой по отношению к Реканати, маленькому городку в регионе Марке, расположенному на отрогах Апеннин, подступающих к Адриатическому морю, притом ничуть не уступающему в благородстве доброй сотне других. Голубое небо, холмы, увенчанные виноградниками и оливковыми рощами, море и высокие горы создают ему безупречно красивую рамку. Узкие мрачноватые улочки тянутся между дворцами, где в годы детства Леопарди обитали десятка четыре знатных семейств. «Все имели экипаж, устраивали приемы по несколько раз в год, наряжали слуг в ливреи, а для воспитания детей держали одного или нескольких священников». Они наблюдали друг за другом, зорко, завистливо следили. Простонародье города терпело их, ненавидя и насмехаясь.
Род Леопарди начиная с XIII века занимал высокое положение, исправно плодя воинов, судей, епископов, мальтийских рыцарей и монахинь, но все без особого блеска. Фамильный замок их был довольно внушителен. Винтовые лестницы, балконы с коваными решетками, галерея поясных портретов, обширная библиотека, где книжные шкафы хранили память многих поколений знатного и не лишенного культуры семейства. Граф Мональдо Леопарди[129 - Леопарди Мональдо, граф (1776–1847) – политический философ-консерватор, отец Джакомо Леопарди.], отец поэта, заявлял, что горд своим рангом, своим дворцом и своим городом. Он предпочитал быть одним из первых лиц в Реканати, нежели оказаться одним из последних в Риме. Так или иначе, он чтил власть Ватикана и считал святотатством вторжение французских войск на территорию Папской области[130 - Папская область – теократическое государство в центральной Италии, возглавлявшееся римскими папами; упразднено в 1870 г.]. Многими чертами он напоминал маркиза дель Донго, изображенного Стендалем в «Пармской обители». Примером такого сходства может служить его отказ взглянуть в окно, когда по городу проезжал Бонапарт. «Слишком много чести для этого ничтожества», – сказал он. В пятилетнем возрасте лишившись отца, Мональдо рос под началом матери, которая в деле воспитания проявляла непреклонную суровость. Его наставниками были домашний капеллан дон Винценто Ферри и иезуит дон Джузеппе Торрес. В восемнадцать лет юноша не мог выйти из дому без сопровождения одной из этих почтенных персон, настолько мало его мать, добродетельная особа, верила в нравственную стойкость.
Как отец семейства Мональдо Леопарди был добрым и неуклюжим, убежденным в собственной значимости, строгим и одновременно слабым. С утра до ночи он разгуливал в коротких кюлотах, расшитом камзоле и при шпаге. «Когда вы в парадной одежде и со шпагой на боку, – говаривал он, – невозможно пасть слишком низко, даже если бы вам того захотелось». Что свидетельствует разом и о силе одолевавших его искушений, и о твердом намерении им противостоять. Все мыслимые возможности упражняться в терпении он себе обеспечил, женившись в 1797 году на маркизе Аделаиде Античи. Мать со слезами умоляла его отказаться от этого брака. «Я бесчувственно молчал в ответ на ее слезы и был за это жестоко наказан, – признается он в своей автобиографии. – Арсеналы божественного отмщения неисчерпаемы: трепещите, вы, что навлекаете его на себя! Характер моей жены так же далек от моего, как земля от неба. Каждому женатому мужчине ведомо, что это значит».
Графиня Аделаида была женщиной безупречной в наихудшем смысле этого слова. Характер у нее имелся, но это был дурной характер. Между тем граф, движимый желанием принести пользу и надеждой получить прибыль, попробовал с помощью новых земледельческих методик отвоевать у болота часть земель в окрестностях Рима, но разорился подчистую: хуже, чем если бы был игроком или гулякой. С этого момента его супруга взяла бразды правления в свои руки. Туго завязав фамильную мошну, она сумела внешне поддерживать образ жизни семьи на прежнем уровне, но отказала мужу в праве на какой бы то ни было контроль над собой и на карманные деньги. Если ему требовалась пара экю, графиня вынуждала его красть их у самого себя. Рассказывают, что однажды зимним вечером граф, потрясенный жалостью к полуголому нищему, но не располагающий ни единым су, спрятался за дверцей кареты, сбросил с себя панталоны и вручил их этому бедолаге. Однако любое вмешательство супруги мгновенно гасило такие порывы перемежающейся щедрости.
Тем не менее графиня Аделаида блюла благопристойную видимость, так сказать, спасала фасад. Она не уволила ни одного священника, ни одного кучера или лакея. «Всю свою жизнь, – пишет ее муж, – она пеклась только о благе семьи и об угождении Богу». «Я близко знал, – напишет впоследствии ее сын Джакомо, – мать, которая не только отказывала в сострадании родителям, потерявшим малолетних детей, но и взирала на них с глубокой, искренней завистью, поскольку их чада, ускользнув от всех опасностей, вознеслись на небеса, сами же родители теперь избавлены от забот, сопряженных с их воспитанием. Когда жизнь ее собственных детей оказывалась под угрозой, а такое происходило, причем несколько раз, она не молилась о том, чтобы они умерли, ибо религия это запрещает, но на самом деле радовалась… День смерти одного из ее детей стал для нее праздником, она не понимала, как муж может впадать в уныние… Красоту она почитала истинным бедствием и благодарила Бога, видя своих детей невзрачными или больными… И никогда не упускала повода указать им на их уродство, чистосердечно и безжалостно распространяясь о том, сколько неизбежных унижений повлечет за собой такое телесное убожество… И все затем, чтобы искоренить в них грех гордыни…»
Таилась ли в глубине сердца этих «ужасных родителей», смахивающих на персонажей одноименного фильма Кокто[131 - Имеется в виду фильм «Ужасные родители» (1948) Жана Кокто (1889–1963).], хоть малая толика нежности к своим детям? Отец, несомненно, любил их, но показывать это опасался. Что до графини Аделаиды, она если и замечала в себе ласковое движение души, то тотчас обуздывала его. От окружающих не укрылось, что порой она, внезапно разразившись слезами, спешила удалиться в свою комнату. Может быть, причиной тому подавленная эмоциональность? Эта женщина была, разумеется, сущей мучительницей для самой себя, а заодно и для других. Ключом, раскрывающим загадку ее поведения, может послужить следующая молитва, текст которой обнаружен среди ее бумаг: «Боже, ты первый отец моих детей… Будь милостив, позволь им скорее умереть, чем прогневить тебя!» Она была одержима ужасом перед возможностью греха за себя и за близких.
Старший сын этой угрюмой четы, Джакомо Леопарди, родился 29 июня 1798 года. У него было одиннадцать братьев и сестер, из которых семеро умерли маленькими. Воспитывался он вместе с братом Карло и сестрой Паолиной. Спальня их матери сообщалась с комнатой обоих мальчиков. Они никогда не выходили на улицу без присмотра. «Ее глаза были постоянно устремлены на нас, – вспоминает Карло, – это была единственная возможная для нее ласка». Когда сыновья достигли возраста, когда полагается исповедоваться, она всегда оказывалась достаточно близко от исповедальни, чтобы все слышать. Такая почти божественная «вездесущность» удручала ее детей. Они изголодались по любви. Начиная с первых попыток излить душу, они наталкивались на ледяной стоицизм матери и робость отца, обреченного на рабское положение. Россказни кормилицы об аде, процессии кающихся – все это доводило их до ночных кошмаров. В воображении Джакомо кишмя кишели всякого рода гадины, призраки, дьяволы. Часами лежа без сна, он слушал, как скрипят флюгера Реканати и звонят его колокола.
Строгость в отношении к нему была как нельзя более несправедлива. Разумный, нежный, кроткий, Джакомо верил всему, что говорили его родители, проявлял искреннее благочестие, величайшей радостью для него было прислуживать во время богослужения. Он мечтал стать святым. Впрочем, на самом деле святость влекла его меньше, чем слава. Он жаждал в один прекрасный день стать знаменитым, чтобы улица встречала его приветственными кликами, как Людовика Святого[132 - Людовик IX Святой (1214–1270) – король Франции в 1226–1270 гг., руководитель Крестовых походов.]. В ту пору он был хорошеньким маленьким мальчиком, серьезным и меланхоличным. Его тесный мирок ограничивался домом, садом и церковью. Через чердачное окошко он созерцал луну и звездное небо. Мысли о бесконечности вселяли в него смятение. Он выдумывал фантастические истории, в которых тиран Мональдо, выступая под разными именами, тщетно пытался укротить храбрых и красноречивых героев – своих сыновей. «Какие это были счастливые времена, – скажет он позже, – когда фантазии хватало на то, чтобы оживлять ее создания, когда мы были уверены, что в лесах обитают сильфиды и фавны, когда, прильнув грудью к стволу дерева, мы чувствовали, что оно трепещет в наших объятиях, почти совсем как живое…» Так протекали юные годы Джакомо. Домашние священники обучали его латыни, а беженец-аббат Борне – французскому, который он освоил с ошеломляющей легкостью. В часы досуга он устраивал сам себе театр теней и считал звезды.
Отпрыски семейства Леопарди проявляли такие способности, были так не по возрасту развиты, что начиная с 1808 года их отец стал приглашать не только родственников, но и жителей Реканати присутствовать на экзаменах, во время которых дети должны были публично дискутировать со своими учителями на всевозможные темы. «30 января 1808 года. Трое детей Леопарди – граф Джакомо девяти лет, граф Карло восьми лет и графиня Паолина семи лет – пройдут испытание, посвященное их горячо любимому двоюродному деду графу Этторе Леопарди. Оба мальчика ответят на вопросы по грамматике и риторике, графиня Паолина – на вопросы, касающиеся христианской доктрины и мировой истории вплоть до падения Карфагена». Последний экзамен такого рода имел место, когда Джакомо было четырнадцать лет, то есть в 1812-м. К тому времени он уже года два-три как избавился от опеки своих наставников: им больше нечему было его научить, и отец предоставил ему полную свободу в пределах библиотеки, чтобы он продолжал занятия в одиночку.
Этой библиотекой граф Мональдо по праву гордился. Она включала четырнадцать тысяч томов, аккуратно расставленных в четырнадцати длинных галереях, стены которых были сплошь заняты полками. Он и сам пополнял коллекцию предков, время от времени покупая книги, то отринутые каким-нибудь пастырем-эрудитом, то привезенные изгнанными с Корфу греческими монахами. Все это стоило ему бесконечных ухищрений, нужных, чтобы избежать гнева графини Аделаиды: так, однажды ради очередного приобретения он продал мешок зерна, под покровом ночи собственноручно похищенный им из своего же урожая.