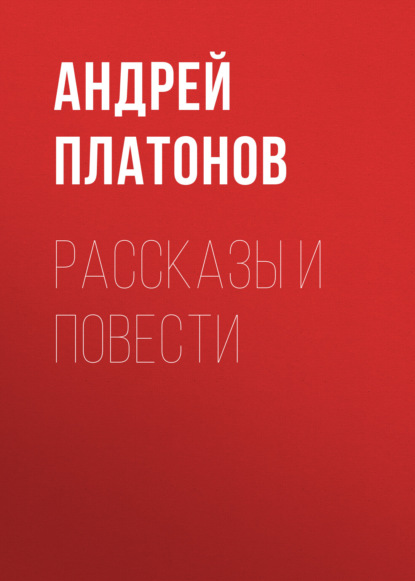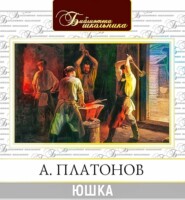По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
А. П. Платонов. Рассказы и повести
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пускай это пролетарское вещество здесь полежит – из него какой-нибудь принцип вырастет.
Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию.
– Прощай, – сказал ему Сафронов, – ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения…
Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно отошел в высшую общеполезную жизнь, взяв в руку свой имущественный сундучок.
В ту минуту за оврагом, по полю, мчался один человек, которого еще нельзя было разглядеть и остановить; его тело отощало внутри одежды, и штаны колебались на нем, как порожние. Человек добежал до людей и сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии.
Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без участия в строительстве, – и уже настало время труда в овраге.
Разные сны представляются трудящемуся по ночам – одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле; но дневное время проживается одинаковым, сгорбленным способом – терпеньем тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества.
Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда – один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате, – и каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения.
Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, так как экипаж продал в эпоху режима экономии, и теперь наблюдал со спины животного великое рытье. Однако Жачев присутствовал тут же и сумел во время пеших отлучек Пашкина в глубь котлована опоить лошадь так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и прибывал на автомобиле.
Вощев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы как документы беспланового создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания.
И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также среди артели; он находился там безмолвно, но искупал свое существование женской работой по общему хозяйству вплоть до прилежного ремонта истертой одежды. Сафронов уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого мужика в союз как обслуживающую силу, но не знал, сколько скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли батраки, поэтому задерживал свое намерение.
По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья. Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, потому что вражья имущая сила вновь происходит и загораживает свет жизни, надо лишь сберечь детей как нежность революции и оставить им наказ.
– А что, товарищи, – сказал однажды Сафронов, – не поставить ли нам радио для заслушанья достижений и директив! У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!
– Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио, – возразил Жачев.
– А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученья в твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего строительства?
– Она сейчас сахару не ест для твоего строительства, вот чем она служит, единогласная душа из тебя вон! – ответил Жачев.
– Ага, – вынес мнение Сафронов, – тогда, товарищ Жачев, доставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить.
И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно мыслящее лицо.
– Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетарского света: в этом товарищ Жачев оправдал то положение, что у него голова цела, а ног нету.
Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужика и дать ему развитой рукой два удара в бок, как наличному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой защиты и молча стоял на земле.
– Ишь ты, железный инвентарь какой, – стоит и не боится, – рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой. – Значит, ему, ехидному, где-то еще больней было, а у нас прелесть: чуй, чья власть, коровий супруг!
Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жачева удары за свою собственность в деревне и неслышно превозмогал боль.
– Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева карающий удар, – сказал Сафронов. – А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить.
– А для чего, товарищ Сафронов? – прислушался Вощев из дали сарая. – Я хочу истину для производительности труда.
Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и на лице его получилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку.
– Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!
Чиклина не было, он ходил по местности вокруг кафельного завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья рассыхались от старости и стояли давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись за двойными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева. В молодости Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства нагревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей, смутной земли, которой Чиклин лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей пекарней и постаревшими яблоневыми садами.
Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина доводило его до печали тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди торчали из него, освобождаемые из тесноты древесины силой времени; это было грустно и таинственно, что Чиклин мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и разнообразно трудился; а старик забор стоял неподвижно и, помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и погладил забвенные всеми тесины отвыкшей от счастья рукой.
Кафельный завод был в травянистом переулке, по которому насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно врастало в землю, и безлюдно было на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился здесь – он сидел под навесом для сырья и чинил лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину.
– Что ж тут такое есть? – спросил у него Чиклин.
– Тут, дорогой человек, констервация – советская власть сильна, а здешняя машина тщедушна, она и не угождает. Да мне теперь почти что все равно: уж самую малость осталось дышать.
Чиклин сказал ему:
– Изо всего света тебе одни лапти пришлись! Подожди меня здесь на одном месте, я тебе что-нибудь доставлю из одежды или питанья.
– А ты сам-то кто же будешь? – спросил старик, складывая для внимательного выраженья свое чтущее лицо. – Жулик, что ль, или просто хозяин-буржуй?
– Да я из пролетариата, – нехотя сообщил Чиклин.
– Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя обожду.
С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода; вскоре он нашел и ту деревянную лесенку, на которой некогда его поцеловала хозяйская дочь, – лесенка так обветшала, что обвалилась от веса Чиклина куда-то в нижнюю темноту, и он мог на последнее прощанье только пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте, Чиклин увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то ведущую дверь. За тою дверью находилось забытое или не внесенное в план помещение без окон, и там горела на полу керосиновая лампа.
Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди.
Около лампы лежала женщина на земле, солома уже истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза ее глубоко смежились, точно она томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила по губам матери коркой лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвалилась от слабости и разверзла беззубый темный рот; девочка испугалась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой через темя, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать легко пробудилась и сказала:
– Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам, ты видишь, как мне трудно.
Девочка опять начала водить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка.
– А ты не заснешь и не уйдешь от меня? – спросила она у дочери.
– Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе: ты же моя мама ведь!
Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произнесла для своей защиты:
– Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно, я стала как каменная, потуши лампу и поверни меня на бок, я хочу умереть.
Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой.
– Туши свет, – сказала старая женщина, – а то я все вижу тебя и живу. Только не уходи никуда, когда я умру, тогда пойдешь.
Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел на землю, боясь шуметь.
– Мама, ты жива еще или уже тебя нет? – спросила девочка в темноте.
– Немножко, – ответила мать. – Когда будешь уходить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь жива…