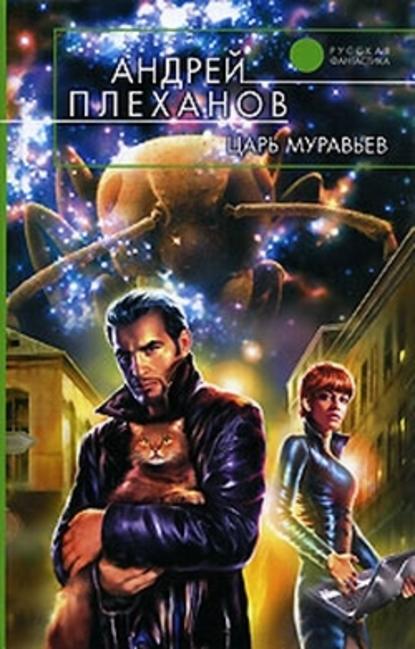По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь муравьев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
***
А началось все с обычного ночного дежурства.
Работал я хирургом. Больница наша – относительно небольшая для почти миллионного города. Хирургическое отделение вполне приличное, реанимация на среднероссийском уровне… не буду придираться, бывает и хуже. И три раза в неделю – в понедельники, среды и субботы – мы дежурим по скорой помощи. Всех, с кем не удается справиться дома при помощи таблеток и инъекций, привозят к нам.
Я отработал в этой больнице немало лет после окончания института. Все эти годы оперировал каждый день, и не по разу в день (иногда – до шести раз). Операции проходили по большей части удачно (скажу по секрету, бывают случаи, когда оперировать удачно просто невозможно, есть только выбор: останется пациент инвалидом или умрет). Меня ценили, я закончил ординатуру, теоретически мог бы стать заведующим отделением… Кажется, шло к тому, что таковым я и стану, потому что опытные хирурги выпархивали из нашей больнички как перелетные птицы и отправлялись в места, подходящие для более комфортного существования. А потом вдруг уволился и я – в два дня, с нарушением трудового кодекса и кривой записью в трудовой книжке. Надоело безденежье, насмерть запилила жена, нервы щелкнули и сорвались как перетянутая тетива. Я ушел из врачей – как в омут нырнул, заполненный не водой, а бензином, спермой, водкой, гормональными препаратами и прочими острореактивными жидкостями. И утонул в этом омуте с головой.
Занялся бизнесом.
Если это можно назвать бизнесом… Лучше назвать это как-нибудь по-другому, например, по-матерному. Но я не матерюсь принципиально – на фоне большинства людей, у которых нецензурная отрыжка вылетает изо рта естественно, без малейших тормозов, моя персона смотрится анахронично.
Деньги, проклятые деньги… «Как хорошо было бы без них», – сказал писатель Александр Минчин. Без денег было бы хорошо, но нет, почему-то без них плохо, так плохо, что хуже не бывает, совсем ужасно. А когда денег вдруг становится больше, то все равно их мало. Их не хватает то хронически, то остро. Второе в чем-то даже лучше, потому что заставляет шевелиться и зарабатывать.
Моя бывшая женушка требовала немалых денег на поддержание своей жизнедеятельности. Вначале ее жизнедеятельность меня более чем устраивала, потом начала раздражать, а в конце, ближе к разводу, вызывала с трудом сдерживаемое бешенство.
Сейчас мне тридцать шесть лет, именно столько, ни больше, ни меньше. Кто-то скажет, что я уже старикан, кто-то позавидует моей молодости. Это не важно, важна разница в возрасте. Моя жена была моложе меня на одиннадцать лет, в этом все дело. Когда я женился, мне было двадцать девять лет, а ей восемнадцать. Когда мы начали с ней жить (спать с ней, умирать от любви друг к другу), ей было чуть больше шестнадцати. Не то что комплекс вины, нет. Просто я всегда нес за нее ответственность – опекал, вытирал нос, тер спинку в ванной, покупал ей все, вплоть до нижнего белья, выручал изо всяких кретинских передряг, в которые она любила и умела попадать. Кому-то нужна жена-мама. Мне – не нужна. Я люблю молоденьких девочек. Совсем молоденьких, инфантильных. Медленно, но неуклонно формирующийся Гумберт Гумберт[2 - Гумберт Гумберт – персонаж романа В. Набокова «Лолита».] – вот кто я такой, прошу любить и жаловать. С каждым годом я становлюсь все больше Гумбертом Губертом – чем мне больше лет, и чем больше разница в возрасте между мной и теми девочками, которых я хочу.
Я не педофил, не маньяк и не насильник. Но со мной рядом должна быть тонкая девочка-подросток. Я не трону ее грубо, буду носить на руках, оберегать, и убью всякого, кто прикоснется к ней хоть пальцем. Я буду просыпаться ночью, приподниматься на локте и смотреть на нее, по-детски дышащую во сне, окутанную лунным светом, и чувствовать остро накатывающую, до слез, волну счастья, и не верить, что мне так повезло. И тихо прикасаться губами к щеке, боясь разбудить… И будить все равно – нечаянно, и убаюкивать, пока не заснет…
Именно такой была Любка, моя жена. Была…
До нее было немало девушек, но Любка настолько выделялась на их фоне, что я нарушил обет безбрачия и женился. Ни у кого из моих прежних подружек не было столь чистого личика, несущего печать неисправимой детской глупости, таких распахнутых настежь синих глаз, глядящих на мир с изумлением, такой доведенной до совершенства инфантильности, и такой неуемной нимфомании, неконтролирумого и бесстрашного желания заниматься любовью где угодно и когда угодно. Любку можно было назвать «Ее Величество Нимфетка» – угловатая долговязая фигурка, прелестная в своей незрелости, голенастые журавлиные ноги, маленькая грудь, не требующая лифчика, обгрызенные ногти, мальчишечья стрижка, потрясающая неграмотность и идиотский сленг восьмиклассницы. Я влюбился в Любку насмерть. Даже не помню, как познакомился с ней и что было в первые месяцы после знакомства – все эти дни и ночи мы пожирали друг друга и не могли насытиться. Время неслось с ревом, словно боевой истребитель. Едва я успевал проснуться утром в постели с ней, как снова оказывался в той же постели, опять же с ней, моей Любовью, но уже вечером. Я был по-настоящему счастлив, и она тоже. Я нашел то, что искал всю жизнь.
Мы поженились сразу, как только ей стукнуло восемнадцать. Можно, конечно, было расписаться на год раньше, но это стоило бы лишних хлопот и формальностей, а спешить не имело смысла. Мы и так знали, что никуда не уйдем друг от друга, потому что немыслимо было жить друг без друга, есть, дышать, мыться под душем, спать друг без друга. Наши родители благословили нас – мои с облегчением («Наконец-то наш балбес остепенился»), ее замечательные родители, сами ненамного старше меня – с уверенностью, что доверили дочь доброму и надежному человеку.
Так оно и было, я был относительно добрым и более-менее надежным. Был, пока не бросил медицинскую работу и не занялся всякой дрянью.
Любка росла. Росла уже не под присмотром родителей, а под моей опекой. Само собой, я старался быть правильным мужем, наставлял девочку на путь истинный. Мне достался чистый лист бумаги, и я должен был начертать на нем верные знаки. Иногда мне это удавалось, но не слишком часто. Как-то получалось, что черкал я на листе-Любке корявым и неразборчивым докторским почерком, и больше уповал на волю господню, чем на методичность в воспитании. Я оказался плохим учителем.
Предполагалось, что Любочка поступит в институт, почему-то медицинский (мало было ее родителям моего несчастливого примера). Не смогла, не потянула, головы не хватило: знаний в красивой любкиной головушке было на удивление мало. Конечно, можно было определить ее на платное обучение, но никто из нас этой платы не потянул бы. Поэтому пошли путем наименьшего сопротивления – решили поступать туда же, но на следующий год. В следующем году Любка, естественно, опять пролетела, еще через год история повторилась – как и положено, уже в виде не трагедии, а бессовестного фарса. Не помогали никакие репетиторы и курсы. Учиться Люба не хотела – активно, вплоть до ненависти. Все в жизни давалось ей легко, за красивые глазки, и любую попытку заставить ее выучить хоть что-нибудь она воспринимала как насилие и внешнюю агрессию. В конце концов я вздохнул и сдался…
Она, разумеется, мечтала о модельном бизнесе – теперь все девушки об этом грезят. Я запретил безоговорочно, даже слушать не стал, несмотря на вопли, слезы и сопли. Знаю я этот модельный бизнес. Может быть, кому-то из длинноногих моделей и удается избежать постели своих шефов, но Любке, в глазах которой написано жирным шрифтом «Хочу трахаться!», это сфера деятельности абсолютно противопоказана. Не хочу сказать, что она имела намерение изменять мне, я все еще был для нее любимым героем, настоящим мужчиной, несравнимым с ее прыщавыми сверстниками, но я вовсе не был уверен в умении и желании Любы сопротивляться сильным рукам и умелым уговорам. И поэтому нашел для нее работу, которая казалась мне подходящей и безопасной – пристроил в библиотеку.
Я думал, что для нее это самое то, поближе к литературе и интеллигентным людям – авось начитается умных книг и поумнеет. Зарплата, конечно, нищенская – на фоне библиотекарей даже я, со своими пятью-шестью тысячами рублей в месяц, смотрелся богачом. Зато чисто женский коллектив – никаких соблазнов, царство высокой морали, возвышенные нравы, этакий заповедник культуры…
Я ошибся, своими руками загнал девочку в змеепитомник. Интеллекта Любка не набралась, зато вдоволь пообщалась с кобрами, эфами и гадюками и прочими ядовитыми тварями женского пола. При этом, замечу, людьми милейшими на первый взгляд. Ну да, понятно – я был представителем мужского племени, и в моем присутствии они дружно выглядели как дворянки, с отличием окончившие институт благородных девиц и чудом уцелевшие в классовых битвах. Этакие нежно-кремовые орхидеи, цветущие на кучах пролетарского навоза. Однако, стоило бабенкам остаться наедине, они начинали грызться между собой – утонченно, с садистским удовольствием, так, как умеют это делать только несостоявшиеся филологи, забывшие язык лингвисты, неудачные историки и педагоги, до дрожи боящиеся школы.
Там было несколько неплохих дам. Были там и такие, не хочу мазать все беспросветно черной краской. Беда в том, что Любка плевать на них хотела. Она с удовольствием присоединилась к партии ядовитых стерв и начала перенимать их приемы – талантливо, без особого труда превосходя своих учителей. Еще раз повторю, что интеллектом Любка не блистала, но, как быстро выяснилось, житейской хитростью и умением встраиваться в любую обстановку черт ее не обидел. Приходя домой, милая женушка жаловалась на высокомерных уродин, что весь день пьют кровь из нее, юной беззащитной девушки. Любка тихо плакалась на моем плече, и я жалел ее, и гладил по стриженому, самому лучшему на свете затылку, и целовал холодные щеки, и утешал, не подозревая, что она уже «в авторитете» среди рафинированных библиотечных мымр. Что она поставила удар, и с каждым днем все более близка к тому, чтобы стать законченной кровопийцей.
Странно, правда? Что было бы, если бы я отдал ее не в библиотекари, а в продавцы? Может быть, девочка не испортилась бы, выросла другой? Вряд ли. Некий изъян существовал в ее душе всегда. Я не рассмотрел его, не мог рассмотреть, ослепленный не столько любовью, сколько лишающим разума физическим влечением. И была еще одна червоточина – на этот раз в моей собственной душе, в моем поведении. Я, привыкший считать себя обстоятельным и рассудительным, был по-своему инфантилен и туп. Я законсервировал в памяти образ девочки Любки – такой, какой она была до семнадцати. Я хотел быть вечным мужем-отцом по отношению к ней, вертел на жизненном проигрывателе одну и ту же мини-пластинку и не хотел ее менять. Желал вечно играть с любимым щенком, умиляться, глядя, как он валится на спинку и поднимает лапки, и как мило оскаливает свои малые острые зубки, и щекотать его теплое мягкое пузико…
Щеночек вырос, быстро превратился в матерую суку – куда быстрее, чем можно было предположить. И зубы у нее стали длинными и острыми, словно кинжалы. Не хочу винить Любу ни в чем – она просто стала собой. Стала тем, кем должна была стать от природы. Сказать, что это был урок мне – не сказать ничего. Скорее это можно было сравнить с бетонной плитой, свалившейся на голову, ведь я любил Любку, любил по-настоящему.
Я не сделал Любу несчастной – после развода она живет с мужиком на двадцать пять лет старше нее, дяденькой-бизнесменом – лысым, но в хорошей физической форме. Люба имеет все, что хочет, и не держит на меня зла. Но испортил ее именно я. Если бы я был настойчивее в попытках заставить ее получить образование, привить некие этические принципы, возможно, она стала бы другой, более правильной. Хотя что значит «правильный человек»? Каждый имеет на этот счет собственное мнение. Вероятно, мои собственные принципы были слишком размытыми, а жизненная позиция –аморфной (точнее сказать – бессовестно пофигистской). Вот и огреб я по маковке.
За «муки» на работе Любке полагалась моральная компенсация. Иногда это были походы в кино – увы, редко, потому что кино было лучшим из вариантов. Чаще всего мы ходили на дискотеки. Любка называла это словом «колбаситься». Дискотеки назывались «ночными клубами», но сути это не меняло. Суть была именно такова: мы ходили на дискотеки и там танцевали. Танцевала в основном моя женушка – любила она это занятие до самозабвения, а меня надолго не хватало. Не могу воспринимать в качестве музыки электронную бухотню, когда ритм монотонно вколачивается в уши подобно ударам автоматического молота. Бдым-бдым-бдым-бдым! (и так еще шестьсот строчек «бдым-бдым» подряд, безо всяких вариаций, а потом песня кончается, секундное полузатишье и агония танцпола, а потом шестьсот-семьсот строчек какого-нибудь к примеру, «бдыщь-бдыщь», и так далее, до посинения).
Музыкой для меня, выросшего на издыхании Советской империи, а потом во времена перестройки, были рок и блюз. И даже больше – блюз. Любка его терпеть не могла. Раз пять я притаскивал ее в каменный прокуренный подвал, где играли блюз – естественно, вживую, где пили пиво и жрали толстенные свиные отбивные и недожаренные телячьи бифштексы с кровью. Я лично знал всех людей, кто там присутствовал – и посетителей, и музыкантов, и чокался с ними кружками (пиво плескалось и плевалось пеной), и орал, потому что возможно было только орать друг другу в ухо, чтобы услышать хоть что-то. Мы танцевали допотопные танцы, придуманные по ту сторону Атлантики ровесниками наших отцов, топтались на деревянном скрипучем полу как стадо перекормленных слонов (ко мне это не относится, я слон поджарый, но, боже мой, как же толсты многие из моих ровесников…) и ловили откровенный общедружеский кайф. Временами мы убегали в подсобное помещение, чтобы затянуться сладкой травой – по случаю чьего-нибудь неизменно приключающегося дня рождения. В общем, это был праздник жизни – для всех, только не для Любки. Она не курила траву, не переносила пива, не могла слушать блюз. Ее тошнило, когда она смотрела на рок-н-ролльные телодвижения, кажущиеся нам крутыми и даже изящными. Ее тошнило все время, пока она находилась в блюз-клубе, она постоянно бегала отдышаться на свежий воздух, на мороз в маечке, неизменно простужалась и начинала сипеть. И вылечить ее мог, похоже, только попсовый ритм на танцполе, среди сотен медленно извивающихся и озаряемых синими вспышками подростков – то место, где долго не мог находиться я.
Странно устроена жизнь. Мы оба любили клубы, музыку и общение, но компоненты кайфа были у нас не то что разными, а даже противоположными.
Надо же, разница в возрасте всего одиннадцать лет, и такие различия во взглядах. Мы, старшие, полагаем себя настоящими, состоявшимися людьми. А они нас – анахроничными, не понимающими новой жизни занудами. При этом они почему-то постоянно просят у нас денег, потому что сами зарабатывать не умеют.
Похоже, я начал брюзжать по-стариковски. А ведь мне всего тридцать шесть. Нехорошо как-то с моей стороны, глупо как-то. Да и с чего мне жаловаться, все в моей жизни замечательно: я сижу в психушке, не будучи уверен, не окажусь ли я вскоре на том свете; я не знаю, жива ли моя любимая девушка (другая, совсем уже не Люба, рассказ об Евгении будет позже); я имею отличные шансы, что завтра поутру меня заберут из больницы и пристрелят спокойные люди в темно-серых костюмах.
Прошу прощения – мой рассказ про Любку слишком затянулся. Я ною и жалуюсь, и рассказываю про нее всякие гадости. Наверное, нужно было бы сказать про нее, что она умерла, что ее сбила машина, или зарезали какие-нибудь ублюдки, или она заболела неизлечимой формой рака. Тогда ее история закончилась бы сентиментально, вы бы всхлипнули, и я заплакал бы вместе с вами, и мы помянули бы Любу светло и облегченно. Но нет – она не умерла, живет счастливо, только вот детей пока не завела, но заведет, я не сомневаюсь. В какой-то мере ее жизнь оказалась более правильной, чем моя, хотя в то время, когда мы жили с ней, сказать такое никак было нельзя.
Я уже говорил, что не могу танцевать под электроклэш и прочий эсид-хаус, травмирующий барабанные перепонки. Я отрабатывал на танцполе минут двадцать, а потом бросал Любку и шел играть в бильярд. Она изображала, что немножко обижена, я делал вид, что мне чуть-чуть стыдно. На самом же деле мы наконец-то добирались до того, чего хотели действительно: я – до знакомых в бильярдной, пива и десятка партий в пул, она – до своей компании и танцев до упада. Она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Счастливой настолько, что я уже не был нужен ей – во всяком случае, до следующего утра.
Это сумасшествие продолжалось четыре года. По утрам я клевал носом, пытаясь не заснуть на операциях, не уронить внутрь разрезанного мною чрева скальпель или зажим. Думаю, вы не обрадовались бы, узнав, что вас оперирует хирург, который до трех ночи колбасился в ночном клубе, да и сам я не слишком радовался своему квелому состоянию. Я валился с ног и пытался урвать по десять-пятнадцать минут сна между операциями – на стуле, прямо в халате, содрав с себя только резиновые перчатки. И урывал. Медсестры относились ко мне с сочувствием; пожилые – потому что и не такое видывали; молодые – потому что знали, что у меня юная жена и я уделяю ей много внимания. По крайней мере, я не был алкоголиком, редко выпивал больше трех кружек пива за вечер, и утром от меня не тянуло перегаром. С хирургами-алкоголиками бывает куда больше проблем, чем со мной, ночным клубным гулякой – можете поверить.
Я знаю, о чем вы хотите спросить меня. «О чем ты думал?» – вот что вы спросите. Скажу вам просто: я не думал ни о чем. Не хотел видеть ничего, что меня не устраивало, потому и не видел. Женившись на Любке, я получил все, что хотел, и на этом мое развитие затормозилось. Подспудно я понимал, что вечно так продолжаться не может, что со временем все изменится и скрытые гнойники прорвутся, но всеми мыслимыми способами оттягивал время кризиса. Кому нравится быть больным?
То, что я уволился из больницы, было проявлением все того же комплекса Г. Гумберта, попыткой обмануть самого себя. После третьего выговора с предупреждением о неполном служебном соответствии (какая уж тут дальнейшая карьера, да и кому она нужна?) я пошел к главному врачу и сказал, что ухожу. Куда? Не важно. Есть места получше, сказал я. Главный был расстроен. Он был славным человеком, заботящимся о своих сотрудниках, насколько это было возможно, но в тот момент мне не до него. Я хотел отоспаться.
Хирургия – тяжелейшая работа. Если оперируешь по пять раз в день, то неизбежно натренировываешься – как спортсмен, год за годом нарезающий круги по стадиону. Во время несложных рутинных вмешательств, вроде аппендицита, сопоставления костных обломков или грыжесечения, не устаешь, потому что работаешь автоматически. Увы, человеческий организм – не машина, он плохо подлежит стандартизации, и никогда не знаешь, какие сюрпризы поджидают тебя в очередном теле, загруженном наркозом и недвижно распластанном на столе. Идешь на аппендицит и обнаруживаешь опухоль слепой кишки размером с кулак. Или, к примеру, делаешь репозицию у бабушки со старческим переломом шейки бедра, и в ходе операции нечаянно ломаешь хрупкую, отжившую свое кость еще в двух местах, и понимаешь, что бабуле уже никогда не встать на ноги. Всякое бывает… Не буду утомлять вас медицинскими подробностями.
Все бы ничего, если бы за такую работу достойно платили. Однако, платят сущие копейки, на жизнь не хватает хронически, и в конце концов в голове начинает крутиться навязчивая идея, что тебя не просто не уважают, а относятся оскорбительно. Конечно, большинство хирургов, как и другие врачи, выкручиваются – получают от пациентов денежные вознаграждения, не отказываются от подачек мясом, колбасой, коньяком и прочими твердыми и жидкими продуктами. Также врачи способствуют бесплатной госпитализации людей, не прописанных в городе (в основном – лиц кавказской и среднеазиатской национальностей), помогают детям обеспеченных людей уклоняться от армии, выписывают фальшивые справки, и много еще чего… Не укоряйте меня – я делал то же самое, но, увы, не слишком часто, потому что возможности для этого предоставлялись редко. Для того, чтобы иметь левый заработок, нужно работать в престижной клинике. В престижную больницу обращаются люди с достатком, они сразу настроены на то, что им придется платить. В крупных клиниках развита сеть официальных платных услуг, и в большинстве случаев ты спокойно посылаешь пациента за квитанцией, и не вздрагиваешь от малейшего шороха в ожидании того, что за тобой придут люди в синей форме, дабы схватить за руку и обвинить во взятке. В нашей же больничке лежат в основном «бесплатные» бабушки и дедушки, на которых государству наплевать.
Я мог бы мигрировать из своей клиники в более престижную, или даже частную – предложения были. Но вместо этого бросил медицину совсем – решил, что так будет проще и денежнее. А еще я устал. Устал за годы безотрывной пахоты без нормального сна.
Я ушел в бизнес, стал владельцем спортивного клуба. Вот так круто, сразу.
Не подумайте, что я накопил денег за годы медицинской работы – ни копейки не отложил. Все было по-другому: один из пациентов, которого я удачно прооперировал при множественных проникающих пулевых ранениях (говоря откровенно, вытащил его с того света), давно предлагал работать у него. Звали его Виктор Артемович Овчаренко, в криминальных кругах он был известен под кличкой «Некрасов». Кличка была дана в честь великого поэта, хотя у Некрасова и «Некрасова» не было ничего общего, кроме сочинения стихов, в случае Овчаренко – совершенно грубых и лагерных, с обилием ненормативной лексики. Вот типичный пример виршей Виктора, как сейчас его стишата помню:
А когда ты Катька
Сосала свой чинарик
Вспомнил как ты сука
Мне делала минет.
А когда я выйду
В гроб тогда ты ляжешь
Только вот я выйду
Через десять лет.
Такая вот народная лирика…
Во внутренних органах нашего города об Овчаренко не могли говорить спокойно, всегда присутствовало желание припаять ему очередную статью и посадить в тюрьму. Несмотря на открытую нелюбовь правоохранительных структур, Некрасов сидел только один раз, и то относительно недолго – четыре года в колонии общего режима. В последние годы он стремился к максимальной легализации своих грязных дел, и одним из проявлений этого стал мой спортивный клуб.
Клуб, именуемый «Здоровый Дух», не был ни закрытым, ни элитным. Теоретически, туда мог придти любой, заплатить за посещение и начать заниматься. Но стоило увидеть морды тех, кто тягал там штангу, бежал по дорожке, парился в сауне или плавал в бассейне, желание пропадало надолго, если не навсегда. «Здоровый дух» был известным местом накачки бандитов, а также их реабилитации после костоломных «разборок». Он существовал уже три года, и единственное, чего ему не хватало – хорошего врача. Таковым стал я, а заодно и «владельцем». Некрасов предложил, а я не смог отказаться. Да и не собирался отказываться – напротив, предложение мне очень понравилось. Клуб дали мне в своеобразный «бесплатный кредит» – через пять лет добросовестной работы я должен был стать действительным его владельцем. Некрасову не было не жалко такой мелочи, у него подобного добра было навалом, а вот хороший врач и костоправ нужен был для его ребяток позарез. Я согласился и пожалел об этом уже через месяц, однако проработал целых три года. Владельцем клуба так и не стал, и слава богу. Теперь я понимаю, что истинным хозяином такого заведения может быть только бандит.
Поначалу особых трудностей в новой работе не выявилось. В три часа пополудни я открывал зал, лениво наблюдал за бабушкой-уборщицей, моющей пол, вытирающей тренажеры и железки. Дальше лично контролировал смену воды в небольшом двадцатиметровом бассейне. Воду меняли каждый день, и вначале я недоумевал, почему так часто, но позже, когда влез в криминальные понятия, то понял, почему. Включал на разогрев электротехнику сауны и начинал ждать посетителей. Согласитесь – ничего трудного и сколько-нибудь обременительного, фартовая работенка. Более того, до пяти вечера, когда зал начинал заполняться людом, я занимался собственным здоровьем: крутил педали велотренажера, бегал по черной ленте беговой дорожки, совершал подход за подходом на тренажерах, и чувствовал, как с каждым днем укрепляются мои мышцы и становится выносливее сердечно-сосудистая система. Я добросовестно потел, а потом шел в душ и смывал трудовой пот, и нравился сам себе, когда разглядывал себя в зеркала, во множестве вмонтированные в стены. Я нравился себе, и все больше нравился Любке (в первую очередь, думаю, из-за резко выросшей зарплаты), и вполне нравился моим новым клиентам.
А вот мне они не нравились совсем. Но мое мнение (впрочем, как и раньше, как и всю мою дальнейшую жизнь) никого не интересовало.
Эти люди называли себя «люди». Слово «человек» означало в их устах вовсе не отношение к виду «гомо сапиенс», а принадлежность к криминальной среде. Особи некриминальные в этой среде людьми не считались, для них существовали такие понятия, как «лохи» и «фраера». Иногда «люди» называли себя «братвой», но редко, в состоянии подпития. Вы спросите, что делает пьяный человек в спортзале? Качается, скажу я вам. Тягает железо, с остервенением лупит боксерский мешок и, распарившись в стотридцатиградусной сауне, в полубесчувственном состоянии, голый, криво боком рушится в бассейн – охладиться. А теперь спросите: есть ли у такого человека шанс получить сердечный приступ или утонуть в том же бассейне? Есть, отвечу я вам, еще какой шанс! Море шансов, особенно если перед заходом в сауну, клиент закинулся «герычем», то есть пустил по вене дозу героина. Угадайте, кто должен спасти бедолагу, отстоять его жизнь в жестокой борьбе со смертью для дальнейшей успешной противоправной деятельности? Вы не ошиблись. Герой-спаситель – я.
Опять хочется выругаться, но не буду, нужно следовать принципам. Тогда, когда я работал «владельцем» клуба, я не ругался, и теперь, когда сижу в психушке, тем более не буду.
Другие электронные книги автора Андрей Вячеславович Плеханов
Левый глаз




 4.67
4.67
3D-action в натуре




 4.67
4.67