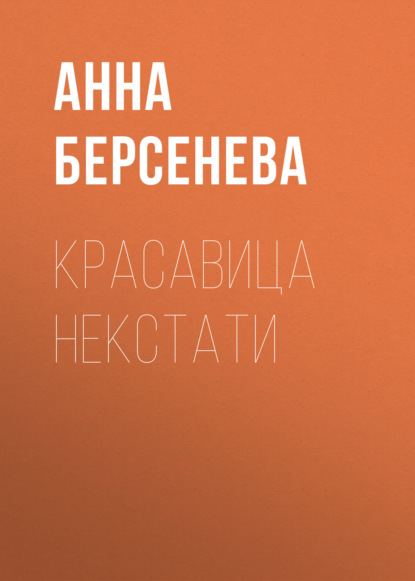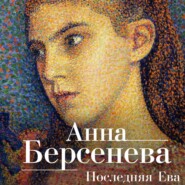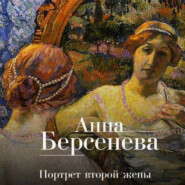По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красавица некстати
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты чего думал, тебя сюда на гульки пригнали? Тайгу валить. Покудова сам не свалишься.
Игнат увидел, как сразу помрачнело лицо Иннокентия. Даже не помрачнело, а подернулось нездешней тенью. Когда такая вот тень набегала на его лицо, у Игната внутри возникало то же самое чувство, как когда Иннокентий выкашливал из себя жизнь.
– Заткнись, – тоже свесив голову вниз, сказал он. – Чтобы я тебя больше не слышал.
Он с первого взгляда понял шестерочную природу обитателя нижних нар и, как выяснилось, не ошибся. Тот заткнулся сразу же, от одного Игнатова голоса. Правда, и голос был не из ласковых.
– Ложитесь, Иннокентий Платонович, – сказал Игнат. – И правда, отдохнуть надо.
Ему не казалось странным, что Иннокентий называет его по имени-отчеству после долгих месяцев, проведенных бок о бок в таких условиях, которые не располагали к церемониям. В поморской деревне, где он вырос, назвать взрослого мужчину без отчества считалось не то что неуважением, а даже оскорблением. Так что, попав в Москву, Игнат воспринял городской этикет естественно и так же естественно воспринимал его правила в любых условиях. И сам называл Иннокентия по отчеству, тем более что оно было простое, какое-то ласковое и выговаривалось само собою.
Иннокентий уснул сразу. Вся его природа, вот эта, нездешняя, была такова, что он легко переходил к той нездешней же жизни, которой был сон.
Игнат бессонно смотрел на темные балки потолка, и сна ни в одном глазу у него не было.
Он этому не удивлялся: знал, что сон от усталости сваливает его только в том случае, если усталость имеет живое, осмысленное происхождение. В ранней юности, когда ходил со взрослыми мужиками весельщиком на карбасе промышлять белуху, он засыпал как убитый, едва коснувшись головою любой твердой поверхности. И когда работал в Москве на стройке, тоже засыпал сразу. Конечно, та работа была вынужденной, нелюбимой, ее не сравнить было с промыслом рыбы в Белом море. Но все-таки и она, стоило только начать, постепенно захватывала, приобретала тот смысл, который не зависит даже от цели труда, а заложен в самой его глубоко правильной сути. И потому он уставал на стройке тоже и засыпал тоже мгновенно.
А теперь он устал не от работы. Он уже потерял счет времени, в течение которого уставал не от работы, а от ночных допросов, побоев, голода, жажды, тупых, бессмысленных действий, к которым свелась лишенная чувств и мыслей жизнь. Если бы не Иннокентий с его нездешней душой, Игнату вообще пришлось бы плохо. Иннокентий научил его цепляться сознанием за каждую примету другой, не связанной с ежеденевной безнадежностью, жизни. То есть он ничему Игната не учил, конечно. Он просто жил рядом так, как только и мог жить, и этого оказалось достаточно.
Игнат был потрясен этим еще в то утро, когда Иннокентия втолкнули в камеру после трех суток допроса и, едва придя в себя, он сказал:
– Надеюсь, я не назвал никаких фамилий. Я же не мог оклеветать людей.
И замолчал на сутки – видимо, пытаясь вспомнить, так ли это, и мучаясь сомнениями. А после следующего допроса, длившегося уже четверо суток, выговорил почти неслышно, но с радостью в голосе:
– Действительно не назвал! Ведь на этот раз они спрашивали меня о том же самом. И протокол с прошлого раза оказался не подписан. Это прекрасно.
И Игнат понял, что так оно и есть: не назвал. Даже не потому понял, что сам тоже не подписывал никаких их блядских протоколов, а потому, что выговорить слово «прекрасно», лежа почти без жизни на холодном каменном полу, мог только особенный человек. Каким и являлся Иннокентий Платонович Лебедев, по специальности ботаник.
Иннокентий закашлялся и кашлял долго, надрывно. Но все-таки не проснулся: кашель стал таким привычным для него, что уже не будил. Скосив глаза – он давно уже научился видеть почти в полной темноте, – Игнат понял, что сон Иннокентия глубок и безмятежен, будто он спит и не в душном бараке. Может, ему снится лестница Ламарка, которую, как он однажды сказал, можно считать эволюционным аналогом лестницы Иакова. И тут же объяснил Игнату, что такое лестница Иакова – та, по которой Иаков поднимался к ангелам, то ли во сне, то ли в каком-то другом состоянии. Игнат, конечно, читал Библию в детстве – он ходил в церковно-приходскую школу, да и мать, как все у них в Колежме, была богомольна, – но мало что с той поры помнил. А потом, когда Библию читала Ксения, он отшатывался от этого, как отшатывался от всего, что отделяло от него Ксёну, уводило и наконец увело совсем.
Воспоминание о жене коснулось его осторожно, почти неощутимо – так, как сама она касалась когда-то его щеки рукой. Тогда он чувствовал ее прикосновение даже во сне, но и тогда уже поражался тому, что чувствует его как-то… неосязаемо. Будто это и не прикосновение женской руки, а лишь мысль, или взгляд, или даже одно только неясное стремление коснуться его щеки рукою.
Может, сейчас как раз и надо было думать о таких вот неосязаемых стремленьях, взглядах, касаньях, из которых сплошь состояла его жена. В них не было того жара, который так тревожен для тела, и поэтому для его тела в нынешнем состоянии – измученном, бесцельно напряженном – спокойные мысли были бы благодатны.
Но Игнат думал совсем о других прикосновениях и взглядах. От них весь он загорался еще тогда, когда они были хотя и краткой, но реальностью. И даже теперь все его тело отозвалось на одно лишь воспоминание о них сразу и с такой неожиданной силой, что у него потемнело в глазах, хотя в бараке и так уже было темно, хоть глаз выколи.
«Ты хоть живая, а? – с тоской спросил Игнат. – Может, помереть мне, чтоб до тебя дойти? Или рано? Живая ты?»
Она молчала. Она вообще ни разу не сказала ему ни слова. Это казалось ему странным, и не потому, что он был мистиком. Какое! Он считал мистику порождением праздного ума, и люди, которые были ею увлечены, вызывали у него лишь снисходительную брезгливость. Но его связь с Эстер, вся державшаяся на таком желании телесности, которого он иной раз даже стыдился, была слишком сильна, чтобы быть молчаливой. В конце концов, что такое слова? Не до конца материализовавшиеся мысли. И если его мысли об Эстер материализуются настолько, что он видит ее яснее, чем наяву, и отзывается на это всем телом, будто подросток, то почему бы ей не сказать ему, где она и что с ней? Он, право, не удивился бы, если б сказала.
Но она молчала. Ни слова за два года, что они не виделись.
Он вспомнил их встречу два года назад и заскрипел зубами, едва сдержав почти животное мычанье. Все-таки простая, мужицкая его природа была слишком сильна. Вот Иннокентий думает, наверное, об ангелах, порхающих по лестнице эволюции, и спит себе безмятежным сном. А он думает о женщине, которая вся огонь, и не то что заснуть – тело свое успокоить не может.
Игнат перевернулся на живот: может, полегче станет.
«Тайгу пойдешь валить, сразу полегчает, – злясь на себя, подумал он. – Сколько из тебя дурь выбивают, все никак не выбьют».
Ну, это, положим, было глупостью. Можно подумать, его сменявшие друг друга следователи были озабочены тем, чтобы он перестал думать об Эстер! Они даже не знали о ее существовании, и слава богу. Их интересовала эмигрантская организация, которую он якобы сколотил во время командировок за рубеж, и все выбивание из него дури, которым они занимались с завидным упорством целый год, было направлено как раз на то, чтобы он сообщил им состав и цели этой мифической организации.
Сначала эти обвинения казались Игнату такими дикими, что он захлебывался от бессильной ярости. А потом возмущаться перестал. В конце концов, обвинения не абсурднее других. Вон еще одного инженера, его соседа по камере на Лубянке, обвиняли в том, что он, пользуясь полученными в дореволюционных университетах знаниями, составил проект туннеля, по которому враги народа собирались проникнуть из смоленских лесов в Кремль и убить товарища Сталина. А тихий математик из липецкой школы был объявлен агентом трех разведок – английской, немецкой и французской. Он знал все три эти языка, и какие же еще выводы можно было из этого сделать? Зачем знать три языка провинциальному математику?
Так что обвинения, предъявленные Игнату, выглядели не такими уж и бессмысленными. За границей он в самом деле бывал – в Чехии, во Франции, в Норвегии. А в Германии даже жил целый год, когда учился в Берлинской высшей технической школе. Правда, фашисты считались друзьями, поэтому злодейскую организацию он, согласно обвинениям, сколотил не в Берлине.
Он-то фашистов друзьями как раз не считал, потому что за год все про них понял. Он знал, что с ними придется воевать, и, вероятно, очень скоро. Но объяснять это следователям, конечно, не стал. Не то, может, не десять лет получил бы по пятьдесят восьмой статье, а пулю.
Стоило Игнату вспомнить обо всем этом – о следователях, о злодейской организации, – как на него сразу навалилось что-то вязкое, тусклое, однообразное. Сейчас это было даже хорошо, потому что, возможно, помогло бы наконец уснуть. А уснуть следовало. Вряд ли им дадут хотя бы завтрашний день на то, чтобы прийти в себя после этапа и набраться сил перед работой. Похоже, сосед снизу был прав: их пригнали сюда только для того, чтобы валить тайгу, и будут держать здесь до того часа, когда они свалятся в этой тайге замертво. И особо отдалять этот час здешнее начальство не собирается. Значит, его надо отдалить самому.
Игната зло брало, когда он думал, что сдохнет здесь, как тягловая скотина, без всякого смысла. Значит, он должен беречь силы – может, со временем какой-нибудь смысл в его жизни все-таки прорежется.
Через минуту он провалился в сон – тяжелый, глухой, без лестниц и ангелов. И без Эстер.
Глава 9
Первое, что сделала Вера, как только их с Кириллом отношения приобрели повседневную ясность, – ушла с работы.
Она сделала это легко, без размышлений. Хотя еще полгода назад извелась бы подобными размышлениями, и извелась бы даже не столько из опасения, что вместе со скучной, но стабильной работой из ее жизни исчезнет уверенность в завтрашнем дне, сколько от сознания того, что становится содержанкой.
«Слово-то какое – содержанка! Прямо французский роман», – насмешливо подумала она теперь, удивляясь себе прежней.
Связь с Кириллом переменила ее совершенно. Она словно живой водой умылась, получив в свое безраздельное пользование этого мужчину. И как же это оказалось приятно! Вера чувствовала не только в теле, но во всем своем существе такую свежесть, такую молодую легкость, что, просыпаясь утром, даже глаза снова зажмуривала и думала: «Неужели это в самом деле я? Не приснилась я себе другою?»
Конечно, не приснилась. Даже Сашка заметил произошедшие с ней перемены, хотя обычно Верин брат не обращал внимания на такие мелочи. В этом смысле он был как раз из тех анекдотических мужчин, которые, если возмущенная их неприметливостью жена наденет противогаз и спросит, не замечает ли муж изменений в ее внешности, только и поинтересуются: «Ты волосы покрасила, что ли?»
Но нынешние изменения в Вериной внешности заметил даже Сашка.
Он приехал, как всегда, неожиданно, без звонка. Вера уже почти на пороге стояла: они с Кириллом собрались на концерт в консерваторию, и он вот-вот должен был за ней заехать.
– Ничего себе!
Сашка даже головой покрутил, разглядывая сестру, которая ради его появления вернулась из прихожей в комнату.
– Что – ничего себе? – довольно улыбнулась Вера. – Платье красивое?
– Все ничего себе. Замуж ты, что ли, вышла? – спросил Сашка.
– Нет, все-таки вы невозможные! – засмеялась Вера. – Почему обязательно замуж?
– Кто – мы? – уточнил Сашка.
– Мужчины.
– Если и не замуж, то мужика точно завела. – Он улыбнулся в ответ. От улыбки в его взрослых глазах на мгновенье мелькнули мальчишеские дерзкие искры. – Скажешь, нет?
– Скажу – да, – кивнула Вера. – Между прочим, замужем я уже была, если ты помнишь. Но что-то ты тогда от изумления не ахал. А что ты сейчас во мне заметил? – с любопытством спросила она. – Скажи, Саш!
– Ну-у… – Все-таки Сашка не привык размышлять на подобные темы и тем более формулировать подобные мысли. – Ты красивая опять стала! – выпалил он.
Игнат увидел, как сразу помрачнело лицо Иннокентия. Даже не помрачнело, а подернулось нездешней тенью. Когда такая вот тень набегала на его лицо, у Игната внутри возникало то же самое чувство, как когда Иннокентий выкашливал из себя жизнь.
– Заткнись, – тоже свесив голову вниз, сказал он. – Чтобы я тебя больше не слышал.
Он с первого взгляда понял шестерочную природу обитателя нижних нар и, как выяснилось, не ошибся. Тот заткнулся сразу же, от одного Игнатова голоса. Правда, и голос был не из ласковых.
– Ложитесь, Иннокентий Платонович, – сказал Игнат. – И правда, отдохнуть надо.
Ему не казалось странным, что Иннокентий называет его по имени-отчеству после долгих месяцев, проведенных бок о бок в таких условиях, которые не располагали к церемониям. В поморской деревне, где он вырос, назвать взрослого мужчину без отчества считалось не то что неуважением, а даже оскорблением. Так что, попав в Москву, Игнат воспринял городской этикет естественно и так же естественно воспринимал его правила в любых условиях. И сам называл Иннокентия по отчеству, тем более что оно было простое, какое-то ласковое и выговаривалось само собою.
Иннокентий уснул сразу. Вся его природа, вот эта, нездешняя, была такова, что он легко переходил к той нездешней же жизни, которой был сон.
Игнат бессонно смотрел на темные балки потолка, и сна ни в одном глазу у него не было.
Он этому не удивлялся: знал, что сон от усталости сваливает его только в том случае, если усталость имеет живое, осмысленное происхождение. В ранней юности, когда ходил со взрослыми мужиками весельщиком на карбасе промышлять белуху, он засыпал как убитый, едва коснувшись головою любой твердой поверхности. И когда работал в Москве на стройке, тоже засыпал сразу. Конечно, та работа была вынужденной, нелюбимой, ее не сравнить было с промыслом рыбы в Белом море. Но все-таки и она, стоило только начать, постепенно захватывала, приобретала тот смысл, который не зависит даже от цели труда, а заложен в самой его глубоко правильной сути. И потому он уставал на стройке тоже и засыпал тоже мгновенно.
А теперь он устал не от работы. Он уже потерял счет времени, в течение которого уставал не от работы, а от ночных допросов, побоев, голода, жажды, тупых, бессмысленных действий, к которым свелась лишенная чувств и мыслей жизнь. Если бы не Иннокентий с его нездешней душой, Игнату вообще пришлось бы плохо. Иннокентий научил его цепляться сознанием за каждую примету другой, не связанной с ежеденевной безнадежностью, жизни. То есть он ничему Игната не учил, конечно. Он просто жил рядом так, как только и мог жить, и этого оказалось достаточно.
Игнат был потрясен этим еще в то утро, когда Иннокентия втолкнули в камеру после трех суток допроса и, едва придя в себя, он сказал:
– Надеюсь, я не назвал никаких фамилий. Я же не мог оклеветать людей.
И замолчал на сутки – видимо, пытаясь вспомнить, так ли это, и мучаясь сомнениями. А после следующего допроса, длившегося уже четверо суток, выговорил почти неслышно, но с радостью в голосе:
– Действительно не назвал! Ведь на этот раз они спрашивали меня о том же самом. И протокол с прошлого раза оказался не подписан. Это прекрасно.
И Игнат понял, что так оно и есть: не назвал. Даже не потому понял, что сам тоже не подписывал никаких их блядских протоколов, а потому, что выговорить слово «прекрасно», лежа почти без жизни на холодном каменном полу, мог только особенный человек. Каким и являлся Иннокентий Платонович Лебедев, по специальности ботаник.
Иннокентий закашлялся и кашлял долго, надрывно. Но все-таки не проснулся: кашель стал таким привычным для него, что уже не будил. Скосив глаза – он давно уже научился видеть почти в полной темноте, – Игнат понял, что сон Иннокентия глубок и безмятежен, будто он спит и не в душном бараке. Может, ему снится лестница Ламарка, которую, как он однажды сказал, можно считать эволюционным аналогом лестницы Иакова. И тут же объяснил Игнату, что такое лестница Иакова – та, по которой Иаков поднимался к ангелам, то ли во сне, то ли в каком-то другом состоянии. Игнат, конечно, читал Библию в детстве – он ходил в церковно-приходскую школу, да и мать, как все у них в Колежме, была богомольна, – но мало что с той поры помнил. А потом, когда Библию читала Ксения, он отшатывался от этого, как отшатывался от всего, что отделяло от него Ксёну, уводило и наконец увело совсем.
Воспоминание о жене коснулось его осторожно, почти неощутимо – так, как сама она касалась когда-то его щеки рукой. Тогда он чувствовал ее прикосновение даже во сне, но и тогда уже поражался тому, что чувствует его как-то… неосязаемо. Будто это и не прикосновение женской руки, а лишь мысль, или взгляд, или даже одно только неясное стремление коснуться его щеки рукою.
Может, сейчас как раз и надо было думать о таких вот неосязаемых стремленьях, взглядах, касаньях, из которых сплошь состояла его жена. В них не было того жара, который так тревожен для тела, и поэтому для его тела в нынешнем состоянии – измученном, бесцельно напряженном – спокойные мысли были бы благодатны.
Но Игнат думал совсем о других прикосновениях и взглядах. От них весь он загорался еще тогда, когда они были хотя и краткой, но реальностью. И даже теперь все его тело отозвалось на одно лишь воспоминание о них сразу и с такой неожиданной силой, что у него потемнело в глазах, хотя в бараке и так уже было темно, хоть глаз выколи.
«Ты хоть живая, а? – с тоской спросил Игнат. – Может, помереть мне, чтоб до тебя дойти? Или рано? Живая ты?»
Она молчала. Она вообще ни разу не сказала ему ни слова. Это казалось ему странным, и не потому, что он был мистиком. Какое! Он считал мистику порождением праздного ума, и люди, которые были ею увлечены, вызывали у него лишь снисходительную брезгливость. Но его связь с Эстер, вся державшаяся на таком желании телесности, которого он иной раз даже стыдился, была слишком сильна, чтобы быть молчаливой. В конце концов, что такое слова? Не до конца материализовавшиеся мысли. И если его мысли об Эстер материализуются настолько, что он видит ее яснее, чем наяву, и отзывается на это всем телом, будто подросток, то почему бы ей не сказать ему, где она и что с ней? Он, право, не удивился бы, если б сказала.
Но она молчала. Ни слова за два года, что они не виделись.
Он вспомнил их встречу два года назад и заскрипел зубами, едва сдержав почти животное мычанье. Все-таки простая, мужицкая его природа была слишком сильна. Вот Иннокентий думает, наверное, об ангелах, порхающих по лестнице эволюции, и спит себе безмятежным сном. А он думает о женщине, которая вся огонь, и не то что заснуть – тело свое успокоить не может.
Игнат перевернулся на живот: может, полегче станет.
«Тайгу пойдешь валить, сразу полегчает, – злясь на себя, подумал он. – Сколько из тебя дурь выбивают, все никак не выбьют».
Ну, это, положим, было глупостью. Можно подумать, его сменявшие друг друга следователи были озабочены тем, чтобы он перестал думать об Эстер! Они даже не знали о ее существовании, и слава богу. Их интересовала эмигрантская организация, которую он якобы сколотил во время командировок за рубеж, и все выбивание из него дури, которым они занимались с завидным упорством целый год, было направлено как раз на то, чтобы он сообщил им состав и цели этой мифической организации.
Сначала эти обвинения казались Игнату такими дикими, что он захлебывался от бессильной ярости. А потом возмущаться перестал. В конце концов, обвинения не абсурднее других. Вон еще одного инженера, его соседа по камере на Лубянке, обвиняли в том, что он, пользуясь полученными в дореволюционных университетах знаниями, составил проект туннеля, по которому враги народа собирались проникнуть из смоленских лесов в Кремль и убить товарища Сталина. А тихий математик из липецкой школы был объявлен агентом трех разведок – английской, немецкой и французской. Он знал все три эти языка, и какие же еще выводы можно было из этого сделать? Зачем знать три языка провинциальному математику?
Так что обвинения, предъявленные Игнату, выглядели не такими уж и бессмысленными. За границей он в самом деле бывал – в Чехии, во Франции, в Норвегии. А в Германии даже жил целый год, когда учился в Берлинской высшей технической школе. Правда, фашисты считались друзьями, поэтому злодейскую организацию он, согласно обвинениям, сколотил не в Берлине.
Он-то фашистов друзьями как раз не считал, потому что за год все про них понял. Он знал, что с ними придется воевать, и, вероятно, очень скоро. Но объяснять это следователям, конечно, не стал. Не то, может, не десять лет получил бы по пятьдесят восьмой статье, а пулю.
Стоило Игнату вспомнить обо всем этом – о следователях, о злодейской организации, – как на него сразу навалилось что-то вязкое, тусклое, однообразное. Сейчас это было даже хорошо, потому что, возможно, помогло бы наконец уснуть. А уснуть следовало. Вряд ли им дадут хотя бы завтрашний день на то, чтобы прийти в себя после этапа и набраться сил перед работой. Похоже, сосед снизу был прав: их пригнали сюда только для того, чтобы валить тайгу, и будут держать здесь до того часа, когда они свалятся в этой тайге замертво. И особо отдалять этот час здешнее начальство не собирается. Значит, его надо отдалить самому.
Игната зло брало, когда он думал, что сдохнет здесь, как тягловая скотина, без всякого смысла. Значит, он должен беречь силы – может, со временем какой-нибудь смысл в его жизни все-таки прорежется.
Через минуту он провалился в сон – тяжелый, глухой, без лестниц и ангелов. И без Эстер.
Глава 9
Первое, что сделала Вера, как только их с Кириллом отношения приобрели повседневную ясность, – ушла с работы.
Она сделала это легко, без размышлений. Хотя еще полгода назад извелась бы подобными размышлениями, и извелась бы даже не столько из опасения, что вместе со скучной, но стабильной работой из ее жизни исчезнет уверенность в завтрашнем дне, сколько от сознания того, что становится содержанкой.
«Слово-то какое – содержанка! Прямо французский роман», – насмешливо подумала она теперь, удивляясь себе прежней.
Связь с Кириллом переменила ее совершенно. Она словно живой водой умылась, получив в свое безраздельное пользование этого мужчину. И как же это оказалось приятно! Вера чувствовала не только в теле, но во всем своем существе такую свежесть, такую молодую легкость, что, просыпаясь утром, даже глаза снова зажмуривала и думала: «Неужели это в самом деле я? Не приснилась я себе другою?»
Конечно, не приснилась. Даже Сашка заметил произошедшие с ней перемены, хотя обычно Верин брат не обращал внимания на такие мелочи. В этом смысле он был как раз из тех анекдотических мужчин, которые, если возмущенная их неприметливостью жена наденет противогаз и спросит, не замечает ли муж изменений в ее внешности, только и поинтересуются: «Ты волосы покрасила, что ли?»
Но нынешние изменения в Вериной внешности заметил даже Сашка.
Он приехал, как всегда, неожиданно, без звонка. Вера уже почти на пороге стояла: они с Кириллом собрались на концерт в консерваторию, и он вот-вот должен был за ней заехать.
– Ничего себе!
Сашка даже головой покрутил, разглядывая сестру, которая ради его появления вернулась из прихожей в комнату.
– Что – ничего себе? – довольно улыбнулась Вера. – Платье красивое?
– Все ничего себе. Замуж ты, что ли, вышла? – спросил Сашка.
– Нет, все-таки вы невозможные! – засмеялась Вера. – Почему обязательно замуж?
– Кто – мы? – уточнил Сашка.
– Мужчины.
– Если и не замуж, то мужика точно завела. – Он улыбнулся в ответ. От улыбки в его взрослых глазах на мгновенье мелькнули мальчишеские дерзкие искры. – Скажешь, нет?
– Скажу – да, – кивнула Вера. – Между прочим, замужем я уже была, если ты помнишь. Но что-то ты тогда от изумления не ахал. А что ты сейчас во мне заметил? – с любопытством спросила она. – Скажи, Саш!
– Ну-у… – Все-таки Сашка не привык размышлять на подобные темы и тем более формулировать подобные мысли. – Ты красивая опять стала! – выпалил он.