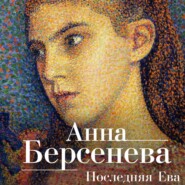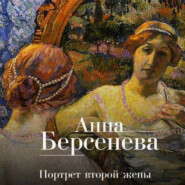По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокзал Виктория
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полина не сомневалась, что Тая согласится. С ней вообще мало кто не соглашался. А если у девчонки и руки такие же ухватистые, как взгляд, то бытовые дела можно считать улаженными.
– Платить сколько будете? – быстро спросила Тая.
– Больше, чем в пельменной.
– Ладно, – кивнула она. – Только вы меня оформите, как положено, а то милиция кишки начнет мотать, тунеядка, мол.
– Не волнуйся, – улыбнулась Полина. – Комар носа не подточит.
– Ну как оформите, я тогда из пельменной и уволюсь, – заключила Тая. – Говорите, если что надо. Моя дверь по коридору последняя. Кладовка.
Тая ушла. Полина присела на стул и обвела комнату взглядом. Не очень пока понятно, как устраивать новую свою жизнь, но здешнее пространство подходит для чего-то нового, она чувствует такие вещи. Только мебель надо будет выбросить – тягостью от нее веет, это она чувствует тоже. Да и не трудно понять почему, и не нужна для этого какая-то особенная чувствительность. Полина сама же сорвала печать с двери; ясно, куда скорее всего подевались хозяева опечатанной комнаты.
Некоторое время ей казалось, что она сидит в полной тишине. И только потом, стряхнув с себя оцепенение – с подготовкой к новой жизни, с предвосхищением ее оно было связано, – Полина сообразила, что никакой тишины здесь нет и не предвидится.
Закончился рабочий день, и за стеной стоял такой шум, будто там был не коридор, а оживленная городская улица. Один мужчина сморкался, другой кого-то звал сердито и громко, женский голос что-то выговаривал на ходу, а детский сердито возражал, потом раздался быстрый грохот, будто колеса проехали, и Полина вспомнила, что у одной из дверей висел на стене самокат – на нем кто-то и прокатился теперь, наверное. Потянуло запахом щей и прогорклого масла, и почему-то с улицы. А, видно, не только у нее в комнате, но и в кухне открыто окно, и кто-нибудь взялся разогревать еду.
«Жилище, что и говорить, могло быть получше, – подумала Полина. – Но могло и похуже, даже сильно похуже, – философски заключила она. – Так что жалеть не стоит точно. А пора его обследовать».
Выйдя из комнаты в коридор и отправившись на поиски уборной, она с ностальгическим чувством вспомнила туалетную комнату в берлинской квартире – карамельного цвета кафель с тонко, как на фарфоровом сервизе, прорисованными розами, массивную ванну на бронзовых львиных лапах и ароматические соли, которые хозяйка пансиона всегда выставляла для жильцов на плетенной из лозы этажерке, не забывая пополнять их запас во флаконах.
А кстати, эта московская квартира очень на ту берлинскую похожа. Ну конечно! И потолки такие же высокие, и такая же на них лепнина… Только здесь все обветшало, потрескалось и потускнело, а там сверкает чистотой и постоянной обновленностью.
Не сверкает, а сверкало. Нет больше того дома на Кудамм. Единственная от него уцелевшая обгорелая стена смотрит на улицу черными дырами бывших окон.
Как глупо! Ладно еще, когда человек разрушает чужую жизнь, это хоть чем-то можно объяснить – жадностью, подлостью, завистью, наконец. Но как не иметь ума настолько, чтобы не понимать, какие именно твои поступки, следуя друг за другом в неотменимом порядке, совершенно точно разрушат жизнь твою же собственную? И как это вышло, что подобную глупость проявил не один человек, не десять и не тысяча, а миллионы людей, да еще таких рассудительных, как немцы?
Полина и теперь, спустя почти десять лет, не понимала того массового недомыслия так же, как не понимала его в тридцать восьмом году, когда приехала из Парижа в Берлин. Даже ей, иностранке, тогда в течение одной недели стало ясно, к чему здесь дело идет и чем закончится. Так оно и вышло. А миллионам местных граждан ничего ясно не было. Они ликовали, рыдали от счастья жить в такой замечательной стране и гордились, гордились собой бесконечно! Странно, странно.
Но что же – та часть ее жизни окончена, и незачем теперь о ней думать. Теперь надо войти в кухню, из которой доносится деловитый вечерний гул, и познакомиться с людьми, бок о бок с которыми ей предстоит провести следующий отрезок своей жизни. А прежний – забыть. Так она делала всегда, и ни разу еще не пришлось ей жалеть о таком ритме движения по жизни.
Но все же многое, многое из прежнего то и дело всплывало у нее в памяти.
Глава 9
«Я – понятно. А вот другие – почему они захотели пойти на сцену?»
Эта мысль приходила Полине в голову каждый раз, когда она гримировалась перед спектаклем в большой гримерной театра «Одеон» среди таких же, как она, артисток «на выход». Первичные мотивы, ведущие человека на актерский путь, интересны ей были потому, что для нее профессия была вторична.
Она решила быть актрисой только из страха перед тем, что ее жизнь пройдет самым обыкновенным образом. Как у всех. Как у ее родителей: рано утром папа уходит на работу в какой-то департамент, названия которого Полина не знает и не интересуется знать, потому что работа эта для папы случайна, и хотя он дорожит ею как зеницей ока, но лишь потому, что за нее платят деньги, на которые можно жить, и вот он выполняет весь день какие-то обязанности мелкого клерка, возвращается поздно вечером усталый, а мама тем временем идет на маленький рынок на углу, стараясь подгадать к тому моменту, когда торговля уже сворачивается и все становится дешевле, потом готовит, гладит и штопает одежду, убирает квартиру, потому что позволить себе прислугу они не могут, вечером они обедают втроем, потом читают каждый свою книжку, потом родители обсуждают, что интересного произошло за день, а Полина, прислушиваясь краем уха к их разговору, не понимает, как можно считать интересным то, что они обсуждают… И так каждый день, пять раз в неделю, и в выходные примерно то же, только вместо работы поездка в Булонский лес на пикник, но и в пикнике нет ничего интересного, потому что заранее известно во всех подробностях, как он пройдет, и ни разу не случалось, чтобы он прошел как-нибудь иначе. Или в гости к знакомым, жизнь которых так же однообразна, но им так же не скучно проживать эту жизнь, как и Полининым родителям.
– У нас есть причины не скучать, – сказала мама, когда Полина спросила ее однажды о том, чего сама не могла ни понять, ни объяснить. – Наша молодость пришлась на такое бурное время, что… Оно ушибло нас, Полинька. Выбило из нас все силы. Такое напряжение не проходит бесследно – мы надорвались. Мы постарели сразу же, как только добрались до Франции. Мне сорок лет, а я чувствую себя… Нет, не старухой, конечно, нет-нет, но все-таки пожилой дамой, у которой все главное в жизни уже прошло, и слава богу. Я больше не хочу ничего яркого, необыкновенного, пусть даже и в положительном смысле. У меня нет на это сил.
Выслушав это объяснение, Полина пожала плечами. Не наяву – ей вовсе не хотелось обидеть маму, – а мысленно. Как можно радоваться, что лучшее в твоей жизни уже прошло, она не понимала. Вот хоть убей, не понимала! То есть, конечно, когда жгут твой дом и убивают соседей, и ты лишь чудом успеваешь бежать из деревни в Москву, и там всех, кто тебе близок не по крови уже, потому что близких по крови просто не осталось, но хотя бы по воспитанию, – убивают тоже… Конечно, после этого будешь чувствовать себя напуганным и опустошенным. Наверное, будешь; так Полина старалась думать. Но на самом-то деле, внутри себя, она в это не верила.
Опустошение – навсегда? И никаких желаний – тоже навсегда? И считать, что вот эта серенькая, как парижский дождик, жизнь – единственное счастье на все оставшееся тебе на земле время?.. Да ни за что!
Ее жизнь будет другою, это она решила твердо, еще когда училась в лицее. То есть это правильнее было назвать не решением, а просто знанием. Она – другая, ей не подходит однообразный цвет жизни, ей нужны яркие краски. Может быть, если бы она пережила то, что пережили родители, то была бы такая же, как они, но она – спасибо им – родилась уже здесь, в Париже, и натура ее проявляется так, как ей свойственно, а не так, как диктуют обстоятельства.
Но мало понимать, что ты хочешь яркой жизни, куда труднее понять, каким образом ее для себя добиться. Размышления об этом приводили в растерянность даже никогда и ни от чего не терявшуюся Полину. Ну вот что ей делать? Сбежать из дому в Марсель и, переодевшись в мужское, проситься юнгой на корабль, отплывающий куда-нибудь в Перу? Понятно же, что это глупость несусветная. Никто ее юнгой не возьмет, а если возьмет, то недолго ей удастся притворяться мужчиной, а если и удалось бы долго, то в жизни юнги нет ровным счетом ничего из того, о чем она мечтает. Просто драишь палубу и лазаешь по каким-то вантам, или реям, или брамселям, или как их там называют, а кругом, сколько глаз хватает, одна лишь вода, которая только в первые три дня кажется отличной от воды на парижской мостовой после дождя…
Точно так же не привлекала Полину жизнь охотников за экзотическими животными, и ошеломляющие полеты авиаторов не привлекали тоже…
«Может быть, я просто боюсь труда? – спрашивала она себя. И себе же по справедливости отвечала: – Нет. Я упорна и делать над собой усилие умею. Я боялась холодной воды, меня это злило, я решила избавиться от этого глупого страха – и избавилась, и плаваю теперь осенью, в ноябре, и у меня даже насморка не бывает. Но зависимость труда от чужих и глупых людей, вот чего я боюсь безусловно, вот чего для себя не хочу ни за что!»
Неизвестно, каким выбором закончились бы все эти размышления – до окончания лицея, который родители оплачивали полным напряжением всех семейных сил и средств, оставалось все меньше времени, – если бы не знакомство, ожидать которого было не то что совсем невозможно, но все же очень затруднительно.
– Лиза, Полинька, вы не представляете себе, кого я сегодня встретил!
Папу было не узнать. Во всяком случае, Полина его таким никогда не видела: глаза беспечно сверкают, на губах пляшет улыбка, кончики усов лихо закручены, и от всего этого кажется, что он помолодел лет на двадцать.
– Кого, Андрюша?
В мамином голосе слышался почти что испуг; Полина почувствовала его так же явственно, как папину радость. От любых потрясений, даже прекрасных, мама не ожидала хорошего.
– Сережу! – радостно сообщил папа. – Сережу Рахманинова. Он выходил, вообрази себе, из нотного магазина на рю Риволи, остановился купить фиалок, а я как раз расплачивался с цветочницей. Ты не представляешь, как он обрадовался!
– Представляю. – Мама улыбнулась. Даже улыбка не сообщала ее лицу видимости счастья. – Я бы тоже обрадовалась соседу и приятелю юности.
О том, что композитор Рахманинов был папиным соседом по тамбовскому имению, знала даже Полина, не считавшая сведения такого рода существенными. Еще в раннем детстве она поняла из родительских разговоров, что все сколько-нибудь незаурядные люди в России были приятелями детства или соседями – по дому в Петербурге, по переулку в Москве, по подмосковной даче или по имению в какой-нибудь дальней губернии. Так уж была устроена эта огромная страна, что все значительное в ней умному человеку невозможно было миновать, просто живя своей естественной жизнью. Отметив для себя однажды эту особенность, Полина не придавала ей значения. Та жизнь в России все равно кончена, и какая разница, как она была устроена?
А знакомых и соседей по той прежней жизни папа и мама встречали в Париже постоянно. Вот, еще одного встретили. Конечно, Рахманинов великий композитор, это всем известно, но ведь и Иван Сергеевич Шмелев тоже великий, он писатель, и папа даже нарочно давал Полине читать его рассказы, чтобы она усвоила настоящий русский язык, – а с ним родители встречаются не так уж редко… Одним словом, о встрече папы с Рахманиновым Полина забыла ровно через пять минут после того, как услышала.
И напрасно! Через три дня Рахманинов пригласил папу с женой и дочерью на свой концерт, а после концерта на ужин, а там, в ресторане… Там Полина увидела женщину, которая поразила ее так, как ни один человек, да и ничто вообще не поражало в жизни.
Она вошла, когда гости уже собирались сесть за стол, и все сразу же забыли об ужине, и все взгляды сразу обратились на нее. В ресторанном зале собралось много красивых, с тонким вкусом одетых дам, поэтому в таком мгновенном и всеобщем внимании к одной было что-то необъяснимое. Но не пугающее это было внимание – в вошедшей высокой, очень стройной женщине не было ничего зловещего или мрачного, – а магическое.
В этой женщине был вызов. В каждом ее движении, и во взгляде, и в повороте головы, и даже в том, что ее тонкий, с горбинкой нос был длиннее, чем допустимо, чтобы лицо могло считаться красивым, но при этом ее лицо было не просто красивым, а невыразимо прекрасным… Значительным оно было!
Вся она – и внешность ее, и проявленная через внешность суть – была значительна, вот что Полина поняла, ошеломленно на нее глядя.
На ней было платье из темно-золотой, с багровыми разводами ткани. Из-за своего цвета ткань казалась тяжелой, но в действительности была такой тонкой, что от каждого движения и даже вздоха колебалась, как занавес, и так же, как театральный занавес, скрывала за собою что-то небывалое, не принадлежащее никому, но всем обещающее загадку и счастье.
И в такой расцветке платья тоже был вызов, кстати, и на ком угодно другом оно показалось бы безвкусным, но на этой женщине – наоборот: в ее платье был стиль, и понятно было, что он создан ею и только ей присущ.
– Кто это? – спросила Полина у мамы, пока гостья здоровалась с Рахманиновым.
– Ида Рубинштейн, – ответила мама. – Балерина. Эпатажная, правда? Впрочем, с ее богатством можно себе позволить все что угодно, в том числе и эпатаж.
Полина так не считала. В лицее, где она училась, было немало девочек из очень богатых семей, и мельком, не слишком приглядываясь, но все же наблюдая за их родителями, она давно уже поняла, что само по себе богатство не делает человека значительным. Отец ее подружки Элен владел судоверфями где-то в Польше и был богат как Крез, но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, как он скучен и зауряден.
Нет, богатство Иды Рубинштейн, конечно, имело значение, без него не закажешь у кутюрье такое платье из золото-багряного шелка, но оно являлось лишь обрамлением чего-то другого, присущего ей от природы и полностью ею воплощенного.
Весь вечер Полина не сводила с Иды глаз. Та сидела на другом конце стола, поэтому не было слышно, что она говорит, и только однажды, отвечая на вопрос какого-то пухлого господина, сидящего близко от Полины, Ида произнесла громко:
– Не вижу для себя выбора между путешествиями и искусством. Первое велико, но второе безгранично. А полная смена впечатлений необходима мне постоянно, иначе я чувствую себя больной.
– Гордыня, и вокруг себя гордыню сеет, – проворчал потом этот господин.