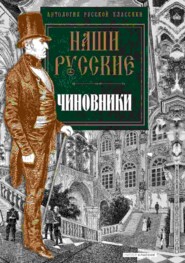По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Современная греческая проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Очень плохи дела стали в последнее время.
Но мы в порядке.
Мы здесь куда спокойнее спим по ночам.
У нас есть Мао.
* * *
К вечеру небо темнеет и начинает идти дождь – беззвучно, заливая мир водой до самых костей. Мы только что увидели по телевизору, что произошло вчера вечером в Кондили. Ворвались двое уголовников в небольшую лавку и зарезали девушку на седьмом месяцев беременности. В двух шагах отсюда Кондили, а мы узнаем новости по телевизору. И снова у нас все вверх дном пошло. Адмирал во всем винит полицию. Вайос Дзисимби, у которого брат в фараонах, все валит на политиков. Левые вроде как грызутся, чтобы распустить полицию, потому что ненавидят ее, а правые на все соглашаются, потому что боятся левых. А Михалис говорит, что если бы у нас осталась хоть капля достоинства – если бы мы были настоящими мужчинами, а не жалкими людишками, то сделали бы то, что делает Мао, вместо того чтобы сидеть и плакаться у экрана телевизора.
– Так поступают мужчины, – говорит Михалис. – Берут все в свои руки. Мы же – дерьмо собачье.
Он встает и выключает телевизор, зажигает свечи, приносит бутылку ципуро и сухой горох с изюмом. Мы сидим в темноте и смотрим в окно. Какими бы ни были страх и гнев, но невозможно не отдаться ненадолго прелести дождя. Слышишь кап-кап-кап, с которыми разбиваются капли об окно, и тебе кажется, что бьются они о твое сердце. И на какое-то краткое мгновение забываешь обо всем. Забываешь о том, что случилось в Кондили, и о том, что дождя не было с октября, да и кто знает, когда пойдет снова. Ты слушаешь дождь и забываешь. И когда приоткроешь чуть-чуть окно и высунешь голову наружу и сделаешь вдох поглубже, почувствуешь запах влажной земли и аромат померанцевого дерева, и воздух, у которого сегодня снова появился этот странный горьковатый привкус. И если посмотришь вверх, то увидишь дождь, льющийся золотистым потоком в свете уличного фонаря, и если поднимешь взгляд еще выше, то увидишь облака, окрасившиеся в темно-желтый, словно они проходят над тем местом, что охватил огонь и что сгорает дотла.
Когда часы отбивают одиннадцать, Мао выходит из дома и садится на лестнице и кладет рядом с собой сигареты и ставит бутылку. Это – цикудья, говорит Михалис, который не раз видел, как Мао выходит из магазина Критикоса в Цалдари. Затем Мао перекладывает на руки кошку, свисающую у него с плеча, и начинает ее гладить. И то поглядывает на дорогу, что блестит в разводах от дождя, то запрокидывает голову и всматривается вверх, в дождь, льющий с неба желтоватым потоком, в дождь, капли которого похожи на волоски из бороды старика, обильно сдобренной никотином. И Вайос, один из самых старых среди наших жителей, снова вспоминает сегодня деда Мао, кэптина Ставроса, тот тоже был сам не свой до кошек. Как-то ему принесли кошку, белую и пушистую, звали ее Набила, но этот старик, ему уже лет восемьдесят тогда было, того не понимал и звал ее Мандилья. Он по ней с ума сходил совершенно, даже и на секунду не позволял отойти. Незадолго до того, как он умер, кошка исчезла. И он выскочил на улицу в пижаме и с палкой и давай кричать «Мандилья, Мандилья!». Его слышит соседка и говорит, видно, старик совсем с ума сошел или с ним инсульт случился, хватает, не знаю там, полотенце и бросилась на улицу и говорит ему, смотри, барба-Ставро, я принесла тебе мантилью. А теперь давай пойдем домой, а то, не ровен час, появится машина и собьёт тебя. Старик взорвался, решил, что она над ним издевается, заносит свою палку и чуть было не прикончил бедную женщину прямо там: надо было видеть, как он ее избил. Насилу его успокоили, хоть он и одной ногой уже в могиле был, а кровь горячая. Чертов старик. Свирепым был до последних своих минут. Старики говорили, что он немало людей на тот свет отправил во время гражданской войны.
– Парнишка кончит точь-в-точь как его дед, – цедит Вайос. – Вот попомните мои слова. Вайос зря слов на ветер не бросает. Все эти коммуняки такие. Ублюдки.
– Коммунист не коммунист, а он лучше нас, – заметил Михалис. – Вы знаете, что есть те, кто теперь спать лечь не может, если Мао не вышел на лестницу? Есть те, кто каждую ночь сидит, не смыкая глаз, и ждет, глядя в окно, пока Мао выйдет из дома. Я собственными ушами слышал, как люди говорят, что они стали спокойнее спать по ночам с тех пор, как Мао начал полуночничать. Не один и не два человека такое говорили. Многие.
Адмирал встает и идет к окну. Он – отставной моряк, поэтому мы его зовем адмиралом. И жена его также зовет. Иногда, когда собираемся у Сатанаса, она звонит и не Димитриса или даже Павлакоса просит подозвать. Адмирала. «Адмирал там?» – спрашивает.
Он протирает стекло рукой и смотрит на улицу. Сильно похудел в последнее время, одежда так и сваливается. И сейчас в полутьме лицо его кажется пожелтевшим, как листья шелковицы зимой. На днях он сказал Вайосу, что с тех пор, как вышел на пенсию, стал другим человеком. Зачах. Это неправильно, что мужчин так рано снимают с вооружения, проговорил он. А Вайос на него набросился. «Ах ты, снаряд недоделанный, мы тут чахнем от этой чертовой работы, а ты от безделья страдаешь, э? Да пропади ты пропадом, пустобрех! Неблагодарный». Они тогда страшно поругались.
– Да подумайте немного, – заметил Михалис. – Нас тут семей сто на всю округу примерно, так? Одни друг с другом не разговаривают, а другие и в лицо соседей не знают. Даже здесь в этом многоквартирном доме есть люди, которых я вижу только на Рождество и Пасху, как говорится. И, однако же, каждый по вечерам охвачен одним и тем же страстным желанием – увидеть, как Мао выходит на лестницу. Да что далеко ходить. Позавчера днем мать моя запалила ладан в кадильнице, и вдруг, вижу, выходит она на балкон и кадит улицу. Я ей, ты там чему ладан воскуряешь, дорогая мама. Кошкам? Нет, отвечает, это для Мао. Чтобы господь сберег молодца, который нас по ночам охраняет. Слыхал такое? И подумать только, что с матерью Мао она уже много лет как порвала всякие отношения. Есть какое-то утешение в том, чтобы знать, что кто-то бодрствует, пока ты спишь. Великое утешение. Великое дело – спать спокойно по ночам. И сказать вам и еще кое-что? Если бы такой Мао был в каждом районе в этом городе и вообще повсюду, этот мир был бы куда лучшим местом. Нечего надо мной смеяться. Если бы в каждом районе нашелся такой Мао, что стоял бы по ночам в дозоре, мир стал бы куда как лучше. Поспорим? Нет здесь ничего смешного. Это и называется демократия. Не ждать бедным, когда придут богатые и помогут им, но брать дело в свои руки. Потому что отсюда-то все беды и начинаются. Что мы сидим и думаем, что это вообще возможно, что богатые помогут бедным. Да не будет такого. Мы и они – две разных вселенных. Одно дело – они, другое – мы. Мы должны взять все в свои руки. Это и делает Мао. Потому что, кто, вы думаете, главный враг человека? Смерть? Деньги? Нет, конечно. Страх. Он – самый злейший враг. Страх. Страх.
– Что-то происходит, говорит адмирал. – Снова этот «Мирафиори». Что-то происходит.
Мы прилипли к окну и смотрим. Желтый «Мирафиори» с выключенными фарами и ревущей выхлопной трубой движется по улице. Кошка, развалившаяся на руках у Мао, поднимает голову. Едва доехав до Мао, автомобиль сбрасывает скорость. Мао встает, и водитель дает по газам и уносится прочь. Мао выходит на середину улицы и смотрит вслед автомобилю, которая доезжает до улицы Кипра и поворачивает налево. Он снова садится. Ждет. Смотрит вправо, смотрит влево. Наклоняется вперед и, кажется, что-то шепчет кошке на ухо, а та слушает, изогнув хвост как вопросительный знак. Затем Мао отпивает из бутылки и прикуривает сигарету, и, когда выдыхает, дым выходит желтый и плотный, словно бы он вдохнул всю сигарету за одну затяжку.
– Второй раз за сегодня, – произносит Михалис. – Они и днем проезжали.
– Сколько их было в машине? Я заметил двоих.
– Трое. Еще один сзади сидел.
– Мы еще наплачемся здесь из-за него, – Вайос отходит от окна. – Вы уж мне поверьте. Вайос зря не скажет.
* * *
Дождь прекратился, но капли еще стекают по стеклу, а из приоткрытого окна доносится шум воды, несущейся по тротуару как маленькая речка. Адмирал в поисках песен переключает радиостанции и находит какую-то старую рембетику, однако вскоре раздается джингл радиостанции 902, и Вайос, шипя что-то про пидарасов, встает и переключает на другую радиостанцию.
– Что происходит?
– Ничего.
– Что он делает?
– Ничего. Играет с кошкой.
– Как он ее называет, мы вроде обсуждали? Июль?
– Август.
– А, точно. Истинно сказал вам Вайос, а вы не послушали. Как его долбанутый дед, так и он добром не кончит. Если, конечно, доживет до его лет. В чем я лично сомневаюсь. Как по мне, так он явно с какой-то наркотой связался. И всю эту историю с его сестрой и этими из Коридаллоса я бы не стал принимать всерьез. И пусть Михалакис говорит, что хочет. Ты хоть раз встречал коммуниста, которого можно было бы хоть как-то понять?
– Я помню семьдесят восьмой, – отозвался Михалис. – Тогда, когда в первый раз выбрали мэром Логофета. Помните, что произошло тем вечером? Все эти кукуэды[12 - Кукуэды – члены Коммунистической партии Греции (от ККЕ – Коммунистическая партия Греции).] собрались позади церкви святой Ксении и галдели так, что можно было подумать, война началась. Я тогда в школу ходил, но помню, как сейчас. Помню, матери выскакивали на улицу, хватали нас и запирались по домам вместе с соседями, дрожа от страха. Конечно, теперь нас коммунисты точно со свету сживут, говорили все. Ворвутся и перережут нас. Какие слезы лились в тот вечер, словами не передать. Уж мы увидели тогда небо с овчинку. Плакали женщины, плакали дети, а старухи упали на колени и принялись молиться. Полная паника наступила, приятель. Помню, как отец мой, упокой господи его душу, и еще двое-трое других мужчин вооружились кухонными ножами и всю ночь стояли на страже у двери. Паника. И мы говорим о семьдесят восьмом, так? Не о пятидесятых и не о шестидесятых. В семьдесят восьмом все это было.
– Так и есть, – бросает Вайос. – Красные совсем распустились тогда. Думали, что устроят нам тут еще один Сталинград в Коккинье. А теперь эта чума – в парламенте, и мы им еще и зарплату платим, мало нам всего остального. Чтоб им провалиться. Да имел я эту вашу демократию, поганые клоуны. Меня уже тошнит от этих пидоров. От одного их вида наизнанку выворачивает. Особенно от тех, что продались и пошли в систему. Тех, кто носит галстуки и ездит на шикарных авто, а по вечерам сидит перед телевизором – в одной руке пульт, в другой – член, – и мечтает о революциях. Вот от таких двустволок меня корежит. Левые, говорят тебе, понял? Да у них только одно левое и есть. Их шары – по одному на каждого. Пидарасы.
Адмирал потянулся, взял бутылку и наполнил стаканы. Руки у него дрожат. Он выпивает, наполняет, снова выпивает.
– Это – ерунда, – с трудом выдавливает он. – В семьдесят первом в связи с политической ситуацией нас послали в Норфолк в Америку забрать «Навкратусу-II». Зверь, а не корабль, самый большой во флоте. Целый город. Мы пробыли там месяца два, но было там непросто. Каждый раз, когда мы выходили в увольнительную, начинался бардак. Ну, и доставалось же нам от черных, до сих пор это помню. Они швыряли в нас мусор, с верхних этажей многоэтажек. Тогда все бесновались из-за войны во Вьетнаме, понял, и они смотрели на нас в форме и впадали в бешенство. Словно это мы были виноваты в том зверстве, которое там творилось. А мы, бедолаги, знать не знали даже и то, где этот Вьетнам на карте находится. Помню, как-то вечером наткнулись мы в баре на морского пехотинца, американца, который вернулся оттуда, и руки у него были забинтованы. Мы разговорились, и он рассказал, что однажды его рота попала в засаду, и все за исключением него и еще одного-двух солдат были убиты. И с тех пор у него нервы не в порядке, и он постоянно грызет ногти – до мяса. От страха, понимаешь. Поэтому ему и наложили бинты.
А он, ребята, был здоровенным парнем, под два метра. Я до сих пор его помню. Мы его угощали пивом и виски, и под конец он не давал нам уйти. Умолял спрятать на корабле, чтобы он мог уплыть с нами в Грецию. Вот вам крест. Два метра роста мужик и ведет себя как дите малое. До сих пор его помню. В конце-то концов. Вот истории. Но я с малых лет сходил с ума по Америке. Постоянно твердил, что найду способ уехать туда и остаться навсегда. А мой покойный отец, который немало поездил по свету, говорил, что Америка не для таких людей, как мы. В Европе, повторял он, бедность считается несчастьем. В Америке бедность – это позор. Ты сможешь быть и бедным, и опозоренным? Так что сиди на своих яйцах смирно и нечего тут воздушные замки строить.
Вайос смотрит на Михалиса, потом – на адмирала.
– Парни, это вы вот о чем сейчас, – спрашивает. – Как это мы от кота барба-Ставроса перенеслись во Вьетнам? Что-то я вообще ничего не понял.
– Я к этому и подхожу, – ответил адмирал. – Теперь, когда прошло столько лет, и я думаю обо всем этом, то могу сказать только одно, что за хрень мне продавал покойник, мир праху его. Можно подумать, что, оставаясь здесь, я чего-то добился. Что, я здесь не беден и не опозорен? Тридцать пять лет службы, и чего я добился? Вчетвером живем в дыре в 60 квадратов. Я два года метался от одного депутата к другому, чтобы найти работу младшему, а теперь его, как он говорит, хотят уволить. Он себе хребет надорвал, таская на себе запчасти за восемьсот евро в месяц, а теперь его хотят вышвырнуть, потому что госпожа Тойота плохо себя чувствует. Вместо пятисот миллионов, ну, не знаю, сколько там они заработали в этом году, всего лишь четыреста девяносто. Большой убыток, понимаешь? А мне, значит, давай опять бегай и умоляй каждого мерзавца. Помните, я вам говорил, что работу в запчастях ему нашел этот Панайотакос. Мы были вместе во флоте, он служил помощником капитана на «Пантере». Дай ему корабль, он его на скалы бросит, бесполезный дурак, а теперь стал членом парламента. В конце-то концов. Когда тот нашел младшему работу, я зашел к нему в офис, возле Муниципального театра он сидел, поблагодарить. Так вот он в тот день так облился одеколоном, что, когда мы пожали друг другу руки, на моих запах остался. Э, парни, вы не поверите! Прошло столько лет с тех пор, а однако же бывают минуты, когда мне кажется, что я все еще чую этот запах у себя на руке. Вот вам крест. Понюхаю иногда руку, и мне тошнота к горлу подкатывает. Словно бы от самой моей души несет чем-то ужасным. Вот опять. Я опять чувствую этот запах.
Он подносит руку к носу, вдыхает и затем протягивает Михалису.
– Видишь, дружище. Видишь, как пахнет. Как это, черт его побери, может происходить, ты мне не скажешь?
– Перестань, – взорвался Вайос. – Хватит уже, адмирал, что ты плачешься. Одеколон и прочая хрень. Сколько ты получил выходного пособия, уходя в отставку? А пенсию какую получаешь? Окажи нам любезность уж. Все болтают, болтаешь и ты, болтаешь, выйдя на пенсию в пятьдесят, сидишь тут и почесываешь свои шары, а тебе и за это платят. Давай уже, смени тему, иначе мы опять сцепимся. Михалаки, мы эту бутылку уже до дыр распили. Принесешь другую или мне встать и уйти?
Михалис приносит ципуро, разливает по стаканам и снова садится. Вайос наклоняется, прикуривает сигарету от свечи и выдыхает дым в сторону. Снимает целлофановую упаковку с сигаретной пачки, сминает и бросает в пепельницу, поглядывая искоса на Павлакоса, – тот сидит, повернувшись в другую сторону, и смотрит в окно.
– Кстати, о деньгах, – говорит Михалис. – В прошлом году, когда умер мой отец, пришел сюда вечером Ираклис. Ираклис, который здесь на углу живет. Лакис.
– Это ты о бородатом? У которого еще киоск на рынке?
– О нем. Он пришел поздно, после того как вы уже ушли. Приходит с огромной бутылью виски, и мы садимся в спальне, потому что здесь были женщины, причитавшие вместе с моей матерью. Навалились на выпивку, и в какой-то момент этот тип в слезы и давай мне о моем отце рассказывать: да какой он человек хороший был, да как он его любил, да как он словно брата потерял и тому подобное. И бросается рыдать, мне в объятия кидаться, а я и не знаю, что с ним делать. В какой-то момент поворачивается и спрашивает, во сколько станут похороны. Во столько, отвечаю. И тогда его как понесет, смотри, дорогой Михалис, поскольку я твоего отца держал, скажем так, за брата, и знаю, что вы сейчас в стесненных обстоятельствах, то хочу сам оплатить похороны. Я тебе дам деньги. Чтобы у нас на душе полегче стало, как говорится. Я тебе дам деньги. Вижу, что парень пьян в дым, по щекам у него ручьем бегут слезы, взываю к нему, да ты что, Лаки, что это такое. То есть, конечно, я тебе очень благодарен, но так не делается. Ты заплатишь за похороны моего отца? Не пойдет. Короче говоря, тип уперся и ни в какую не сдается. И я думаю про себя, этот пидор точно меня разыгрывает, я же знаю, что он сучий еврейский потрох, жадный такой, что дальше ехать некуда. Так вот, пацаны, он встает и выходит, подожди-ка, я скоро, и через десять минут возвращается, достает из кармана и протягивает мне конверт, битком набитый сотенными. Он просто распух от сотенных, вот что я вам скажу. И зовет мою мать и давай ей втирать, так, мол, и так, и она, бедняжка, как начнет в помутнении рассудка кричать да плакать, а потом на колени падает и руки ему целует. Да, представляете, руки ему целовала. Потому что мы бегали искали деньги и брали в долг уже и у кузенов, и дядьев. В общем, чтоб вам тут долго все это не расписывать, пошел я на следующее утро к этому мерзавцу Киосеоглу и спускаю там деньги на гроб, цветы и все остальное. А в двенадцать, ну, или около того, мне звонит Ираклис и начинает плести бог его знает что. Дружище, говорит, у меня дела плохо пошли, а деньги, они госпожи моей были и лежали у нее для оплаты каких-то векселей да за школу детям и прочую чушь. И снова в слезы да все прощения просит и просит у меня. А я похолодел и так и замер с трубкой в руке. У меня ноги подкосились.
– И что ты сделал, – спрашивает адмирал. – Как поступил? Отдал ему деньги?
– Конечно, отдал. А что мне было делать. Помчался по родственникам – и к тем, и к другим, собрал и отдал. И подумать только, этот хрен облезлый, сам за ними не пришел. Дочку свою прислал. Трус.
– Да ты смеешься! – говорит Вайос. – Что это за страсть такая? И почему ты столько времени нам об этом ни слова?
– А что тут скажешь? Как будто, это изменит что-то. Сейчас, когда к слову пришлось, рассказал. И матери потом, спустя какое-то время, правду сказал. А в день похорон она подходит ко мне, бедняжечка, и спрашивает, где Ираклис и почему Ираклис не пришел и тысячу добрых слов про него напела, про подонка. Такого со мной еще не бывало. Когда он втиснул мне этот конверт, богом клянусь, у меня словно гора с плеч свалилась. Несмотря на все горе, я сказал, ладно, пидор, и нас хоть раз господь пожалел. А потом такой срам. Такой срам. Чтоб я за час до похорон бегал и выпрашивал по пятьсот евро у одного, да по пятьсот у другого. Мне было так стыдно, что головы не поднять. Хоть бы земля разверзлась и поглотила меня. Сколько бы мне ни осталось еще, этого не забыть. Боже, какой срам. Однако же берегись, за все в этой жизни воздается. Знаете, что сталось с его сыном?
– С чьим? – удивился Вайос.
– Как это с чьим? Да ты пьян уже, что ли, в стельку? Мы разве не об Ираклисе говорим столько времени? Так вы не знаете, что случилось с его сыном? Они отправили его на Родос, прекрасный студент и все такое, да только вернулся он законченным нариком. На днях, говорят, у него случился приступ, схватил мать за горло да чуть было и не задушил с концами. И теперь они заперли его в какой-то клинике под Булой в Глифаде и целое состояние за него платят. Вот так вот, приятель. За все тебе воздается. За все. С самого дня похорон в глубине души я молился, чтобы что-нибудь произошло. Чтобы этот мерзавец заплатил за то, что он со мной сделал. И когда узнал о том, что случилось с его сыном, то сначала просто возликовал. Однако вот что странно. Какой силой обладает ненависть. Иной раз мне кажется, что ненависть словно воздух, которым дышим все мы, живущие здесь, в городах. Постепенно, неспешно она убивает тебя, но без нее нет жизни.
Но мы в порядке.
Мы здесь куда спокойнее спим по ночам.
У нас есть Мао.
* * *
К вечеру небо темнеет и начинает идти дождь – беззвучно, заливая мир водой до самых костей. Мы только что увидели по телевизору, что произошло вчера вечером в Кондили. Ворвались двое уголовников в небольшую лавку и зарезали девушку на седьмом месяцев беременности. В двух шагах отсюда Кондили, а мы узнаем новости по телевизору. И снова у нас все вверх дном пошло. Адмирал во всем винит полицию. Вайос Дзисимби, у которого брат в фараонах, все валит на политиков. Левые вроде как грызутся, чтобы распустить полицию, потому что ненавидят ее, а правые на все соглашаются, потому что боятся левых. А Михалис говорит, что если бы у нас осталась хоть капля достоинства – если бы мы были настоящими мужчинами, а не жалкими людишками, то сделали бы то, что делает Мао, вместо того чтобы сидеть и плакаться у экрана телевизора.
– Так поступают мужчины, – говорит Михалис. – Берут все в свои руки. Мы же – дерьмо собачье.
Он встает и выключает телевизор, зажигает свечи, приносит бутылку ципуро и сухой горох с изюмом. Мы сидим в темноте и смотрим в окно. Какими бы ни были страх и гнев, но невозможно не отдаться ненадолго прелести дождя. Слышишь кап-кап-кап, с которыми разбиваются капли об окно, и тебе кажется, что бьются они о твое сердце. И на какое-то краткое мгновение забываешь обо всем. Забываешь о том, что случилось в Кондили, и о том, что дождя не было с октября, да и кто знает, когда пойдет снова. Ты слушаешь дождь и забываешь. И когда приоткроешь чуть-чуть окно и высунешь голову наружу и сделаешь вдох поглубже, почувствуешь запах влажной земли и аромат померанцевого дерева, и воздух, у которого сегодня снова появился этот странный горьковатый привкус. И если посмотришь вверх, то увидишь дождь, льющийся золотистым потоком в свете уличного фонаря, и если поднимешь взгляд еще выше, то увидишь облака, окрасившиеся в темно-желтый, словно они проходят над тем местом, что охватил огонь и что сгорает дотла.
Когда часы отбивают одиннадцать, Мао выходит из дома и садится на лестнице и кладет рядом с собой сигареты и ставит бутылку. Это – цикудья, говорит Михалис, который не раз видел, как Мао выходит из магазина Критикоса в Цалдари. Затем Мао перекладывает на руки кошку, свисающую у него с плеча, и начинает ее гладить. И то поглядывает на дорогу, что блестит в разводах от дождя, то запрокидывает голову и всматривается вверх, в дождь, льющий с неба желтоватым потоком, в дождь, капли которого похожи на волоски из бороды старика, обильно сдобренной никотином. И Вайос, один из самых старых среди наших жителей, снова вспоминает сегодня деда Мао, кэптина Ставроса, тот тоже был сам не свой до кошек. Как-то ему принесли кошку, белую и пушистую, звали ее Набила, но этот старик, ему уже лет восемьдесят тогда было, того не понимал и звал ее Мандилья. Он по ней с ума сходил совершенно, даже и на секунду не позволял отойти. Незадолго до того, как он умер, кошка исчезла. И он выскочил на улицу в пижаме и с палкой и давай кричать «Мандилья, Мандилья!». Его слышит соседка и говорит, видно, старик совсем с ума сошел или с ним инсульт случился, хватает, не знаю там, полотенце и бросилась на улицу и говорит ему, смотри, барба-Ставро, я принесла тебе мантилью. А теперь давай пойдем домой, а то, не ровен час, появится машина и собьёт тебя. Старик взорвался, решил, что она над ним издевается, заносит свою палку и чуть было не прикончил бедную женщину прямо там: надо было видеть, как он ее избил. Насилу его успокоили, хоть он и одной ногой уже в могиле был, а кровь горячая. Чертов старик. Свирепым был до последних своих минут. Старики говорили, что он немало людей на тот свет отправил во время гражданской войны.
– Парнишка кончит точь-в-точь как его дед, – цедит Вайос. – Вот попомните мои слова. Вайос зря слов на ветер не бросает. Все эти коммуняки такие. Ублюдки.
– Коммунист не коммунист, а он лучше нас, – заметил Михалис. – Вы знаете, что есть те, кто теперь спать лечь не может, если Мао не вышел на лестницу? Есть те, кто каждую ночь сидит, не смыкая глаз, и ждет, глядя в окно, пока Мао выйдет из дома. Я собственными ушами слышал, как люди говорят, что они стали спокойнее спать по ночам с тех пор, как Мао начал полуночничать. Не один и не два человека такое говорили. Многие.
Адмирал встает и идет к окну. Он – отставной моряк, поэтому мы его зовем адмиралом. И жена его также зовет. Иногда, когда собираемся у Сатанаса, она звонит и не Димитриса или даже Павлакоса просит подозвать. Адмирала. «Адмирал там?» – спрашивает.
Он протирает стекло рукой и смотрит на улицу. Сильно похудел в последнее время, одежда так и сваливается. И сейчас в полутьме лицо его кажется пожелтевшим, как листья шелковицы зимой. На днях он сказал Вайосу, что с тех пор, как вышел на пенсию, стал другим человеком. Зачах. Это неправильно, что мужчин так рано снимают с вооружения, проговорил он. А Вайос на него набросился. «Ах ты, снаряд недоделанный, мы тут чахнем от этой чертовой работы, а ты от безделья страдаешь, э? Да пропади ты пропадом, пустобрех! Неблагодарный». Они тогда страшно поругались.
– Да подумайте немного, – заметил Михалис. – Нас тут семей сто на всю округу примерно, так? Одни друг с другом не разговаривают, а другие и в лицо соседей не знают. Даже здесь в этом многоквартирном доме есть люди, которых я вижу только на Рождество и Пасху, как говорится. И, однако же, каждый по вечерам охвачен одним и тем же страстным желанием – увидеть, как Мао выходит на лестницу. Да что далеко ходить. Позавчера днем мать моя запалила ладан в кадильнице, и вдруг, вижу, выходит она на балкон и кадит улицу. Я ей, ты там чему ладан воскуряешь, дорогая мама. Кошкам? Нет, отвечает, это для Мао. Чтобы господь сберег молодца, который нас по ночам охраняет. Слыхал такое? И подумать только, что с матерью Мао она уже много лет как порвала всякие отношения. Есть какое-то утешение в том, чтобы знать, что кто-то бодрствует, пока ты спишь. Великое утешение. Великое дело – спать спокойно по ночам. И сказать вам и еще кое-что? Если бы такой Мао был в каждом районе в этом городе и вообще повсюду, этот мир был бы куда лучшим местом. Нечего надо мной смеяться. Если бы в каждом районе нашелся такой Мао, что стоял бы по ночам в дозоре, мир стал бы куда как лучше. Поспорим? Нет здесь ничего смешного. Это и называется демократия. Не ждать бедным, когда придут богатые и помогут им, но брать дело в свои руки. Потому что отсюда-то все беды и начинаются. Что мы сидим и думаем, что это вообще возможно, что богатые помогут бедным. Да не будет такого. Мы и они – две разных вселенных. Одно дело – они, другое – мы. Мы должны взять все в свои руки. Это и делает Мао. Потому что, кто, вы думаете, главный враг человека? Смерть? Деньги? Нет, конечно. Страх. Он – самый злейший враг. Страх. Страх.
– Что-то происходит, говорит адмирал. – Снова этот «Мирафиори». Что-то происходит.
Мы прилипли к окну и смотрим. Желтый «Мирафиори» с выключенными фарами и ревущей выхлопной трубой движется по улице. Кошка, развалившаяся на руках у Мао, поднимает голову. Едва доехав до Мао, автомобиль сбрасывает скорость. Мао встает, и водитель дает по газам и уносится прочь. Мао выходит на середину улицы и смотрит вслед автомобилю, которая доезжает до улицы Кипра и поворачивает налево. Он снова садится. Ждет. Смотрит вправо, смотрит влево. Наклоняется вперед и, кажется, что-то шепчет кошке на ухо, а та слушает, изогнув хвост как вопросительный знак. Затем Мао отпивает из бутылки и прикуривает сигарету, и, когда выдыхает, дым выходит желтый и плотный, словно бы он вдохнул всю сигарету за одну затяжку.
– Второй раз за сегодня, – произносит Михалис. – Они и днем проезжали.
– Сколько их было в машине? Я заметил двоих.
– Трое. Еще один сзади сидел.
– Мы еще наплачемся здесь из-за него, – Вайос отходит от окна. – Вы уж мне поверьте. Вайос зря не скажет.
* * *
Дождь прекратился, но капли еще стекают по стеклу, а из приоткрытого окна доносится шум воды, несущейся по тротуару как маленькая речка. Адмирал в поисках песен переключает радиостанции и находит какую-то старую рембетику, однако вскоре раздается джингл радиостанции 902, и Вайос, шипя что-то про пидарасов, встает и переключает на другую радиостанцию.
– Что происходит?
– Ничего.
– Что он делает?
– Ничего. Играет с кошкой.
– Как он ее называет, мы вроде обсуждали? Июль?
– Август.
– А, точно. Истинно сказал вам Вайос, а вы не послушали. Как его долбанутый дед, так и он добром не кончит. Если, конечно, доживет до его лет. В чем я лично сомневаюсь. Как по мне, так он явно с какой-то наркотой связался. И всю эту историю с его сестрой и этими из Коридаллоса я бы не стал принимать всерьез. И пусть Михалакис говорит, что хочет. Ты хоть раз встречал коммуниста, которого можно было бы хоть как-то понять?
– Я помню семьдесят восьмой, – отозвался Михалис. – Тогда, когда в первый раз выбрали мэром Логофета. Помните, что произошло тем вечером? Все эти кукуэды[12 - Кукуэды – члены Коммунистической партии Греции (от ККЕ – Коммунистическая партия Греции).] собрались позади церкви святой Ксении и галдели так, что можно было подумать, война началась. Я тогда в школу ходил, но помню, как сейчас. Помню, матери выскакивали на улицу, хватали нас и запирались по домам вместе с соседями, дрожа от страха. Конечно, теперь нас коммунисты точно со свету сживут, говорили все. Ворвутся и перережут нас. Какие слезы лились в тот вечер, словами не передать. Уж мы увидели тогда небо с овчинку. Плакали женщины, плакали дети, а старухи упали на колени и принялись молиться. Полная паника наступила, приятель. Помню, как отец мой, упокой господи его душу, и еще двое-трое других мужчин вооружились кухонными ножами и всю ночь стояли на страже у двери. Паника. И мы говорим о семьдесят восьмом, так? Не о пятидесятых и не о шестидесятых. В семьдесят восьмом все это было.
– Так и есть, – бросает Вайос. – Красные совсем распустились тогда. Думали, что устроят нам тут еще один Сталинград в Коккинье. А теперь эта чума – в парламенте, и мы им еще и зарплату платим, мало нам всего остального. Чтоб им провалиться. Да имел я эту вашу демократию, поганые клоуны. Меня уже тошнит от этих пидоров. От одного их вида наизнанку выворачивает. Особенно от тех, что продались и пошли в систему. Тех, кто носит галстуки и ездит на шикарных авто, а по вечерам сидит перед телевизором – в одной руке пульт, в другой – член, – и мечтает о революциях. Вот от таких двустволок меня корежит. Левые, говорят тебе, понял? Да у них только одно левое и есть. Их шары – по одному на каждого. Пидарасы.
Адмирал потянулся, взял бутылку и наполнил стаканы. Руки у него дрожат. Он выпивает, наполняет, снова выпивает.
– Это – ерунда, – с трудом выдавливает он. – В семьдесят первом в связи с политической ситуацией нас послали в Норфолк в Америку забрать «Навкратусу-II». Зверь, а не корабль, самый большой во флоте. Целый город. Мы пробыли там месяца два, но было там непросто. Каждый раз, когда мы выходили в увольнительную, начинался бардак. Ну, и доставалось же нам от черных, до сих пор это помню. Они швыряли в нас мусор, с верхних этажей многоэтажек. Тогда все бесновались из-за войны во Вьетнаме, понял, и они смотрели на нас в форме и впадали в бешенство. Словно это мы были виноваты в том зверстве, которое там творилось. А мы, бедолаги, знать не знали даже и то, где этот Вьетнам на карте находится. Помню, как-то вечером наткнулись мы в баре на морского пехотинца, американца, который вернулся оттуда, и руки у него были забинтованы. Мы разговорились, и он рассказал, что однажды его рота попала в засаду, и все за исключением него и еще одного-двух солдат были убиты. И с тех пор у него нервы не в порядке, и он постоянно грызет ногти – до мяса. От страха, понимаешь. Поэтому ему и наложили бинты.
А он, ребята, был здоровенным парнем, под два метра. Я до сих пор его помню. Мы его угощали пивом и виски, и под конец он не давал нам уйти. Умолял спрятать на корабле, чтобы он мог уплыть с нами в Грецию. Вот вам крест. Два метра роста мужик и ведет себя как дите малое. До сих пор его помню. В конце-то концов. Вот истории. Но я с малых лет сходил с ума по Америке. Постоянно твердил, что найду способ уехать туда и остаться навсегда. А мой покойный отец, который немало поездил по свету, говорил, что Америка не для таких людей, как мы. В Европе, повторял он, бедность считается несчастьем. В Америке бедность – это позор. Ты сможешь быть и бедным, и опозоренным? Так что сиди на своих яйцах смирно и нечего тут воздушные замки строить.
Вайос смотрит на Михалиса, потом – на адмирала.
– Парни, это вы вот о чем сейчас, – спрашивает. – Как это мы от кота барба-Ставроса перенеслись во Вьетнам? Что-то я вообще ничего не понял.
– Я к этому и подхожу, – ответил адмирал. – Теперь, когда прошло столько лет, и я думаю обо всем этом, то могу сказать только одно, что за хрень мне продавал покойник, мир праху его. Можно подумать, что, оставаясь здесь, я чего-то добился. Что, я здесь не беден и не опозорен? Тридцать пять лет службы, и чего я добился? Вчетвером живем в дыре в 60 квадратов. Я два года метался от одного депутата к другому, чтобы найти работу младшему, а теперь его, как он говорит, хотят уволить. Он себе хребет надорвал, таская на себе запчасти за восемьсот евро в месяц, а теперь его хотят вышвырнуть, потому что госпожа Тойота плохо себя чувствует. Вместо пятисот миллионов, ну, не знаю, сколько там они заработали в этом году, всего лишь четыреста девяносто. Большой убыток, понимаешь? А мне, значит, давай опять бегай и умоляй каждого мерзавца. Помните, я вам говорил, что работу в запчастях ему нашел этот Панайотакос. Мы были вместе во флоте, он служил помощником капитана на «Пантере». Дай ему корабль, он его на скалы бросит, бесполезный дурак, а теперь стал членом парламента. В конце-то концов. Когда тот нашел младшему работу, я зашел к нему в офис, возле Муниципального театра он сидел, поблагодарить. Так вот он в тот день так облился одеколоном, что, когда мы пожали друг другу руки, на моих запах остался. Э, парни, вы не поверите! Прошло столько лет с тех пор, а однако же бывают минуты, когда мне кажется, что я все еще чую этот запах у себя на руке. Вот вам крест. Понюхаю иногда руку, и мне тошнота к горлу подкатывает. Словно бы от самой моей души несет чем-то ужасным. Вот опять. Я опять чувствую этот запах.
Он подносит руку к носу, вдыхает и затем протягивает Михалису.
– Видишь, дружище. Видишь, как пахнет. Как это, черт его побери, может происходить, ты мне не скажешь?
– Перестань, – взорвался Вайос. – Хватит уже, адмирал, что ты плачешься. Одеколон и прочая хрень. Сколько ты получил выходного пособия, уходя в отставку? А пенсию какую получаешь? Окажи нам любезность уж. Все болтают, болтаешь и ты, болтаешь, выйдя на пенсию в пятьдесят, сидишь тут и почесываешь свои шары, а тебе и за это платят. Давай уже, смени тему, иначе мы опять сцепимся. Михалаки, мы эту бутылку уже до дыр распили. Принесешь другую или мне встать и уйти?
Михалис приносит ципуро, разливает по стаканам и снова садится. Вайос наклоняется, прикуривает сигарету от свечи и выдыхает дым в сторону. Снимает целлофановую упаковку с сигаретной пачки, сминает и бросает в пепельницу, поглядывая искоса на Павлакоса, – тот сидит, повернувшись в другую сторону, и смотрит в окно.
– Кстати, о деньгах, – говорит Михалис. – В прошлом году, когда умер мой отец, пришел сюда вечером Ираклис. Ираклис, который здесь на углу живет. Лакис.
– Это ты о бородатом? У которого еще киоск на рынке?
– О нем. Он пришел поздно, после того как вы уже ушли. Приходит с огромной бутылью виски, и мы садимся в спальне, потому что здесь были женщины, причитавшие вместе с моей матерью. Навалились на выпивку, и в какой-то момент этот тип в слезы и давай мне о моем отце рассказывать: да какой он человек хороший был, да как он его любил, да как он словно брата потерял и тому подобное. И бросается рыдать, мне в объятия кидаться, а я и не знаю, что с ним делать. В какой-то момент поворачивается и спрашивает, во сколько станут похороны. Во столько, отвечаю. И тогда его как понесет, смотри, дорогой Михалис, поскольку я твоего отца держал, скажем так, за брата, и знаю, что вы сейчас в стесненных обстоятельствах, то хочу сам оплатить похороны. Я тебе дам деньги. Чтобы у нас на душе полегче стало, как говорится. Я тебе дам деньги. Вижу, что парень пьян в дым, по щекам у него ручьем бегут слезы, взываю к нему, да ты что, Лаки, что это такое. То есть, конечно, я тебе очень благодарен, но так не делается. Ты заплатишь за похороны моего отца? Не пойдет. Короче говоря, тип уперся и ни в какую не сдается. И я думаю про себя, этот пидор точно меня разыгрывает, я же знаю, что он сучий еврейский потрох, жадный такой, что дальше ехать некуда. Так вот, пацаны, он встает и выходит, подожди-ка, я скоро, и через десять минут возвращается, достает из кармана и протягивает мне конверт, битком набитый сотенными. Он просто распух от сотенных, вот что я вам скажу. И зовет мою мать и давай ей втирать, так, мол, и так, и она, бедняжка, как начнет в помутнении рассудка кричать да плакать, а потом на колени падает и руки ему целует. Да, представляете, руки ему целовала. Потому что мы бегали искали деньги и брали в долг уже и у кузенов, и дядьев. В общем, чтоб вам тут долго все это не расписывать, пошел я на следующее утро к этому мерзавцу Киосеоглу и спускаю там деньги на гроб, цветы и все остальное. А в двенадцать, ну, или около того, мне звонит Ираклис и начинает плести бог его знает что. Дружище, говорит, у меня дела плохо пошли, а деньги, они госпожи моей были и лежали у нее для оплаты каких-то векселей да за школу детям и прочую чушь. И снова в слезы да все прощения просит и просит у меня. А я похолодел и так и замер с трубкой в руке. У меня ноги подкосились.
– И что ты сделал, – спрашивает адмирал. – Как поступил? Отдал ему деньги?
– Конечно, отдал. А что мне было делать. Помчался по родственникам – и к тем, и к другим, собрал и отдал. И подумать только, этот хрен облезлый, сам за ними не пришел. Дочку свою прислал. Трус.
– Да ты смеешься! – говорит Вайос. – Что это за страсть такая? И почему ты столько времени нам об этом ни слова?
– А что тут скажешь? Как будто, это изменит что-то. Сейчас, когда к слову пришлось, рассказал. И матери потом, спустя какое-то время, правду сказал. А в день похорон она подходит ко мне, бедняжечка, и спрашивает, где Ираклис и почему Ираклис не пришел и тысячу добрых слов про него напела, про подонка. Такого со мной еще не бывало. Когда он втиснул мне этот конверт, богом клянусь, у меня словно гора с плеч свалилась. Несмотря на все горе, я сказал, ладно, пидор, и нас хоть раз господь пожалел. А потом такой срам. Такой срам. Чтоб я за час до похорон бегал и выпрашивал по пятьсот евро у одного, да по пятьсот у другого. Мне было так стыдно, что головы не поднять. Хоть бы земля разверзлась и поглотила меня. Сколько бы мне ни осталось еще, этого не забыть. Боже, какой срам. Однако же берегись, за все в этой жизни воздается. Знаете, что сталось с его сыном?
– С чьим? – удивился Вайос.
– Как это с чьим? Да ты пьян уже, что ли, в стельку? Мы разве не об Ираклисе говорим столько времени? Так вы не знаете, что случилось с его сыном? Они отправили его на Родос, прекрасный студент и все такое, да только вернулся он законченным нариком. На днях, говорят, у него случился приступ, схватил мать за горло да чуть было и не задушил с концами. И теперь они заперли его в какой-то клинике под Булой в Глифаде и целое состояние за него платят. Вот так вот, приятель. За все тебе воздается. За все. С самого дня похорон в глубине души я молился, чтобы что-нибудь произошло. Чтобы этот мерзавец заплатил за то, что он со мной сделал. И когда узнал о том, что случилось с его сыном, то сначала просто возликовал. Однако вот что странно. Какой силой обладает ненависть. Иной раз мне кажется, что ненависть словно воздух, которым дышим все мы, живущие здесь, в городах. Постепенно, неспешно она убивает тебя, но без нее нет жизни.