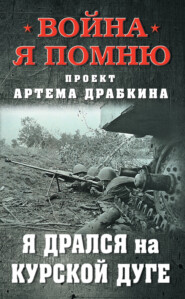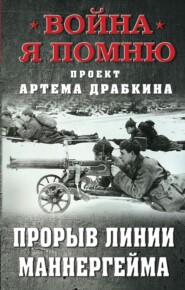По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мы дрались на бомбардировщиках. Три бестселлера одним томом
Жанр
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Утром проснулись от стрельбы. Не поймем, в чем дело? Оказалось, что война окончилась! Командир дивизии построил три наших полка, всех поздравил. А после этого наша эскадрилья пошла на боевой вылет на Чехословакию. Отбомбились. Подлетаем к аэродрому, и слышу, как командир дивизии передает открытым текстом: «Малюкин! Я – Добыш! Пройти парадным строем над аэродромом!» Я передал приказ командиру. Мы девяткой низко прошли на скорости над аэродромом, разошлись веером, как будто на параде. Сели… Да, война – это самый яркий эпизод в моей жизни. Раньше снилась, сейчас уже нет…
Темеров Владимир Викторович
Я родился 15 августа 1925 года в городе Одессе в семье рабочего. Мой отец, Виктор Владимирович Темеров, работал на кожевенном заводе, пройдя путь от рабочего до заместителя директора. Так что одни из первых детских воспоминаний у меня связаны именно с заводом – запах зольного цеха, где на огромных вращающихся барабанах вымачивались шкуры…
В 1933 году отца направили на станцию Днестр под Одессой секретарем партийной организации. Там я пошел в украинскую школу. Я помню день, когда зазвонил телефон. Отец поднял трубку, послушал и изменился в лице – убили товарища Кирова. Было больно и страшно. Мальчишка, я тяжело переживал эту трагедию. Через год вернулись обратно в Одессу. Отца направили на учебу в Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу имени Кагановича. В 1937 году, во время выборов в Верховный Совет, отца назначили председателем избирательной комиссии по Одесской области. Тут я впервые в жизни проехался на автомобиле М-1. Надо сказать, это были не простые годы. Отчетливо помню шпиономанию, плакат в центре города, изображавший наркома НКВД Ежова, в «ежовых рукавицах» которого корчились враги народа. Доходило до абсурда. В школе изъяли тетради, на которых была изображена Спасская башня. Оказалось, что если посмотреть в лупу, то там якобы вместо окон висельники нарисованы. Или вдруг находили, что на коробке со спичками буквы СССР были изображены таким образом, что в просвете букв усматривались лики святых. Аббревиатура расшифровывалась, как «Сорок святых спасут Россию». Нам внушали, что это все происки врагов народа и церковников.
Отец, слава богу, не подвергся репрессиям. Хотя мы этого опасались, поскольку мой дед, Владимир Иванович, был титестером, дегустатором чая, и умер в 1916 году в Шанхае. Ведь тогда в каждой анкете надо было указывать, имелись ли родственники за границей. А на станции Днестр все руководство арестовали. И думаю, если бы отца не отправили в школу, он бы так же мог пропасть не за понюх табаку.
Очень близко к сердцу все мы воспринимали испанские события. Помню, в городском саду висела большая карта Испании, на которой была обозначена линия фронта. Ежедневно мы ходили, смотрели, переживали. Потом встречали корабли с испанскими детьми. Воспитывали нас в духе патриотизма, исключительной любви к своей Родине. Я ходил в одесский Дворец пионеров, где занимался в стрелковом кружке, кружке судовождения. В школе мы сдавали нормативы ГТО, БГСО, «Ворошиловский стрелок». Я мечтал пойти или на флот, или в авиацию. В это время в городе создали артиллерийскую, военно-морскую и авиационную спецшколы. Некоторые мои друзья в них поступили. Помню, во дворе нашего дома появился Полтавченко в бескозырке, в морской форме… Как я ему завидовал! Я не стал поступать, поскольку в аттестате за 7-й класс у меня стояло «посредственно» за поведение. Я так подозреваю, что мне поставили эту оценку, поскольку учительницу по естествознанию обозвал каракатицей, а она это услышала.
В 1939 году отца призвали и направили в 95-ю стрелковую дивизию, стоявшую в Котовском. Вскорости началась финская война, и дивизия ушла на фронт. Декабрь месяц, идут самые ожесточенные бои на Карельском перешейке, а от отца нет писем. Мы очень переживали! Помню, когда отец прибыл с фронта в пропотевшей буденовке, я ее тут же напялил на голову и побежал на улицу хвастаться. Привез он и трофеи – несколько кусков мыла, аромат которого меня потряс, французскую пудру «Кати»… За бои на линии Маннергейма отца представили к ордену Красного Знамени. Он поднял залегшую под огнем роту и захватил дот. Но наградили его медалью «За боевые заслуги». Тем не менее получать ее он ездил в Москву, где товарищ Калинин лично вручил ему эту медаль.
В 1940 году 95-я стрелковая дивизия пошла освобождать Бессарабию. Надо сказать, что во всех наших школьных учебниках Бессарабия была заштрихована как территория, временно не принадлежащая СССР. И уже буквально в августе 1940 года он нам направил документы, и мы с мамой поехали в Кишинев. И вот мы попадаем в сказочную страну. Мы знали, что буржуазия гнетет по-всякому народ, что они несчастные, бедные и прочее… В Одессе были трудности в этот период – сахара не было, масла не было. А тут…
На первом этаже нашего дома был магазин колониальных товаров Лункевича. В нем было все – от керосина и до торта. На рубль давали 40 лей. Бутылка вина стоила 10 лей, то есть 25 копеек. Вот тогда я попробовал хорошего вина. Я, конечно, не пил, но, когда приходил в магазин, мне всегда рюмочку вина наливали. Была у нас бутылка ямайского рома с улыбающимся негром на этикетке, стоявшая, как украшение, на комоде. Она стоила 5 рублей – это считалось страшно дорого.
Я подружился с сыном Лункевича Володей, бывал у них дома. Жарко спорили о том, чья техника лучше – наша или немецкая. Он мне доказывал, что «мессера» – это настоящие самолеты, а я с пеной у рта доказывал, что наши И-16 лучше. Однажды Лункевич мне говорит: «Володя, скажи мне честно, неужели из-за этого магазина меня могут арестовать?» Я знал, что добром это не кончится, но не мог ему это сказать. «Как на духу говорю – ничего не будет». Уже перед войной, особенно в мае, НКВД десятками, сотнями арестовывало людей. Их вели по улицам под конвоем… Пришли и за Лункевичем. К тому времени мы переехали на улицу Подольского, 62. В нем впоследствии размещалась резиденция товарища Брежнева.
В мае – июне в Кишинев с инспекцией прибыл С.М. Буденный. По словам отца, на заключительном совещании по итогам проверки маршал, сделав серьезные критические замечания, очень четко и ясно дал понять, что нападение немцев не за горами, и потребовал всемерно укреплять боеспособность. Но сообщение ТАСС от 14 июня, буквально за неделю до начала войны, дезориентировало народ. Не знали, что и думать. Вечером в субботу 21 июня я был на концерте в Доме офицеров. Оттуда проводил нравившуюся мне девчонку и домой вернулся поздно, в хорошем настроении. Часа в 3 ночи примчался посыльный из штаба 95-й дивизии. Отец стал собираться. Я взял алюминиевую армейскую флягу и, наполнив ее тем самым ямайским ромом, положил ему в «тревожный» чемодан. Он убыл – мы поняли, что началась война.
Конечно, мы были уверены в мощи нашей армии. Все в эти первые дни ждали, когда наши войска ударят и выдвинутся на территорию противника. Но этого не произошло.
Утром 22 июня мы поехали с приятелем на велосипедах на вокзал, посмотреть воронки от бомб. В воздухе барражировали И-16. Это в нас вселяло уверенность.
Буквально на следующий день семьи военнослужащих стали эвакуировать. За нами приехала машина. Прибыли мы на вокзал с вещами. Люди запрудили пристанционную территорию. И вдруг тревога! Это психологически невыносимая вещь – тревога на железнодорожной станции! Это гудки всех паровозов, вой сирены, люди мечутся в панике – куда бежать?! В итоге все собрались под деревьями. Через несколько минут на перроне стало пустынно, только вещи лежат. Слава богу, никто не прилетел, и снова все собрались. Погрузились в теплушки. И вновь тревога. Но тут уже никто не вылезал – бог с ним, что будет, то и будет. Поезд тронулся, когда уже стало темнеть. От Кишинева до Одессы 200 километров, а мы ехали трое суток через Первомайск. По эшелону, как паразиты, ползали слухи и мифы. Кому-то приснился вещий сон, что война скоро кончится, какой-то старец все это предвидел и сказал, что будет то-то и то-то. Информационный голод рождает неимоверные небылицы… В Кишиневе мне впервые пошили костюм. Поезд останавливался. Он может поехать и через 5 минут, и через час. Перед отправлением паровоз давал длинный гудок, две-три минуты ждал и трогался. Я подошел к крану с водой, стал умываться, а пиджак повесил рядом на ветку. Вдруг загудел паровоз. Я первым делом схватил мыло и побежал. И когда уже был на ступеньке вагона, оглянулся, а мой пиджак сиротливо висит…
В конце концов мы приехали в Одессу. На вокзал поезд пришел вечером. Меня поразило затемнение, полумрак, горят синие лампы. Выгрузились на перрон. Мне надо было ехать к родственникам на 28-м трамвае. Я зашел в вагон трамвая и стою. В вагоне только и разговоров, что о шпионах и диверсантах, якобы заброшенных в Одессу. Особенно следовало опасаться людей в шляпах и темных очках.
О судьбе отца мы ничего не знали. Налеты, тревоги. Бомбы рядом не падали, но тревоги были часто. Мы, мальчишки, лазили на чердак смотреть из слухового окна на небо. А нам снизу домоуправ Иванова кричит: «Вон оттуда! Вас увидят!» Не дай бог на улице ночью кто-то зажжет спичку или папиросу, ему могли дать по башке: «Что ты делаешь?! Демаскируешь!»
4 июля нас погрузили в вагоны Одесской железной дороги, и мы поехали через всю Украину и Россию под Сталинград.
На железнодорожных станциях пришлось многому насмотреться. Все они были запружены воинскими эшелонами с людьми и составами с военной техникой и заводским оборудованием. Люди зачастую ютились между станками, на открытых платформах. При этом для защиты от ветра использовались щиты снегозадержания и сено, подобранные по дороге.
На одной из станций был свидетелем печального зрелища.
В теплушки эшелона шла погрузка мобилизованных солдат, а в воздухе стоял буквально вой сотен женщин, провожавших на войну своих мужей и сыновей. На вторые сутки наш эшелон к вечеру прибыл на станцию Котельничи, что южнее Сталинграда. Поразило море света, никакой светомаскировки. Местные жители с интересом расспрашивали нас о пережитом. Были оптимистами, заявляя: «У нас такая тьма тараканья, к нам три года скачи, – не доскачешь! Война не дойдет…»
Окончательно наш эшелон завершил свой путь на станции Арчеда и городе Фролове.
Приняли нас там исключительно организованно: сразу же разместили по домам, выписали всевозможные карточки. Я пошел учиться в 4-ю железнодорожную школу. От дома до школы путь лежал через железнодорожную станцию. Видел эшелоны с танками и тракторами, которые шли со Сталинграда в сторону Москвы. А оттуда шли другие эшелоны… Иногда с заключенными. Обычно они выбрасывали через решетки мешки на веревке. Приходили люди, клали в них хлеб, что-то покушать. Конвой не препятствовал. Но однажды, уже был мороз, охранники стояли в открытых тамбурах, в тулупах с винтовками, в буденовках, вдруг весь этот поезд стал стучать и кричать: «Хлеба! Хлеба!» Конвоиры забегали. Мне, мальчишке, стало так больно, что голодные люди закрыты в вагонах… А потом были эшелоны из Ленинграда. Мы разносили по вагонам манную кашу, молоко, хлеб, кормили до предела истощенных людей.
В октябре нас, учеников 9-го класса, посадили в поезд, и мы приехали под Калач в станицу Рюмино-Красноярскую рыть противотанковые эскарпы. Сначала нас разместили в казацкой хате. Проснувшись наутро, мы увидели, что эта кошма, на которой мы спали вповалку, кишит вшами. Ушли на берег Дона. В скирде сена вырыли норы и там спали. По нас бегали мышки-полевки, пищали. Мы только иногда отряхивались, а в общем, спали, не обращали внимания. Вернулись домой примерно через месяц.
В городе был военный госпиталь. Мы, школьники, часто посещали раненых бойцов. Помогали им, чем могли. Писали письма их родственникам и близким, рассказывали о городских новостях, о школьных делах. Жадно слушали фронтовые рассказы.
В ходе учебы в школе, наряду с общеобразовательными предметами, уделялось серьезное внимание начальной военной подготовке. Мы изучали винтовку-трехлинейку, овладевали вождением трактора.
В ноябре получили открытку от отца – он был тяжело ранен и лежал в госпитале в Сталинграде. Мы сразу же бросились на шоссе, остановили полуторку. В кузове на сене, накрывшись брезентом, уже лежали такие же, как мы, пассажиры. Мы тоже улеглись. В пути разразилась страшная пурга. Машина застряла. Всю ночь мы провели под брезентом, пытаясь согреться. Когда рассвело, сколько обозревал взгляд, стояли машины. Вскоре на шоссе появились трактора, тягачи, стали расчищать снег, вытаскивать машины. Уже днем мы оказались в госпитале у отца.
После излечения отца признали ограниченно годным – осколками снаряда ему покалечило правую руку, – и его направили в Ашхабад начальником курса Военно-юридической академии, эвакуированной из Москвы. А в мае 1942 года туда перебрались и мы. В сентябре по настоянию родителей поступил в железнодорожный техникум. Месяц я там слесарил, а потом сбежал в школу. Вечером 25 декабря, в конце учебного дня (мы занимались в вечернюю смену), пришли директор школы и майор из военкомата. Отобрали всех мальчиков и стали с нами беседовать. Майор этот вешал на уши лапшу, сказал, что в Ташкенте есть исключительно хорошее училище летчиков-истребителей. После девяти месяцев учебы присваивают звание лейтенанта – и на фронт. Мы, естественно, загорелись. Часов в одиннадцать вечера пошли в военкомат. Там на вырванных из тетради листках написали заявление с просьбой направить в это училище. Нам сразу выписали повестки явиться в военкомат на следующий день. Когда я пришел домой, родителям просто показал повестку – делать нечего. Только когда я уже учился в академии и отец взял мое личное дело в отделе кадров, он узнал, что я ушел добровольно на фронт.
Эшелон. Теплушки. Нас всего человек пятнадцать, в основном эвакуированные. Местные ребята остались в железнодорожном техникуме. Поехали. Холодно. На одной из остановок набрали кирпичей, положили их на пол и развели костер. Смотрим, из-под вагона летят искры – пол прогорел. Под лавкой обнаружили ящик с пакетиками желтой краски для окрашивания тканей. Сначала мы топили этой краской печку, а потом один из наших предложил менять эту краску на остановках на продукты. Как эти базарные тетки набросились на эту краску! Так что до Ташкента мы ехали сытыми. Приехали в Ташкент, пошли к коменданту, говорим: «Где тут училище летчиков-истребителей?» Никто не знает. «Езжайте в Чирчик, там что-то такое есть, авиационное». Мы когда туда приехали, оказывается, да, есть, но не школа летчиков-истребителей, а военно-авиационная школа стрелков-бомбардиров. Командовал училищем генерал-майор авиации Захаров. В первые дни войны его дивизия потеряла матчасть, его сняли и прислали в училище. Он, конечно, понимал, что все равно рано или поздно попадет на фронт и будет истребителем. Все время летал в зону на УТ-1, тренировался. Ну а тогда у нас глаза на лоб полезли: что это такое, с чем его едят – мы в первый раз услышали это название. Нас сразу определили в карантин, а старшим назначили сержанта. Как начал он нас стращать: «Я уже два года в училище. Выпускать вас будут сержантами, в обмотках. Ох вы и намучаетесь чистить пулемет ШКАС (тут он был совершенно прав)». Один из наших, Рыженко, страшно затосковал. Его потом отчислили за неуспеваемость. Вещи у нас забрали. Повели в баню мыться, для чего каждому выдали небольшой, размером с палец, кусочек хозяйственного мыла. Помылись. Выдали обмундирование – гимнастерки, галифе, обмотки, ватники зеленого цвета и огромные казацкие шапки из собачьего меха. В курсантской столовой, из-за нехватки посуды, первое блюдо – щи из виноградных листьев – я и мой друг Валя Елин хлебали, попеременно черпая ложками, из одного круглого армейского котелка. Через две недели опять пошли в баню. Стоим, ждем своей очереди. А в 10 метрах арык, а за арыком рыночек, и там продавали орехи, яблоки. Мой друг Валя Елин говорит: «Давай один кусочек мыла обменяем, а одним помоемся». – «Давай!» Пошел. Обменял. Несу четыре яблока. И вдруг слышу голос: «Товарищ курсант, ко мне!» Стоит командир нашего отряда старший лейтенант по кличке «Полкан». Я подхожу. «Что вы делаете?» – «Обменял кусочек мыла на яблоки». – «Ваша фамилия?» Записал скрупулезно. «Идите». На вечерней поверке: «Курсант Теменов, выйти из строя». Выхожу. «Вот, товарищи курсанты, первые цветочки. Государственное имущество, мыло, выданное ему для личной гигиены, он поменял на рынке… Трое суток ареста». На следующий день меня повели к старшине: «Снять ремень. Взять матрас». Приставили конвоира курсанта Сотникова. Три километра до гауптвахты шел с матрасом, и почти в затылок курсант Сотников упирался мне штыком. На мою малейшую попытку оглянуться он на полном серьезе кричал: «Не поворачивайся, буду стрелять!». Привел меня на гауптвахту. Что я скажу? Если и были светлые денечки в течение полуторагодового обучения, то это именно трое суток на гауптвахте. Никуда не надо было ходить, можно целый день лежать. Вечером здоровый курсант, который приехал с Украины, говорит: «Пойдешь со мной, будем пикировать». Пикирование – это поход на кухню с целью получения дополнительных порций. Он мне дал два ведра, и пошли в столовую. Пришли. Никого еще в зале не было. Он мне говорит: «Сиди здесь, а я пошел в раздаточную». Вдруг раскрывается дверь и входит несколько военнослужащих. Впереди идет капитан в погонах. Я как увидел, так и обмер! Сразу спрятался под столом: «Батюшки! Офицер! Золотопогонник!» Мы тогда только слышали о введении погон, но еще не видели новой формы. Все окончилось благополучно, и вместо одной порции у нас было три или четыре – наелись до отвала. За трое суток на «губе», проведенных со старшими курсантами, я многому научился и многое понял.
В целом об училище у меня очень хорошее воспоминание. Но, конечно, порядки были там драконовские. Курсантам запрещали носить в руках вещи. Нельзя было носить кольца, не говоря уже о крестах и цепочках. Более того, запрещалось носить усы. Во втором отряде учились курсанты из Тбилисской авиационной спецшколы. У них 80 % носило усы. Их командир, майор, поседел, пытаясь заставить их сбрить. За полтора года мне не дали ни одного увольнения. Распорядок дня был такой. Подъем, и сразу выходи на физзарядку. Летом одно дело, зимой – другое. Наше училище находилось в предгорьях. Зимой с гор такой ветер дул, что когда стоишь на посту, то штык песню поет. Поэтому зимой первый вопрос: «В рубашках или без рубашек?» Чаще старшина говорил: «Без рубашек». Выскакивали, занимались физзарядкой. После этого шли в зал учебно-летного отдела. Брали блокнотики, карандаши. И там нам преподавали азбуку Морзе. Норматив на прием был 100 цифр в минуту. После этого занятия шли на завтрак. Кормили нас по 5-й курсантской норме. Это означало, что в обед всегда на третье полагался компот. За столами размещалось по четырнадцать человек. Еда обычно подавалась в ведрах. Вначале все разливалось и раскладывалось по тарелкам. Затем один из курсантов отворачивался от стола, а другой, указывая на то или другое блюдо рукой, спрашивал: «Кому?» Отвернувшийся называл фамилию одного из курсантов. Так все распределялось по справедливости и без обид. Кроме, конечно, компота. Однажды, после разлива компота, на дне ведра вместо чернослива мы обнаружили большого черного таракана. Естественно, с возмущением потребовали замены. Но когда наше требование удовлетворили, мы с удовольствием выпили и тот и другой. После завтрака команда: «Встать. Пилотки надеть. На выход, шагом марш». Все выходим, строимся. Командовали нами два старших лейтенанта – «Полкан» и пожилой, лет 45: «Больные, выйти из строя!» Выходят. «Собрать кружки». У всех собирают кружки, и они с этими кружками уходят. А нам: «Направо, шагом марш!». Потом: «Бегом!» У нас было два аэродрома. Первый аэродром с Р-5 был в километрах трех. А СБ базировались на аэродроме в пяти километрах от училища. Один день мы бежим до первого аэродрома, второй – до второго. Обычно при следовании по городку полагалось исполнять строевые песни. Но иногда по необъяснимым причинам возникало молчаливое сопротивление строя командам командира. Запевалой у нас был курсант Габриэльян. Командир приказывает: «Запевай!». Он запевает, строй молчит. Останавливаемся. Потом: «Шагом марш! Габриэльян, запевай!» Опять не поем. Командир: «Правое плечо вперед. Марш и на плац». На плацу: «Ложись!» Ползем по-пластунски в один конец. Потом: «Встать. Становись! Шагом марш! Запевай!» Тут уже поем. И потом: «Бегом!» В этой ситуации мы уже не можем отказать себе в удовольствии отыграться. Как рванем вперед. Командир, в силу своего возраста, за нами не поспевает, выдыхается, командует: «Короче шаг!» Ну да! Нас уже не удержать! Пробегая мимо танкового училища, слышим в наш адрес: «Фанерщики!» Намек на наши самолеты Р-5. А мы им в ответ: «Керосинщики!». Но такие противостояния с командирами были редкими.
Занимались мы по 12 часов в сутки. 8 часов в аудитории и на материальной части. 4 часа самоподготовки в классах. Кормили нас три раза в день. В принципе все было нормально. Но мы особенно любили, когда попадали в караул на электростанцию в городе Чирчик. Там тепло, тишина, только работают двигатели. А на обратном пути можно было завернуть на привокзальный рынок, купить плова или рыбы из рыбожарки.
С весны начали летать. Сначала на Р-5 по маршруту, на связь, на стрельбу по конусу, бомбометание. Были и ночные полеты. Это для нас тоже было приятно, потому что на ночной полет давался доппаек – большая горбушка белого хлеба, кусок масла и сахар. И вот намажем маслом горбушку, посыплем сахаром – изумительное пирожное. Это незабываемо, потому что, по большому счету, радостей у нас было мало.
После выполнения программы полетов на Р-5 мы пересели на СБ. На Р-5 мы летали на сравнительно небольших высотах, до полутора тысяч метров, а на СБ – три тысячи метров. Штурманская кабина впереди. Она остеклена, но имеет две прорези для пулеметов. Поэтому ты принимаешь на себя поток ледяного воздуха. Сидишь в кабине на дюралевом сиденье, ноги скрещены. Я помню, зимой после полуторачасового полета прилетели, люк открывают, говорят: «Выходи, что ты там сидишь?» А я закоченел. У меня ноги не слушаются. Еле выполз оттуда. На СБ я налетал 13 часов 43 минуты. На Р-5–24 часа 53 минуты днем.
Была у нас и парашютная подготовка. Не забуду свой первый прыжок. Вылетели на самолете ЛИ-2. На груди запасной парашют, за спиной – основной. Слева, на подвесной системе, закреплено вытяжное кольцо. Сидим на длинной, вдоль борта самолета, дюралевой скамье, ожидая сигнала. Высота – 800 метров. Раздается один сигнал ревуна. Пятерка курсантов выстраивается в затылок друг другу у открытой двери самолета. Я стою первым и наблюдаю проплывающую внизу землю, при этом напряженно ожидаю следующего сигнала. Правая рука крепко сжимает кольцо.
Дважды раздается сигнал ревуна. Я подаюсь вперед, навстречу бездне, успеваю заметить пронесшееся сверху хвостовое оперение самолета и резко дергаю за кольцо. Через несколько секунд, кажущихся вечностью, резкий рывок подвесной системы – и тишина.
Невозможно словами выразить охватившее меня блаженство.
Рядом опускаются к гостеприимной земле под белыми куполами мои товарищи. Жизнь прекрасна! Приближается приземление. Манипулируя стропами таким образом, чтобы ветер дул в спину, а земля как бы уходила из-под ног, плавно приземляюсь. Очень доволен всем пережитым.
В училище нас обучали исключительно высоко квалифицированные специалисты. Тщательно готовили нас и к прыжкам с парашютом. Но избежать трагедии не удалось.
Бросали с У-2. Прыгал грузин, отличный парень, спортсмен, и интеллект у него выше плинтуса. Техника прыжка была такова. Курсант сидит во второй кабине У-2. Он должен вылезти из кабины, встать на плоскость, стропу, которая вытягивает парашют, зацепить крюком за борт и по команде прыгнуть. А он, видимо, так боялся прыгать, что забыл зацепить стропу, и прыгнул. На место трагедии приехал начальник училища генерал-майор авиации Герой Советского Союза Душкин, сменивший Захарова на посту начальника училища. Начал кричать на капитана, начальника ПДС: «До каких пор вы будете гробить у меня людей?!» Тот ни слова не сказал. Снял с погибшего курсанта парашют, надел на себя, сел в У-2, поднялся и прыгнул. Хотя он очень сильно рисковал. Парашют мог деформироваться при падении с 800 метров. Тем самым доказал, что тут не служба виновата. Очень геройски реабилитировал себя.
5 мая 1944 года нас построили, и генерал-майор Душкин объявил приказ главнокомандующего Военно-воздушных сил Новикова о присвоении нам званий младших лейтенантов. Распределение шло так: первые 33 человека по алфавиту попали в Безенчук в запасной полк на «Бостоны», в морскую торпедоносную авиацию. Из этой группы в живых осталось 2 человека. Я еще только прибыл на фронт, а Валя Елин, мой друг, уже был награжден двумя орденами Красного Знамени, а вскоре погиб.
Вторые 33 человека попали в Кировобад, в Высшую штурманскую школу. Я их после войны встретил. Я штурман звена с орденом Красного Знамени, но младший лейтенант, а они – лейтенанты, но никто не воевал. А третья тридцатка, в том числе и я, – в Казань, в 9-й запасной полк на Пе-2. Но тогда о нашей дальнейшей судьбе мы еще не знали. Вечером в казарму пришел старшина, принес мешок с полевыми погонами и каждому дал по две звездочки. После этого нам разрешили пойти в город. Все побежали в парк, гуляют, а на мне сразу повисла одна девчонка и стала со мной танцевать. Я, конечно, был несказанно рад этому, но почему-то она все выспрашивала, куда нас направляют. Я потом уже подумал, не шпионка ли она.
Из Ташкента поездом мы приехали в Куйбышев. Здесь я распрощался с другом Валей Елиным и остальными ребятами из первой группы, сами, пароходом по Волге, отправились в Казань.
Мы прибыли в Казань, в 9-й запасной авиационный полк, где проходили боевое применение и переучивание на Пе-2. Помню, ходил такой анекдот. Почему Ли-2 такой толстый, Ил-2 горбатый, а «пешка» такая худая? Потому что Ли-2 всю войну спекулировал, штурмовик всю войну на себе вынес, а «пешку», как проститутку, бросали и разведчики, и истребители, и пикирующие бомбардировщики.
Начали сколачивать экипажи. У моего первого летчика дело не пошло. Меня перевели к какому-то подполковнику. Когда мы летали по кругу, его все время ругали – хреновый летчик. Пе-2 машина очень сложная, тяжелая. А потом мне дали Валерия Юсупова. Командир эскадрильи сказал: «Володя, с этим летчиком ты будешь летать 100 лет!» И действительно, мы с ним и летали хорошо, и подружились.
Учеба в полку была весьма напряженной. Отрабатывал полеты по маршруту, бомбометание с горизонтального полета, в любое время можно было в тире пострелять из крупнокалиберного пулемета Березина, а на аэродроме у «Т», был установлен фотокинопулемет, и мы тренировались в стрельбе по самолетам, находящимся в воздухе.
Вместе с тем в полку царила вполне демократическая обстановка. В вечернее время можно было выйти в город. В основном ходили на танцплощадку в соседний парк. В летной столовой продавалось пиво по 14 рублей литр.
На гарнизонной гауптвахте процветала игра в «очко». Я лично не играл, а вот Валька Юсупов был азартнейшим игроком. Платили нам 550 рублей в месяц. И еще, нахалы, первое время высчитывали налог за бездетность, хотя положено только с 21 года! Правда, потом нам эти деньги вернули. Чтобы понять, что это за деньги, скажу, что, когда у меня был день рождения, мы поехали на железную дорогу и в вагоне-ресторане купили бутылку крымского «Кокура» и чекушку водки. Все! Денег не хватало. А каждому давалась книжечка талонов в летную столовую. Каждый листик – три талончика: завтрак, обед, ужин. Обед 30 рублей, ужин – 25 рублей. Так эти игроманы начинали отыгрываться талонами. Но отрывали не сегодняшний талон, а с конца месяца, в надежде, что отыграются к этому времени.
Процветало воровство. Перед отлетом на фронт у меня украли шинель (ее можно было продать за 1000 рублей). Прилетаем в Тулу. Ребята собрались, и штурман, который Чкаловское училище окончил, говорит: «Володька, ты меня извини, но я хочу перед тобой повиниться. Мы украли твою шинель, но не знали, что это твоя. Только когда вышли за забор, в кармане нашли письмо от твоей матери». Пропили мою шинель и чистосердечно признались. Что ж, повинную голову меч не сечет.
Перед отправкой на фронт выдали личное оружие. У нас в экипаже сначала был стрелок-радист с орденом Красного Знамени, но, как говорят в Одессе, ушлый. Я его увидел на рынке в Казани, стоящим за прилавком и торгующим воблой. Так мы убыли на фронт, а он остался. Нам дали хорошего парнишку Бегма Николая 1926 года рождения. Он получил ППШ и 2 диска, 140 патронов, а нам дали ТТ.
Я и Валерий перед отлетом на фронт устроили «отходную», пригласив своих инструкторов, летчика Кузнецова и штурмана Кондратьева. Для этого вечером в летной столовой накрыли столик и выставили три семилитровых жестяных чайника пива.
Накануне отлета в частном доме Наташи Садовской, студентки Казанского мединститута, с которой чисто платонически подружился, попрощались с ней и ее матерью. Выходя из дома, за калиткой мы с Валерием произвели из пистолетов ТТ салют, расстреляв в воздух по обойме. На следующее утро, взлетев в последний раз с Казанского аэродрома, мы, пролетая над домом Наташи, выпустили серию прощальных ракет.
Темеров Владимир Викторович
Я родился 15 августа 1925 года в городе Одессе в семье рабочего. Мой отец, Виктор Владимирович Темеров, работал на кожевенном заводе, пройдя путь от рабочего до заместителя директора. Так что одни из первых детских воспоминаний у меня связаны именно с заводом – запах зольного цеха, где на огромных вращающихся барабанах вымачивались шкуры…
В 1933 году отца направили на станцию Днестр под Одессой секретарем партийной организации. Там я пошел в украинскую школу. Я помню день, когда зазвонил телефон. Отец поднял трубку, послушал и изменился в лице – убили товарища Кирова. Было больно и страшно. Мальчишка, я тяжело переживал эту трагедию. Через год вернулись обратно в Одессу. Отца направили на учебу в Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу имени Кагановича. В 1937 году, во время выборов в Верховный Совет, отца назначили председателем избирательной комиссии по Одесской области. Тут я впервые в жизни проехался на автомобиле М-1. Надо сказать, это были не простые годы. Отчетливо помню шпиономанию, плакат в центре города, изображавший наркома НКВД Ежова, в «ежовых рукавицах» которого корчились враги народа. Доходило до абсурда. В школе изъяли тетради, на которых была изображена Спасская башня. Оказалось, что если посмотреть в лупу, то там якобы вместо окон висельники нарисованы. Или вдруг находили, что на коробке со спичками буквы СССР были изображены таким образом, что в просвете букв усматривались лики святых. Аббревиатура расшифровывалась, как «Сорок святых спасут Россию». Нам внушали, что это все происки врагов народа и церковников.
Отец, слава богу, не подвергся репрессиям. Хотя мы этого опасались, поскольку мой дед, Владимир Иванович, был титестером, дегустатором чая, и умер в 1916 году в Шанхае. Ведь тогда в каждой анкете надо было указывать, имелись ли родственники за границей. А на станции Днестр все руководство арестовали. И думаю, если бы отца не отправили в школу, он бы так же мог пропасть не за понюх табаку.
Очень близко к сердцу все мы воспринимали испанские события. Помню, в городском саду висела большая карта Испании, на которой была обозначена линия фронта. Ежедневно мы ходили, смотрели, переживали. Потом встречали корабли с испанскими детьми. Воспитывали нас в духе патриотизма, исключительной любви к своей Родине. Я ходил в одесский Дворец пионеров, где занимался в стрелковом кружке, кружке судовождения. В школе мы сдавали нормативы ГТО, БГСО, «Ворошиловский стрелок». Я мечтал пойти или на флот, или в авиацию. В это время в городе создали артиллерийскую, военно-морскую и авиационную спецшколы. Некоторые мои друзья в них поступили. Помню, во дворе нашего дома появился Полтавченко в бескозырке, в морской форме… Как я ему завидовал! Я не стал поступать, поскольку в аттестате за 7-й класс у меня стояло «посредственно» за поведение. Я так подозреваю, что мне поставили эту оценку, поскольку учительницу по естествознанию обозвал каракатицей, а она это услышала.
В 1939 году отца призвали и направили в 95-ю стрелковую дивизию, стоявшую в Котовском. Вскорости началась финская война, и дивизия ушла на фронт. Декабрь месяц, идут самые ожесточенные бои на Карельском перешейке, а от отца нет писем. Мы очень переживали! Помню, когда отец прибыл с фронта в пропотевшей буденовке, я ее тут же напялил на голову и побежал на улицу хвастаться. Привез он и трофеи – несколько кусков мыла, аромат которого меня потряс, французскую пудру «Кати»… За бои на линии Маннергейма отца представили к ордену Красного Знамени. Он поднял залегшую под огнем роту и захватил дот. Но наградили его медалью «За боевые заслуги». Тем не менее получать ее он ездил в Москву, где товарищ Калинин лично вручил ему эту медаль.
В 1940 году 95-я стрелковая дивизия пошла освобождать Бессарабию. Надо сказать, что во всех наших школьных учебниках Бессарабия была заштрихована как территория, временно не принадлежащая СССР. И уже буквально в августе 1940 года он нам направил документы, и мы с мамой поехали в Кишинев. И вот мы попадаем в сказочную страну. Мы знали, что буржуазия гнетет по-всякому народ, что они несчастные, бедные и прочее… В Одессе были трудности в этот период – сахара не было, масла не было. А тут…
На первом этаже нашего дома был магазин колониальных товаров Лункевича. В нем было все – от керосина и до торта. На рубль давали 40 лей. Бутылка вина стоила 10 лей, то есть 25 копеек. Вот тогда я попробовал хорошего вина. Я, конечно, не пил, но, когда приходил в магазин, мне всегда рюмочку вина наливали. Была у нас бутылка ямайского рома с улыбающимся негром на этикетке, стоявшая, как украшение, на комоде. Она стоила 5 рублей – это считалось страшно дорого.
Я подружился с сыном Лункевича Володей, бывал у них дома. Жарко спорили о том, чья техника лучше – наша или немецкая. Он мне доказывал, что «мессера» – это настоящие самолеты, а я с пеной у рта доказывал, что наши И-16 лучше. Однажды Лункевич мне говорит: «Володя, скажи мне честно, неужели из-за этого магазина меня могут арестовать?» Я знал, что добром это не кончится, но не мог ему это сказать. «Как на духу говорю – ничего не будет». Уже перед войной, особенно в мае, НКВД десятками, сотнями арестовывало людей. Их вели по улицам под конвоем… Пришли и за Лункевичем. К тому времени мы переехали на улицу Подольского, 62. В нем впоследствии размещалась резиденция товарища Брежнева.
В мае – июне в Кишинев с инспекцией прибыл С.М. Буденный. По словам отца, на заключительном совещании по итогам проверки маршал, сделав серьезные критические замечания, очень четко и ясно дал понять, что нападение немцев не за горами, и потребовал всемерно укреплять боеспособность. Но сообщение ТАСС от 14 июня, буквально за неделю до начала войны, дезориентировало народ. Не знали, что и думать. Вечером в субботу 21 июня я был на концерте в Доме офицеров. Оттуда проводил нравившуюся мне девчонку и домой вернулся поздно, в хорошем настроении. Часа в 3 ночи примчался посыльный из штаба 95-й дивизии. Отец стал собираться. Я взял алюминиевую армейскую флягу и, наполнив ее тем самым ямайским ромом, положил ему в «тревожный» чемодан. Он убыл – мы поняли, что началась война.
Конечно, мы были уверены в мощи нашей армии. Все в эти первые дни ждали, когда наши войска ударят и выдвинутся на территорию противника. Но этого не произошло.
Утром 22 июня мы поехали с приятелем на велосипедах на вокзал, посмотреть воронки от бомб. В воздухе барражировали И-16. Это в нас вселяло уверенность.
Буквально на следующий день семьи военнослужащих стали эвакуировать. За нами приехала машина. Прибыли мы на вокзал с вещами. Люди запрудили пристанционную территорию. И вдруг тревога! Это психологически невыносимая вещь – тревога на железнодорожной станции! Это гудки всех паровозов, вой сирены, люди мечутся в панике – куда бежать?! В итоге все собрались под деревьями. Через несколько минут на перроне стало пустынно, только вещи лежат. Слава богу, никто не прилетел, и снова все собрались. Погрузились в теплушки. И вновь тревога. Но тут уже никто не вылезал – бог с ним, что будет, то и будет. Поезд тронулся, когда уже стало темнеть. От Кишинева до Одессы 200 километров, а мы ехали трое суток через Первомайск. По эшелону, как паразиты, ползали слухи и мифы. Кому-то приснился вещий сон, что война скоро кончится, какой-то старец все это предвидел и сказал, что будет то-то и то-то. Информационный голод рождает неимоверные небылицы… В Кишиневе мне впервые пошили костюм. Поезд останавливался. Он может поехать и через 5 минут, и через час. Перед отправлением паровоз давал длинный гудок, две-три минуты ждал и трогался. Я подошел к крану с водой, стал умываться, а пиджак повесил рядом на ветку. Вдруг загудел паровоз. Я первым делом схватил мыло и побежал. И когда уже был на ступеньке вагона, оглянулся, а мой пиджак сиротливо висит…
В конце концов мы приехали в Одессу. На вокзал поезд пришел вечером. Меня поразило затемнение, полумрак, горят синие лампы. Выгрузились на перрон. Мне надо было ехать к родственникам на 28-м трамвае. Я зашел в вагон трамвая и стою. В вагоне только и разговоров, что о шпионах и диверсантах, якобы заброшенных в Одессу. Особенно следовало опасаться людей в шляпах и темных очках.
О судьбе отца мы ничего не знали. Налеты, тревоги. Бомбы рядом не падали, но тревоги были часто. Мы, мальчишки, лазили на чердак смотреть из слухового окна на небо. А нам снизу домоуправ Иванова кричит: «Вон оттуда! Вас увидят!» Не дай бог на улице ночью кто-то зажжет спичку или папиросу, ему могли дать по башке: «Что ты делаешь?! Демаскируешь!»
4 июля нас погрузили в вагоны Одесской железной дороги, и мы поехали через всю Украину и Россию под Сталинград.
На железнодорожных станциях пришлось многому насмотреться. Все они были запружены воинскими эшелонами с людьми и составами с военной техникой и заводским оборудованием. Люди зачастую ютились между станками, на открытых платформах. При этом для защиты от ветра использовались щиты снегозадержания и сено, подобранные по дороге.
На одной из станций был свидетелем печального зрелища.
В теплушки эшелона шла погрузка мобилизованных солдат, а в воздухе стоял буквально вой сотен женщин, провожавших на войну своих мужей и сыновей. На вторые сутки наш эшелон к вечеру прибыл на станцию Котельничи, что южнее Сталинграда. Поразило море света, никакой светомаскировки. Местные жители с интересом расспрашивали нас о пережитом. Были оптимистами, заявляя: «У нас такая тьма тараканья, к нам три года скачи, – не доскачешь! Война не дойдет…»
Окончательно наш эшелон завершил свой путь на станции Арчеда и городе Фролове.
Приняли нас там исключительно организованно: сразу же разместили по домам, выписали всевозможные карточки. Я пошел учиться в 4-ю железнодорожную школу. От дома до школы путь лежал через железнодорожную станцию. Видел эшелоны с танками и тракторами, которые шли со Сталинграда в сторону Москвы. А оттуда шли другие эшелоны… Иногда с заключенными. Обычно они выбрасывали через решетки мешки на веревке. Приходили люди, клали в них хлеб, что-то покушать. Конвой не препятствовал. Но однажды, уже был мороз, охранники стояли в открытых тамбурах, в тулупах с винтовками, в буденовках, вдруг весь этот поезд стал стучать и кричать: «Хлеба! Хлеба!» Конвоиры забегали. Мне, мальчишке, стало так больно, что голодные люди закрыты в вагонах… А потом были эшелоны из Ленинграда. Мы разносили по вагонам манную кашу, молоко, хлеб, кормили до предела истощенных людей.
В октябре нас, учеников 9-го класса, посадили в поезд, и мы приехали под Калач в станицу Рюмино-Красноярскую рыть противотанковые эскарпы. Сначала нас разместили в казацкой хате. Проснувшись наутро, мы увидели, что эта кошма, на которой мы спали вповалку, кишит вшами. Ушли на берег Дона. В скирде сена вырыли норы и там спали. По нас бегали мышки-полевки, пищали. Мы только иногда отряхивались, а в общем, спали, не обращали внимания. Вернулись домой примерно через месяц.
В городе был военный госпиталь. Мы, школьники, часто посещали раненых бойцов. Помогали им, чем могли. Писали письма их родственникам и близким, рассказывали о городских новостях, о школьных делах. Жадно слушали фронтовые рассказы.
В ходе учебы в школе, наряду с общеобразовательными предметами, уделялось серьезное внимание начальной военной подготовке. Мы изучали винтовку-трехлинейку, овладевали вождением трактора.
В ноябре получили открытку от отца – он был тяжело ранен и лежал в госпитале в Сталинграде. Мы сразу же бросились на шоссе, остановили полуторку. В кузове на сене, накрывшись брезентом, уже лежали такие же, как мы, пассажиры. Мы тоже улеглись. В пути разразилась страшная пурга. Машина застряла. Всю ночь мы провели под брезентом, пытаясь согреться. Когда рассвело, сколько обозревал взгляд, стояли машины. Вскоре на шоссе появились трактора, тягачи, стали расчищать снег, вытаскивать машины. Уже днем мы оказались в госпитале у отца.
После излечения отца признали ограниченно годным – осколками снаряда ему покалечило правую руку, – и его направили в Ашхабад начальником курса Военно-юридической академии, эвакуированной из Москвы. А в мае 1942 года туда перебрались и мы. В сентябре по настоянию родителей поступил в железнодорожный техникум. Месяц я там слесарил, а потом сбежал в школу. Вечером 25 декабря, в конце учебного дня (мы занимались в вечернюю смену), пришли директор школы и майор из военкомата. Отобрали всех мальчиков и стали с нами беседовать. Майор этот вешал на уши лапшу, сказал, что в Ташкенте есть исключительно хорошее училище летчиков-истребителей. После девяти месяцев учебы присваивают звание лейтенанта – и на фронт. Мы, естественно, загорелись. Часов в одиннадцать вечера пошли в военкомат. Там на вырванных из тетради листках написали заявление с просьбой направить в это училище. Нам сразу выписали повестки явиться в военкомат на следующий день. Когда я пришел домой, родителям просто показал повестку – делать нечего. Только когда я уже учился в академии и отец взял мое личное дело в отделе кадров, он узнал, что я ушел добровольно на фронт.
Эшелон. Теплушки. Нас всего человек пятнадцать, в основном эвакуированные. Местные ребята остались в железнодорожном техникуме. Поехали. Холодно. На одной из остановок набрали кирпичей, положили их на пол и развели костер. Смотрим, из-под вагона летят искры – пол прогорел. Под лавкой обнаружили ящик с пакетиками желтой краски для окрашивания тканей. Сначала мы топили этой краской печку, а потом один из наших предложил менять эту краску на остановках на продукты. Как эти базарные тетки набросились на эту краску! Так что до Ташкента мы ехали сытыми. Приехали в Ташкент, пошли к коменданту, говорим: «Где тут училище летчиков-истребителей?» Никто не знает. «Езжайте в Чирчик, там что-то такое есть, авиационное». Мы когда туда приехали, оказывается, да, есть, но не школа летчиков-истребителей, а военно-авиационная школа стрелков-бомбардиров. Командовал училищем генерал-майор авиации Захаров. В первые дни войны его дивизия потеряла матчасть, его сняли и прислали в училище. Он, конечно, понимал, что все равно рано или поздно попадет на фронт и будет истребителем. Все время летал в зону на УТ-1, тренировался. Ну а тогда у нас глаза на лоб полезли: что это такое, с чем его едят – мы в первый раз услышали это название. Нас сразу определили в карантин, а старшим назначили сержанта. Как начал он нас стращать: «Я уже два года в училище. Выпускать вас будут сержантами, в обмотках. Ох вы и намучаетесь чистить пулемет ШКАС (тут он был совершенно прав)». Один из наших, Рыженко, страшно затосковал. Его потом отчислили за неуспеваемость. Вещи у нас забрали. Повели в баню мыться, для чего каждому выдали небольшой, размером с палец, кусочек хозяйственного мыла. Помылись. Выдали обмундирование – гимнастерки, галифе, обмотки, ватники зеленого цвета и огромные казацкие шапки из собачьего меха. В курсантской столовой, из-за нехватки посуды, первое блюдо – щи из виноградных листьев – я и мой друг Валя Елин хлебали, попеременно черпая ложками, из одного круглого армейского котелка. Через две недели опять пошли в баню. Стоим, ждем своей очереди. А в 10 метрах арык, а за арыком рыночек, и там продавали орехи, яблоки. Мой друг Валя Елин говорит: «Давай один кусочек мыла обменяем, а одним помоемся». – «Давай!» Пошел. Обменял. Несу четыре яблока. И вдруг слышу голос: «Товарищ курсант, ко мне!» Стоит командир нашего отряда старший лейтенант по кличке «Полкан». Я подхожу. «Что вы делаете?» – «Обменял кусочек мыла на яблоки». – «Ваша фамилия?» Записал скрупулезно. «Идите». На вечерней поверке: «Курсант Теменов, выйти из строя». Выхожу. «Вот, товарищи курсанты, первые цветочки. Государственное имущество, мыло, выданное ему для личной гигиены, он поменял на рынке… Трое суток ареста». На следующий день меня повели к старшине: «Снять ремень. Взять матрас». Приставили конвоира курсанта Сотникова. Три километра до гауптвахты шел с матрасом, и почти в затылок курсант Сотников упирался мне штыком. На мою малейшую попытку оглянуться он на полном серьезе кричал: «Не поворачивайся, буду стрелять!». Привел меня на гауптвахту. Что я скажу? Если и были светлые денечки в течение полуторагодового обучения, то это именно трое суток на гауптвахте. Никуда не надо было ходить, можно целый день лежать. Вечером здоровый курсант, который приехал с Украины, говорит: «Пойдешь со мной, будем пикировать». Пикирование – это поход на кухню с целью получения дополнительных порций. Он мне дал два ведра, и пошли в столовую. Пришли. Никого еще в зале не было. Он мне говорит: «Сиди здесь, а я пошел в раздаточную». Вдруг раскрывается дверь и входит несколько военнослужащих. Впереди идет капитан в погонах. Я как увидел, так и обмер! Сразу спрятался под столом: «Батюшки! Офицер! Золотопогонник!» Мы тогда только слышали о введении погон, но еще не видели новой формы. Все окончилось благополучно, и вместо одной порции у нас было три или четыре – наелись до отвала. За трое суток на «губе», проведенных со старшими курсантами, я многому научился и многое понял.
В целом об училище у меня очень хорошее воспоминание. Но, конечно, порядки были там драконовские. Курсантам запрещали носить в руках вещи. Нельзя было носить кольца, не говоря уже о крестах и цепочках. Более того, запрещалось носить усы. Во втором отряде учились курсанты из Тбилисской авиационной спецшколы. У них 80 % носило усы. Их командир, майор, поседел, пытаясь заставить их сбрить. За полтора года мне не дали ни одного увольнения. Распорядок дня был такой. Подъем, и сразу выходи на физзарядку. Летом одно дело, зимой – другое. Наше училище находилось в предгорьях. Зимой с гор такой ветер дул, что когда стоишь на посту, то штык песню поет. Поэтому зимой первый вопрос: «В рубашках или без рубашек?» Чаще старшина говорил: «Без рубашек». Выскакивали, занимались физзарядкой. После этого шли в зал учебно-летного отдела. Брали блокнотики, карандаши. И там нам преподавали азбуку Морзе. Норматив на прием был 100 цифр в минуту. После этого занятия шли на завтрак. Кормили нас по 5-й курсантской норме. Это означало, что в обед всегда на третье полагался компот. За столами размещалось по четырнадцать человек. Еда обычно подавалась в ведрах. Вначале все разливалось и раскладывалось по тарелкам. Затем один из курсантов отворачивался от стола, а другой, указывая на то или другое блюдо рукой, спрашивал: «Кому?» Отвернувшийся называл фамилию одного из курсантов. Так все распределялось по справедливости и без обид. Кроме, конечно, компота. Однажды, после разлива компота, на дне ведра вместо чернослива мы обнаружили большого черного таракана. Естественно, с возмущением потребовали замены. Но когда наше требование удовлетворили, мы с удовольствием выпили и тот и другой. После завтрака команда: «Встать. Пилотки надеть. На выход, шагом марш». Все выходим, строимся. Командовали нами два старших лейтенанта – «Полкан» и пожилой, лет 45: «Больные, выйти из строя!» Выходят. «Собрать кружки». У всех собирают кружки, и они с этими кружками уходят. А нам: «Направо, шагом марш!». Потом: «Бегом!» У нас было два аэродрома. Первый аэродром с Р-5 был в километрах трех. А СБ базировались на аэродроме в пяти километрах от училища. Один день мы бежим до первого аэродрома, второй – до второго. Обычно при следовании по городку полагалось исполнять строевые песни. Но иногда по необъяснимым причинам возникало молчаливое сопротивление строя командам командира. Запевалой у нас был курсант Габриэльян. Командир приказывает: «Запевай!». Он запевает, строй молчит. Останавливаемся. Потом: «Шагом марш! Габриэльян, запевай!» Опять не поем. Командир: «Правое плечо вперед. Марш и на плац». На плацу: «Ложись!» Ползем по-пластунски в один конец. Потом: «Встать. Становись! Шагом марш! Запевай!» Тут уже поем. И потом: «Бегом!» В этой ситуации мы уже не можем отказать себе в удовольствии отыграться. Как рванем вперед. Командир, в силу своего возраста, за нами не поспевает, выдыхается, командует: «Короче шаг!» Ну да! Нас уже не удержать! Пробегая мимо танкового училища, слышим в наш адрес: «Фанерщики!» Намек на наши самолеты Р-5. А мы им в ответ: «Керосинщики!». Но такие противостояния с командирами были редкими.
Занимались мы по 12 часов в сутки. 8 часов в аудитории и на материальной части. 4 часа самоподготовки в классах. Кормили нас три раза в день. В принципе все было нормально. Но мы особенно любили, когда попадали в караул на электростанцию в городе Чирчик. Там тепло, тишина, только работают двигатели. А на обратном пути можно было завернуть на привокзальный рынок, купить плова или рыбы из рыбожарки.
С весны начали летать. Сначала на Р-5 по маршруту, на связь, на стрельбу по конусу, бомбометание. Были и ночные полеты. Это для нас тоже было приятно, потому что на ночной полет давался доппаек – большая горбушка белого хлеба, кусок масла и сахар. И вот намажем маслом горбушку, посыплем сахаром – изумительное пирожное. Это незабываемо, потому что, по большому счету, радостей у нас было мало.
После выполнения программы полетов на Р-5 мы пересели на СБ. На Р-5 мы летали на сравнительно небольших высотах, до полутора тысяч метров, а на СБ – три тысячи метров. Штурманская кабина впереди. Она остеклена, но имеет две прорези для пулеметов. Поэтому ты принимаешь на себя поток ледяного воздуха. Сидишь в кабине на дюралевом сиденье, ноги скрещены. Я помню, зимой после полуторачасового полета прилетели, люк открывают, говорят: «Выходи, что ты там сидишь?» А я закоченел. У меня ноги не слушаются. Еле выполз оттуда. На СБ я налетал 13 часов 43 минуты. На Р-5–24 часа 53 минуты днем.
Была у нас и парашютная подготовка. Не забуду свой первый прыжок. Вылетели на самолете ЛИ-2. На груди запасной парашют, за спиной – основной. Слева, на подвесной системе, закреплено вытяжное кольцо. Сидим на длинной, вдоль борта самолета, дюралевой скамье, ожидая сигнала. Высота – 800 метров. Раздается один сигнал ревуна. Пятерка курсантов выстраивается в затылок друг другу у открытой двери самолета. Я стою первым и наблюдаю проплывающую внизу землю, при этом напряженно ожидаю следующего сигнала. Правая рука крепко сжимает кольцо.
Дважды раздается сигнал ревуна. Я подаюсь вперед, навстречу бездне, успеваю заметить пронесшееся сверху хвостовое оперение самолета и резко дергаю за кольцо. Через несколько секунд, кажущихся вечностью, резкий рывок подвесной системы – и тишина.
Невозможно словами выразить охватившее меня блаженство.
Рядом опускаются к гостеприимной земле под белыми куполами мои товарищи. Жизнь прекрасна! Приближается приземление. Манипулируя стропами таким образом, чтобы ветер дул в спину, а земля как бы уходила из-под ног, плавно приземляюсь. Очень доволен всем пережитым.
В училище нас обучали исключительно высоко квалифицированные специалисты. Тщательно готовили нас и к прыжкам с парашютом. Но избежать трагедии не удалось.
Бросали с У-2. Прыгал грузин, отличный парень, спортсмен, и интеллект у него выше плинтуса. Техника прыжка была такова. Курсант сидит во второй кабине У-2. Он должен вылезти из кабины, встать на плоскость, стропу, которая вытягивает парашют, зацепить крюком за борт и по команде прыгнуть. А он, видимо, так боялся прыгать, что забыл зацепить стропу, и прыгнул. На место трагедии приехал начальник училища генерал-майор авиации Герой Советского Союза Душкин, сменивший Захарова на посту начальника училища. Начал кричать на капитана, начальника ПДС: «До каких пор вы будете гробить у меня людей?!» Тот ни слова не сказал. Снял с погибшего курсанта парашют, надел на себя, сел в У-2, поднялся и прыгнул. Хотя он очень сильно рисковал. Парашют мог деформироваться при падении с 800 метров. Тем самым доказал, что тут не служба виновата. Очень геройски реабилитировал себя.
5 мая 1944 года нас построили, и генерал-майор Душкин объявил приказ главнокомандующего Военно-воздушных сил Новикова о присвоении нам званий младших лейтенантов. Распределение шло так: первые 33 человека по алфавиту попали в Безенчук в запасной полк на «Бостоны», в морскую торпедоносную авиацию. Из этой группы в живых осталось 2 человека. Я еще только прибыл на фронт, а Валя Елин, мой друг, уже был награжден двумя орденами Красного Знамени, а вскоре погиб.
Вторые 33 человека попали в Кировобад, в Высшую штурманскую школу. Я их после войны встретил. Я штурман звена с орденом Красного Знамени, но младший лейтенант, а они – лейтенанты, но никто не воевал. А третья тридцатка, в том числе и я, – в Казань, в 9-й запасной полк на Пе-2. Но тогда о нашей дальнейшей судьбе мы еще не знали. Вечером в казарму пришел старшина, принес мешок с полевыми погонами и каждому дал по две звездочки. После этого нам разрешили пойти в город. Все побежали в парк, гуляют, а на мне сразу повисла одна девчонка и стала со мной танцевать. Я, конечно, был несказанно рад этому, но почему-то она все выспрашивала, куда нас направляют. Я потом уже подумал, не шпионка ли она.
Из Ташкента поездом мы приехали в Куйбышев. Здесь я распрощался с другом Валей Елиным и остальными ребятами из первой группы, сами, пароходом по Волге, отправились в Казань.
Мы прибыли в Казань, в 9-й запасной авиационный полк, где проходили боевое применение и переучивание на Пе-2. Помню, ходил такой анекдот. Почему Ли-2 такой толстый, Ил-2 горбатый, а «пешка» такая худая? Потому что Ли-2 всю войну спекулировал, штурмовик всю войну на себе вынес, а «пешку», как проститутку, бросали и разведчики, и истребители, и пикирующие бомбардировщики.
Начали сколачивать экипажи. У моего первого летчика дело не пошло. Меня перевели к какому-то подполковнику. Когда мы летали по кругу, его все время ругали – хреновый летчик. Пе-2 машина очень сложная, тяжелая. А потом мне дали Валерия Юсупова. Командир эскадрильи сказал: «Володя, с этим летчиком ты будешь летать 100 лет!» И действительно, мы с ним и летали хорошо, и подружились.
Учеба в полку была весьма напряженной. Отрабатывал полеты по маршруту, бомбометание с горизонтального полета, в любое время можно было в тире пострелять из крупнокалиберного пулемета Березина, а на аэродроме у «Т», был установлен фотокинопулемет, и мы тренировались в стрельбе по самолетам, находящимся в воздухе.
Вместе с тем в полку царила вполне демократическая обстановка. В вечернее время можно было выйти в город. В основном ходили на танцплощадку в соседний парк. В летной столовой продавалось пиво по 14 рублей литр.
На гарнизонной гауптвахте процветала игра в «очко». Я лично не играл, а вот Валька Юсупов был азартнейшим игроком. Платили нам 550 рублей в месяц. И еще, нахалы, первое время высчитывали налог за бездетность, хотя положено только с 21 года! Правда, потом нам эти деньги вернули. Чтобы понять, что это за деньги, скажу, что, когда у меня был день рождения, мы поехали на железную дорогу и в вагоне-ресторане купили бутылку крымского «Кокура» и чекушку водки. Все! Денег не хватало. А каждому давалась книжечка талонов в летную столовую. Каждый листик – три талончика: завтрак, обед, ужин. Обед 30 рублей, ужин – 25 рублей. Так эти игроманы начинали отыгрываться талонами. Но отрывали не сегодняшний талон, а с конца месяца, в надежде, что отыграются к этому времени.
Процветало воровство. Перед отлетом на фронт у меня украли шинель (ее можно было продать за 1000 рублей). Прилетаем в Тулу. Ребята собрались, и штурман, который Чкаловское училище окончил, говорит: «Володька, ты меня извини, но я хочу перед тобой повиниться. Мы украли твою шинель, но не знали, что это твоя. Только когда вышли за забор, в кармане нашли письмо от твоей матери». Пропили мою шинель и чистосердечно признались. Что ж, повинную голову меч не сечет.
Перед отправкой на фронт выдали личное оружие. У нас в экипаже сначала был стрелок-радист с орденом Красного Знамени, но, как говорят в Одессе, ушлый. Я его увидел на рынке в Казани, стоящим за прилавком и торгующим воблой. Так мы убыли на фронт, а он остался. Нам дали хорошего парнишку Бегма Николая 1926 года рождения. Он получил ППШ и 2 диска, 140 патронов, а нам дали ТТ.
Я и Валерий перед отлетом на фронт устроили «отходную», пригласив своих инструкторов, летчика Кузнецова и штурмана Кондратьева. Для этого вечером в летной столовой накрыли столик и выставили три семилитровых жестяных чайника пива.
Накануне отлета в частном доме Наташи Садовской, студентки Казанского мединститута, с которой чисто платонически подружился, попрощались с ней и ее матерью. Выходя из дома, за калиткой мы с Валерием произвели из пистолетов ТТ салют, расстреляв в воздух по обойме. На следующее утро, взлетев в последний раз с Казанского аэродрома, мы, пролетая над домом Наташи, выпустили серию прощальных ракет.