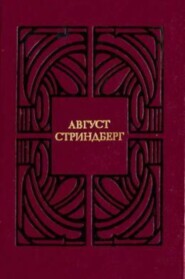По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь глупца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Взошло солнце, сотни мелких островков, мелькавших в бухте, осветились; ветви елей с их серно-желтыми иглами окрасились в медно-красный цвет; в окнах прибрежных хижин отразилось солнце; из дымовых труб поднимался дым и напоминал о кофе; рыбачьи лодки идут на парусах осматривать сети; кричат чайки, чуя маленьких селедок в темно-зеленых волнах.
На пароходе еще все тихо, путешественники спят в каютах, только мы втроем сидим на задней палубе, и капитан сверху наблюдает за нами и удивляется, о чем мы можем рассказывать друг другу целыми часами.
Уже три часа утра, когда из-за мыса появляется лоцманская шлюпка. Пора прощаться. Залив отделяется от моря всего несколькими широкими островами, чувствуется уже бурное море, и слышен шум волн о последние крутые утесы.
Наступает минута прощанья. Они целуются в сильном волнении. Потом она страстно жмет мне руку обеими руками, со слезами на глазах; она поручает моим заботам своего мужа и просит утешать его во время его двухнедельного вдовства. А я низко поклонился и поцеловал ее руку, не думая о том, что этого не следовало бы делать и что я невольно выдаю свои тайные чувства. Пароход остановился, шлюпка замедлила ход, и скоро лоцман очутился уже на палубе. Я сошел по трапу, и вот мы с бароном уже в лодке.
Пароход, как колосс, высился над нами. Оттуда кивала нам, облокотившись на перила, ее маленькая головка с влажными от слез детскими глазками. Винт пришел в движение, колосс вздрогнул, взвился русский флаг, и мы закачались на волнах, махая мокрыми от слез платками. Ее тонкое личико становилось все меньше, нежные черты затушевывались, и нам были видны только ее большие глаза, которые тоже скоро исчезли; мгновенье спустя мы видели только белый вуаль, развевающийся над японской шляпой, и батистовый платок, которым она махала; потом только белое пятно, белую точку и потом только колосса, бесформенную массу, окутанную дурно пахнущим дымом.
Мы высадились на таможенной станции, обращенной летом в купальный курорт. В деревне все еще спало, и на пристани никого не было; мы стояли и следили за пароходом, который лавировал, чтобы повернуть направо и скрыться за мысом, служившим последней преградой от моря.
В ту минуту, как исчез пароход, барон, рыдая, бросился мне на шею, и мы стояли несколько минут обнявшись и не произнося ни слова.
Что вызвало в эту минуту эти слезы, бессонница или ясная ночь? Было ли это смутное предчувствие или просто жалость? Я и теперь не могу этого объяснить.
Молча и печально направились мы в деревню напиться кофе; но ресторан был еще заперт, и мы пошли блуждать по улицам. Маленькие домики стояли запертыми, и занавеси были спущены. За деревней мы вышли в пустынное место, где находились шлюзы. Вода была чистая и прозрачная, и мы омыли ею глаза. Потом я вынул из несессера чистый носовой платок, мыло, зубную щетку и одеколон. Барон насмешливо улыбнулся на мою утонченность, но это не помешало ему с благодарностью принять принадлежности этого импровизированного туалета. Вернувшись назад в деревню, мы почувствовали запах жженого угля, проникавший сквозь листву прибрежной ольхи. Я знаком дал понять барону, что это был последний привет парохода, донесенный до нас морским ветерком. Но он этого не понял.
За кофе он имел очень печальный вид со своим большим сонным лицом, опухшими чертами и безутешным выражением. Между нами воцарилась какая-то неловкость, и он, погруженный в свою печаль, хранил упорное молчание.
Иногда он дружески пожимал мне руку и просил извинить за расстроенный вид, а минуту спустя снова погружался в необъяснимую задумчивость. Я делал все возможное, чтобы оживить его, но гармония не возобновлялась, узы были порваны. Его лицо, прежде такое ласковое, стало мало-помалу принимать пошлое и грубое выражение. Отражение очарования и одухотворенной красоты его прелестной жены исчезло, и наружу выступил человек невежественный. Я не знаю, о чем он думал. Отгадал ли он, что происходит во мне? Судя по быстрой смене его обращения, его обуревали противоположные ощущения: то он жал мою руку и называл меня своим первым и единственным другом, то поворачивался ко мне спиной.
А я, к ужасу своему, заметил, что мы живем только для нее и благодаря ей. Солнце для нас закатилось, и мы оба потеряли свою индивидуальную окраску.
Вернувшись в город, я хотел проститься с ним, но он настойчиво просил проводить его, и я согласился.
Когда мы вошли в опустевшую квартиру, нам показалось, что кто-то умер, и мы снова заплакали. Смутившись, я решил обратить все в шутку:
– Ну, разве это не смешно, барон, гвардейский полковник и королевский секретарь плачут…
– Но слезы облегчают, – отвечал он.
Потом он велел привести девочку, появление которой снова усилило нашу печаль.
Было девять часов утра. Так как мы оба очень устали, то он предложил мне лечь на диван, а сам он пойдет в спальню. Он подложил мне под голову подушку, прикрыл меня своей шинелью и пожелал мне доброй ночи, продолжая благодарить за то, что я не оставил его одного.
В его братской нежности я чуял влияние его жены, наполнявшей все его мысли, и я погрузился в глубокий сон, причем, засыпая, я видел, как он тихонько подошел ко мне и спросил еще раз, удобно ли мне.
Я проснулся к обеду. Он уже встал. Он боялся одиночества и предложил мне отправиться в парк и пообедать там. Я согласился, и мы целый день провели вместе, причем мы болтали о том и о другом, а больше всего о женщине, к которой были прикованы наши жизни.
Два дня подряд я не виделся с ними и искал одиночества; для этого я удалился в библиотеку, в нижний этаж, – прежде скульптурный зал, – который являлся самым подходящим убежищем для моего настроения. Большая зала в стиле «рококо» выходила на Львиный двор; в ней хранились рукописи. Я расположился здесь, взяв первую попавшуюся рукопись, которая казалась мне достаточно старой, чтобы отвлечь мои мысли от недавних событий. Но чем дальше я читал, тем сильнее сплеталось прошлое с настоящим, и пожелтевшие письма королевы Кристины шептали мне признания баронессы, Я избегал моего обычного ресторана, чтобы не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять своего языка болтовней с безбожниками, которые ничего не должны были знать о моем новом веровании; я ревниво охранял свою особу, которая в будущем должна быть посвящена ей одной. Выходя на улицу, мне хотелось, чтобы передо мной шли маленькие певчие и звоночками возвещали народу о приближении святыни, которую я нес в сокровищнице моего сердца. Мне казалось, что я несу по улицам скорбь и печаль о королеве, мне хотелось крикнуть миру, чтобы он обнажил головы перед смертью, перед моей мертворожденной любовью, не имевшей никакой надежды на жизнь.
На третий день около часу дня я был выведен из моего оцепенения музыкой проходящего мимо отряда гвардейцев; она играла траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидал, что смену ведет барон. Он кивнул мне с лукавой усмешкой; это он велел играть любимую пьесу баронессы, и музыканты не знали, что они играют в честь нас обоих перед толпой, которая ничего не подозревала.
Через полчаса барон пришел ко мне в библиотеку. Я провел его по темным коридорам, заставленными шкафами и полками, в залу рукописей в нижнем этаже. Он был в хорошем настроении и передал мне содержание письма, полученного от жены. Все шло как нельзя лучше; в письме была записка ко мне, которую я быстро пробежал, стараясь по возможности скрыть мое волнение. В простом, сердечном тоне она благодарила меня за заботы о ее муже и признавалась, что ей очень польстила моя печаль после ее отъезда. В настоящее время она находилась у «ангела-хранителя», она очень ее полюбила и расхваливала ее характер; в конце письма она подавала мне некоторые надежды. Это было все.
Так значить, эта противная женщина, этот «ангел-хранитель» любит меня; воспоминание о ней наполняло меня ужасом. Теперь помимо моей воли я вынужден был играть роль любовника, я был впутан в отвратительную, может быть, бесконечную комедию. Действительно, нельзя безнаказанно шутить с любовью. Попав в ловушку, я в бешенстве старался беспристрастно взглянуть на это неопрятное существо с монгольскими глазами, серым лицом и красными руками. С дьявольской радостью представлял я себе ее соблазнительные приемы, которыми она заставила меня полюбить себя, ее подозрительный вид, навлекший на меня насмешливые замечания со стороны моих друзей; они спрашивали меня, как зовут девку, с которой я шляюсь по предместьям города.
С злой радостью думал я об ее хитростях, уловках и упорстве в погоне за мной, об ее манере вынимать часы из-за корсета так, чтобы был виден кусочек белья. А то воскресенье, когда мы гуляли в парке! Мы шли по главной аллее, но она вдруг предложила свернуть в чащу. У меня волосы стали дыбом от ужаса, потому что такие прогулки в кусты пользовались вполне заслуженной славой. Но на мое возражение, что это было бы неприлично, она сумела только ответить:
– Ах, что такое прилично!
Она хотела нарвать анемонов под орешником; она свернула с аллеи и пошла в кусты. Я смущенно последовал за ней. Найдя укромное местечко за кустами, она села, расправив платье так, чтобы можно было видеть ее ноги, хотя и маленькие, но некрасивые. Наступило неловкое молчание, и она напомнила мне древних распутниц Коринфа, приходивших в бешенство, если их заставляли ждать обычного физического акта. Она простодушно глядела на меня, и на этот раз я обязан моей добродетелью только ее необыкновенному безобразию.
Все эти мелочи, о которых я до сих пор не думал, давили меня теперь, когда являлась возможность, что она бросится в мои объятия, и я молил Бога о победе певца в этой борьбе за любовь. Но я должен был надеть маску и запастись терпением.
Пока я читал записку, барон сидел на столе, заваленном старинными книгами и рукописями. Он играл саблей и имел очень растерянный вид, словно испытывая перед штатскими свою слабость в литературных познаниях, и на все мои попытки заинтересовать его научными трудами он отвечал одной фразой:
– Это, должно быть, очень интересно.
А я, подавленный величием его чина, орденами, шарфом, парадным мундиром, старался восстановить равновесие, выказывая ему мои познания; но я достиг только того, что он стал обнаруживать знаки беспокойства.
Сабля и перо; долой дворянина, дорогу гражданину! Может быть, ясновидящая женщина инстинктивно предчувствовала, кому принадлежит будущее, когда позднее она выбрала своим детям отца из грядущей аристократии ума.
И мной и бароном овладело какое-то бессознательное смущение, несмотря на все его старание держаться со мной как с равным. Не раз он высказывал даже свое уважение к моей учености, показывая этим свое невежество в этой области; но если ему вдруг приходило в голову поважничать передо мной, то довольно было одного слова о баронессе, чтобы сбить его с позиции. В ее глазах наследственный герб не имел никакой цены, и парадный гвардейский мундир должен был склониться перед покрытым книжной пылью сюртуком ученого. Может быть, он сам понял это, когда надел блузу художника и записался простым учеником в мастерскую? И все-таки в нем замечалось влияние утонченного воспитания и предрассудки традиций; ревнивая вражда ученых и военных перешла ему в плоть и кровь.
В настоящую минуту ему было необходимо излить кому-нибудь свои горести, и он пригласил меня к себе обедать.
После кофе он предложил мне написать баронессе; он сам подал мне перо и бумагу. Не видя возможности отказаться, я мучился, подыскивая банальные фразы, чтобы скрыть свое чувство.
Окончив письмо, я подал его, не запечатывая, барону, чтобы принудить его этим прочесть.
– Я никогда не читаю чужих писем, – сказал он притворно гордым тоном.
– А я, – отвечал я, – никогда не пишу чужой жене, не дав прочитать мужу.
Он одним взглядом пробежал записку и запечатал ее вместе со своим письмом, улыбаясь ничего не говорящей улыбкой.
Я не видел его целую неделю, и, наконец, как-то вечером мы встретились с ним на улице. Он, казалось, очень обрадовался, увидя меня, и мы отправились в кафе, где он мог излить мне свою душу, как своему преданному другу. Он провел несколько дней на даче у кузины своей жены. Еще не зная этой очаровательной особы, я уже оценил ее влияние на поведение барона. Он сбросил с себя свою обычную надменность и грусть. Лицо его имело живое, веселое выражение, он обогатил свою речь несколькими вульгарными выражениями сомнительного вкуса, даже звук его голоса сильно изменился. Какая слабая воля, подумал я, он поддается всем влияниям; это чистый лист, на котором самая слабая женская рука может чертить все глупости и фантазии неразвитого ума.
Барон сделался совершенно опереточным героем. Он острил, рассказывал скандальные истории и был шумно весел. В штатском он потерял все свое очарование. А когда после ужина, уже несколько навеселе, он предложил поехать к девицам, он стал мне прямо противен! Ничего, кроме расшитого мундира, перевязи, орденов! Ничего!
Когда его опьянение дошло до высшей точки, он начал мне поверять тайны своей супружеской жизни. Я прервал разговор и встал недовольный, несмотря на его уверения, что его жена разрешила ему развлекаться на стороне во время его вдовства. Это показалось мне невероятным и еще больше убедило меня в целомудренности образа мыслей баронессы. Наконец, на рассвете мы расстались, и я отправился домой, смущенный всеми нескромными признаниями, которые мне пришлось выслушать.
Жена, влюбленная в мужа, дает ему полную свободу после трех лет супружества, не требуя взамен такого же права! Это изумительно! Противоестественно, как любовь без ревности, свет без тени. Непостижимо! Он меня уверил, что его жена целомудренная натура. Опять неестественно! И мать и девушка одновременно, как я уже думал раньше; целомудрие – свойство высшей породы, душевная чистота, являющаяся культурным достоянием высших классов. Так мечтал я в моей юности, когда девушки светского общества внушали мне только чувство поклонения, не будя моей чувственности. Детские мечты, сладостное незнание женщины, этой загадки, разгадать которую труднее, чем может думать старый холостяк.
* * *
Наконец, баронесса вернулась; она сияла здоровьем и молодостью, освежившись воспоминаниями и общением с друзьями юности.
– Вот и голубь, принесший масличную ветвь, – сказала она, подавая мне письмо от моей мнимой невесты.
Я прочел высокомерную, бесцветную болтовню, излияния бездушной женщины, синего чулка, хотевшей завоевать свободу браком с каким бы то ни было мужчиной.
Прочтя письмо с плохо сыгранной радостью, я захотел, наконец, очистить свою совесть в эту тяжелую минуту.
– Не можете ли вы мне сказать, – начал я, – что же она – невеста этого певца?
– И да и нет!
На пароходе еще все тихо, путешественники спят в каютах, только мы втроем сидим на задней палубе, и капитан сверху наблюдает за нами и удивляется, о чем мы можем рассказывать друг другу целыми часами.
Уже три часа утра, когда из-за мыса появляется лоцманская шлюпка. Пора прощаться. Залив отделяется от моря всего несколькими широкими островами, чувствуется уже бурное море, и слышен шум волн о последние крутые утесы.
Наступает минута прощанья. Они целуются в сильном волнении. Потом она страстно жмет мне руку обеими руками, со слезами на глазах; она поручает моим заботам своего мужа и просит утешать его во время его двухнедельного вдовства. А я низко поклонился и поцеловал ее руку, не думая о том, что этого не следовало бы делать и что я невольно выдаю свои тайные чувства. Пароход остановился, шлюпка замедлила ход, и скоро лоцман очутился уже на палубе. Я сошел по трапу, и вот мы с бароном уже в лодке.
Пароход, как колосс, высился над нами. Оттуда кивала нам, облокотившись на перила, ее маленькая головка с влажными от слез детскими глазками. Винт пришел в движение, колосс вздрогнул, взвился русский флаг, и мы закачались на волнах, махая мокрыми от слез платками. Ее тонкое личико становилось все меньше, нежные черты затушевывались, и нам были видны только ее большие глаза, которые тоже скоро исчезли; мгновенье спустя мы видели только белый вуаль, развевающийся над японской шляпой, и батистовый платок, которым она махала; потом только белое пятно, белую точку и потом только колосса, бесформенную массу, окутанную дурно пахнущим дымом.
Мы высадились на таможенной станции, обращенной летом в купальный курорт. В деревне все еще спало, и на пристани никого не было; мы стояли и следили за пароходом, который лавировал, чтобы повернуть направо и скрыться за мысом, служившим последней преградой от моря.
В ту минуту, как исчез пароход, барон, рыдая, бросился мне на шею, и мы стояли несколько минут обнявшись и не произнося ни слова.
Что вызвало в эту минуту эти слезы, бессонница или ясная ночь? Было ли это смутное предчувствие или просто жалость? Я и теперь не могу этого объяснить.
Молча и печально направились мы в деревню напиться кофе; но ресторан был еще заперт, и мы пошли блуждать по улицам. Маленькие домики стояли запертыми, и занавеси были спущены. За деревней мы вышли в пустынное место, где находились шлюзы. Вода была чистая и прозрачная, и мы омыли ею глаза. Потом я вынул из несессера чистый носовой платок, мыло, зубную щетку и одеколон. Барон насмешливо улыбнулся на мою утонченность, но это не помешало ему с благодарностью принять принадлежности этого импровизированного туалета. Вернувшись назад в деревню, мы почувствовали запах жженого угля, проникавший сквозь листву прибрежной ольхи. Я знаком дал понять барону, что это был последний привет парохода, донесенный до нас морским ветерком. Но он этого не понял.
За кофе он имел очень печальный вид со своим большим сонным лицом, опухшими чертами и безутешным выражением. Между нами воцарилась какая-то неловкость, и он, погруженный в свою печаль, хранил упорное молчание.
Иногда он дружески пожимал мне руку и просил извинить за расстроенный вид, а минуту спустя снова погружался в необъяснимую задумчивость. Я делал все возможное, чтобы оживить его, но гармония не возобновлялась, узы были порваны. Его лицо, прежде такое ласковое, стало мало-помалу принимать пошлое и грубое выражение. Отражение очарования и одухотворенной красоты его прелестной жены исчезло, и наружу выступил человек невежественный. Я не знаю, о чем он думал. Отгадал ли он, что происходит во мне? Судя по быстрой смене его обращения, его обуревали противоположные ощущения: то он жал мою руку и называл меня своим первым и единственным другом, то поворачивался ко мне спиной.
А я, к ужасу своему, заметил, что мы живем только для нее и благодаря ей. Солнце для нас закатилось, и мы оба потеряли свою индивидуальную окраску.
Вернувшись в город, я хотел проститься с ним, но он настойчиво просил проводить его, и я согласился.
Когда мы вошли в опустевшую квартиру, нам показалось, что кто-то умер, и мы снова заплакали. Смутившись, я решил обратить все в шутку:
– Ну, разве это не смешно, барон, гвардейский полковник и королевский секретарь плачут…
– Но слезы облегчают, – отвечал он.
Потом он велел привести девочку, появление которой снова усилило нашу печаль.
Было девять часов утра. Так как мы оба очень устали, то он предложил мне лечь на диван, а сам он пойдет в спальню. Он подложил мне под голову подушку, прикрыл меня своей шинелью и пожелал мне доброй ночи, продолжая благодарить за то, что я не оставил его одного.
В его братской нежности я чуял влияние его жены, наполнявшей все его мысли, и я погрузился в глубокий сон, причем, засыпая, я видел, как он тихонько подошел ко мне и спросил еще раз, удобно ли мне.
Я проснулся к обеду. Он уже встал. Он боялся одиночества и предложил мне отправиться в парк и пообедать там. Я согласился, и мы целый день провели вместе, причем мы болтали о том и о другом, а больше всего о женщине, к которой были прикованы наши жизни.
Два дня подряд я не виделся с ними и искал одиночества; для этого я удалился в библиотеку, в нижний этаж, – прежде скульптурный зал, – который являлся самым подходящим убежищем для моего настроения. Большая зала в стиле «рококо» выходила на Львиный двор; в ней хранились рукописи. Я расположился здесь, взяв первую попавшуюся рукопись, которая казалась мне достаточно старой, чтобы отвлечь мои мысли от недавних событий. Но чем дальше я читал, тем сильнее сплеталось прошлое с настоящим, и пожелтевшие письма королевы Кристины шептали мне признания баронессы, Я избегал моего обычного ресторана, чтобы не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять своего языка болтовней с безбожниками, которые ничего не должны были знать о моем новом веровании; я ревниво охранял свою особу, которая в будущем должна быть посвящена ей одной. Выходя на улицу, мне хотелось, чтобы передо мной шли маленькие певчие и звоночками возвещали народу о приближении святыни, которую я нес в сокровищнице моего сердца. Мне казалось, что я несу по улицам скорбь и печаль о королеве, мне хотелось крикнуть миру, чтобы он обнажил головы перед смертью, перед моей мертворожденной любовью, не имевшей никакой надежды на жизнь.
На третий день около часу дня я был выведен из моего оцепенения музыкой проходящего мимо отряда гвардейцев; она играла траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидал, что смену ведет барон. Он кивнул мне с лукавой усмешкой; это он велел играть любимую пьесу баронессы, и музыканты не знали, что они играют в честь нас обоих перед толпой, которая ничего не подозревала.
Через полчаса барон пришел ко мне в библиотеку. Я провел его по темным коридорам, заставленными шкафами и полками, в залу рукописей в нижнем этаже. Он был в хорошем настроении и передал мне содержание письма, полученного от жены. Все шло как нельзя лучше; в письме была записка ко мне, которую я быстро пробежал, стараясь по возможности скрыть мое волнение. В простом, сердечном тоне она благодарила меня за заботы о ее муже и признавалась, что ей очень польстила моя печаль после ее отъезда. В настоящее время она находилась у «ангела-хранителя», она очень ее полюбила и расхваливала ее характер; в конце письма она подавала мне некоторые надежды. Это было все.
Так значить, эта противная женщина, этот «ангел-хранитель» любит меня; воспоминание о ней наполняло меня ужасом. Теперь помимо моей воли я вынужден был играть роль любовника, я был впутан в отвратительную, может быть, бесконечную комедию. Действительно, нельзя безнаказанно шутить с любовью. Попав в ловушку, я в бешенстве старался беспристрастно взглянуть на это неопрятное существо с монгольскими глазами, серым лицом и красными руками. С дьявольской радостью представлял я себе ее соблазнительные приемы, которыми она заставила меня полюбить себя, ее подозрительный вид, навлекший на меня насмешливые замечания со стороны моих друзей; они спрашивали меня, как зовут девку, с которой я шляюсь по предместьям города.
С злой радостью думал я об ее хитростях, уловках и упорстве в погоне за мной, об ее манере вынимать часы из-за корсета так, чтобы был виден кусочек белья. А то воскресенье, когда мы гуляли в парке! Мы шли по главной аллее, но она вдруг предложила свернуть в чащу. У меня волосы стали дыбом от ужаса, потому что такие прогулки в кусты пользовались вполне заслуженной славой. Но на мое возражение, что это было бы неприлично, она сумела только ответить:
– Ах, что такое прилично!
Она хотела нарвать анемонов под орешником; она свернула с аллеи и пошла в кусты. Я смущенно последовал за ней. Найдя укромное местечко за кустами, она села, расправив платье так, чтобы можно было видеть ее ноги, хотя и маленькие, но некрасивые. Наступило неловкое молчание, и она напомнила мне древних распутниц Коринфа, приходивших в бешенство, если их заставляли ждать обычного физического акта. Она простодушно глядела на меня, и на этот раз я обязан моей добродетелью только ее необыкновенному безобразию.
Все эти мелочи, о которых я до сих пор не думал, давили меня теперь, когда являлась возможность, что она бросится в мои объятия, и я молил Бога о победе певца в этой борьбе за любовь. Но я должен был надеть маску и запастись терпением.
Пока я читал записку, барон сидел на столе, заваленном старинными книгами и рукописями. Он играл саблей и имел очень растерянный вид, словно испытывая перед штатскими свою слабость в литературных познаниях, и на все мои попытки заинтересовать его научными трудами он отвечал одной фразой:
– Это, должно быть, очень интересно.
А я, подавленный величием его чина, орденами, шарфом, парадным мундиром, старался восстановить равновесие, выказывая ему мои познания; но я достиг только того, что он стал обнаруживать знаки беспокойства.
Сабля и перо; долой дворянина, дорогу гражданину! Может быть, ясновидящая женщина инстинктивно предчувствовала, кому принадлежит будущее, когда позднее она выбрала своим детям отца из грядущей аристократии ума.
И мной и бароном овладело какое-то бессознательное смущение, несмотря на все его старание держаться со мной как с равным. Не раз он высказывал даже свое уважение к моей учености, показывая этим свое невежество в этой области; но если ему вдруг приходило в голову поважничать передо мной, то довольно было одного слова о баронессе, чтобы сбить его с позиции. В ее глазах наследственный герб не имел никакой цены, и парадный гвардейский мундир должен был склониться перед покрытым книжной пылью сюртуком ученого. Может быть, он сам понял это, когда надел блузу художника и записался простым учеником в мастерскую? И все-таки в нем замечалось влияние утонченного воспитания и предрассудки традиций; ревнивая вражда ученых и военных перешла ему в плоть и кровь.
В настоящую минуту ему было необходимо излить кому-нибудь свои горести, и он пригласил меня к себе обедать.
После кофе он предложил мне написать баронессе; он сам подал мне перо и бумагу. Не видя возможности отказаться, я мучился, подыскивая банальные фразы, чтобы скрыть свое чувство.
Окончив письмо, я подал его, не запечатывая, барону, чтобы принудить его этим прочесть.
– Я никогда не читаю чужих писем, – сказал он притворно гордым тоном.
– А я, – отвечал я, – никогда не пишу чужой жене, не дав прочитать мужу.
Он одним взглядом пробежал записку и запечатал ее вместе со своим письмом, улыбаясь ничего не говорящей улыбкой.
Я не видел его целую неделю, и, наконец, как-то вечером мы встретились с ним на улице. Он, казалось, очень обрадовался, увидя меня, и мы отправились в кафе, где он мог излить мне свою душу, как своему преданному другу. Он провел несколько дней на даче у кузины своей жены. Еще не зная этой очаровательной особы, я уже оценил ее влияние на поведение барона. Он сбросил с себя свою обычную надменность и грусть. Лицо его имело живое, веселое выражение, он обогатил свою речь несколькими вульгарными выражениями сомнительного вкуса, даже звук его голоса сильно изменился. Какая слабая воля, подумал я, он поддается всем влияниям; это чистый лист, на котором самая слабая женская рука может чертить все глупости и фантазии неразвитого ума.
Барон сделался совершенно опереточным героем. Он острил, рассказывал скандальные истории и был шумно весел. В штатском он потерял все свое очарование. А когда после ужина, уже несколько навеселе, он предложил поехать к девицам, он стал мне прямо противен! Ничего, кроме расшитого мундира, перевязи, орденов! Ничего!
Когда его опьянение дошло до высшей точки, он начал мне поверять тайны своей супружеской жизни. Я прервал разговор и встал недовольный, несмотря на его уверения, что его жена разрешила ему развлекаться на стороне во время его вдовства. Это показалось мне невероятным и еще больше убедило меня в целомудренности образа мыслей баронессы. Наконец, на рассвете мы расстались, и я отправился домой, смущенный всеми нескромными признаниями, которые мне пришлось выслушать.
Жена, влюбленная в мужа, дает ему полную свободу после трех лет супружества, не требуя взамен такого же права! Это изумительно! Противоестественно, как любовь без ревности, свет без тени. Непостижимо! Он меня уверил, что его жена целомудренная натура. Опять неестественно! И мать и девушка одновременно, как я уже думал раньше; целомудрие – свойство высшей породы, душевная чистота, являющаяся культурным достоянием высших классов. Так мечтал я в моей юности, когда девушки светского общества внушали мне только чувство поклонения, не будя моей чувственности. Детские мечты, сладостное незнание женщины, этой загадки, разгадать которую труднее, чем может думать старый холостяк.
* * *
Наконец, баронесса вернулась; она сияла здоровьем и молодостью, освежившись воспоминаниями и общением с друзьями юности.
– Вот и голубь, принесший масличную ветвь, – сказала она, подавая мне письмо от моей мнимой невесты.
Я прочел высокомерную, бесцветную болтовню, излияния бездушной женщины, синего чулка, хотевшей завоевать свободу браком с каким бы то ни было мужчиной.
Прочтя письмо с плохо сыгранной радостью, я захотел, наконец, очистить свою совесть в эту тяжелую минуту.
– Не можете ли вы мне сказать, – начал я, – что же она – невеста этого певца?
– И да и нет!
Другие электронные книги автора Август Юхан Стриндберг
Другие аудиокниги автора Август Юхан Стриндберг
Детская сказка




 4.5
4.5