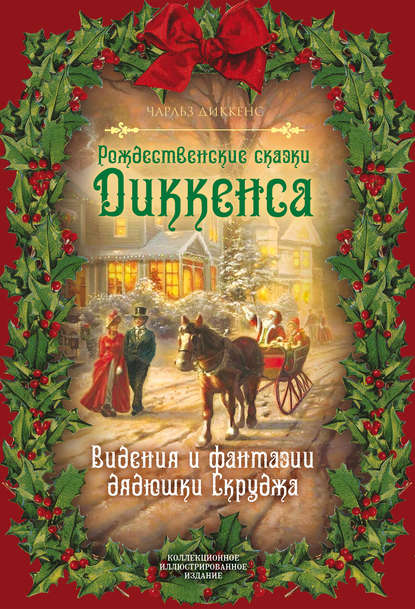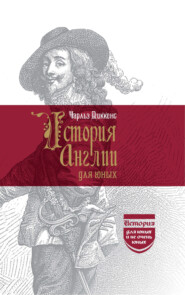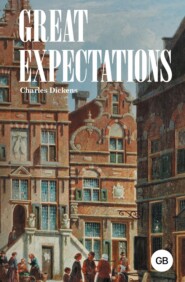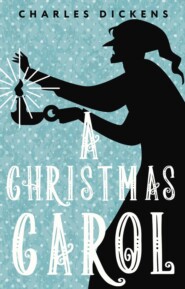По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рождественские видения и традиции
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что касается меня, то я не стану возражать против приведенного выше мнения Тоби Векка, так как я нимало не сомневаюсь, что он имел достаточно случаев, чтобы хорошо его обдумать и выработать. И так все, что ни говорил Тоби Векк, я повторяю за ним и всегда готов постоять за него, хотя это и и не совсем легкая задача, так как наш друг Тоби Векк был посыльным, и всем было известно, что место его стоянки было рядом с церковными дверями, где он и простаивал с утра до вечера в ожидании какого-нибудь поручения.
Нечего сказать, хорошенькое это было местечко зимою! В кого же он там и обращался: он отмораживал себе щеки; нос становился сине-красным, глаза слезились; ноги коченели; зубы чуть не крошились, – так он ими щелкал! Не совсем-то бедному Тоби было по себе!
Ветер, в особенности восточный, накидывался на него с остервенением из-за угла, как будто нарочно сорвался с двух концов света, чтобы угощать его пощечинами. Часто казалось, что ветер обрушивался на него именно в такую минуту, когда он этого никак не ожидал. Вылетев с неимоверною стремительностью из-за угла площади, ветер мчался мимо несчастного и вдруг возвращался, как бы радуясь тому, что опять встретил его и, казалось, ревел: «А, вот он! Я опять держу его!»
Тщетно тогда натягивал Тоби себе на голову свой маленький белый передник, подобно тому, как дурно воспитанные дети закрывают глаза полами своей одежды. Напрасно вооружался своей небольшой тростью, как бы выходя на бой с непогодою. Кончалось тем, что его слабые ноги начинали невероятно дрожать, он поворачивался то направо, то налево; то съеживался, то сгибался, – но чтобы он ни предпринимал, ничего не помогало. Он был до того измучен, истерзан, избит, почти сшиблен с ног, что только каким-то положительным чудом не был сотни раз поднят на воздух наподобие целых колоний лягушек и других неустойчивых тварей и не упал потом на землю где-нибудь за тридевять земель, на удивление туземцев какой-нибудь дикой местности земного шара, где еще никогда не видывали посыльных.
Но бурная ветреная погода, несмотря на страдания, приносимые Тоби, всегда являлась для него каким-то праздником, это не подлежит никакому сомнению. В такие дни ему казалось, что время не так медленно тянется в ожидании заработка, как в остальные дни. Борьба с бешеной стихией отвлекала его внимание и возвращала ему энергию, когда голод и отчаяние подкрадывались к нему. Лютый мороз, снежная метель нарушали однообразие его существования и вызывали в нем какое-то возбуждение. Одним словом, такая погода действовала на него благотворно, но почему и каким образом это могло быть, остается для меня необъяснимым. Да, я думаю, что он сам, бедный Тоби, затруднился бы объяснить это явление! Словом, счастливыми для Тоби днями были дни бурь, морозов, снежных метелей!
Напротив, мокрая погода являлась для него сущим бедствием! Эта холодная, пронизывающая до мозга костей сырость, окутывала его мокрым липким плащом. Хотя это и был единственный род мужского длинного пальто, которым обладал бедный Тоби, но я думаю, что он охотно бы от него отказался, если бы это от него зависело.
Тяжелыми днями также для него были те, когда лил мелкий, назойливый, частый дождь; когда туман, казалось, хватал за глотку улицу, а вместе с нею и самого Тоби, когда мимо него сновали взад и вперед дымящиеся от испарений зонтики, подпрыгивающие в руках их владельцев, при встрече и столкновениях с другими, что неизбежно случалось при толкотне на тротуарах; когда зонтики орошали прохожих очень неприятными ручейками воды; когда противно было слышать бурлящую в водосточных трубах воду, с шумом выливающуюся, чуть не каскадом, из переполненных труб; когда с выступов и крыши церкви она капля за каплей падала на бедного Тоби, обращая в настоящий навоз небольшой клочок соломы, на котором он стоял! О, подобные дни являлись для него сущим наказанием, настоящим испытанием! Тогда вы могли быть свидетелем, с каким испуганным видом затравленного зверя выглядывал он своими грустными глазами из-за угла церковных стен, служивших ему убежищем.
Но какое это было жалкое убежище! Оно и летом-то не более ограждало его от палящего солнца, чем простой шест, поставленный на раскаленном тротуаре! Временами он выходил из-за своего угла, немножко подвигаться и согреться. Маленькой рысцою бегал он то направо, то налево и, проделав это раз двенадцать, возвращался на свое место. Его прозвали Тротти[2 - Trot – рысь, бежать рысцой.] за его походку; кличка, которая, если и не создавала быстроту бега, во всяком случае, означала ее. Быть может, Тротти и мог ходить менее подпрыгивающей походкой и в то же время более скорой, но заставить его это сделать, то есть, другими словами, лишить его «собственного аллюра» значило бы уложить его в постель и уморить. Благодаря своему способу ходьбы он забрызгивал себя по уши грязью и вообще причинял себе массу неудобств, и ему, несомненно, было бы гораздо легче ходить иначе. Но именно это и являлось причиною, почему Тоби так держался своей походки. Представьте себе, что этот маленький тщедушный старичок являлся настоящим исполином по своим добрым намерениям и более всего боялся, чтобы не стали говорить, что он даром берет свои деньги, крадет их. Ему доставляло огромное удовольствие думать, что он зарабатывает их в поте лица (он был слишком беден, чтобы лишить себя этого удовольствия). Когда ему давали поручение хотя бы за самую ничтожную плату, или когда он нес посылку, его бодрость, всегда, впрочем, ему присущая, удваивалась. Как только он пускался своей рысцою, он начинал окликать всех, идущих перед ним посыльных, уверенный, что непременно наскочит на них и опрокинет. Он также не сомневался, что в состоянии нести всякий груз, хотя ему и не было случая испытывать себя.
Даже в дождливые дни, когда он был вынужден выскакивать из своего угла, чтобы как-нибудь только согреться, и тогда он бегал рысцою, оставляя за собою извилистую линию грязи. Как усердно старался он согреть дыханием свои окоченевшие руки и как потирал их одну о другую. Они плохо были защищены от леденящего мороза серенькими, изношенными шерстяными варежками, в которых только один большой палец пользовался отдельным помещением, а все остальные ютились вместе. Выгнув вперед колени, положив подмышку палку, бежал Тоби, исполняя данное поручение, и точно так же возвращался, когда торопился к башне во время перезвона колоколов.
Несколько раз в день совершал он такую прогулку, так как он считал колокола друзьями и испытывал одинаковое наслаждение, как слушать их звон, так и смотреть на них, представляя себе, чем их приводили в движение и какими молотами били по их звучным бокам. Быть может, его неудержимое влечение к ним объяснялось тем, что между ними и Тоби было много общего. Во всякую погоду продолжали они висеть на своей колокольне, невзирая ни на ветер, ни на дождь, как и Тоби. Как и он, они видели только наружные стены всех домов, не приближаясь никогда, как и он, к яркому свету, видневшемуся через окна, к дыму, вырывавшемуся через трубы пылающих каминов. И они, и он были лишены всякого участия в пользовании вкусными вещами, которые проносились через ворота или решетки кухонь поварам, приготовлявшим из них соблазнительные блюда; одинаково видели они сквозь окна множество движущихся фигур, то с молодыми, красивыми и приятными лицами, то наоборот. Хотя Тоби, часто стоя на улице незанятым, задумывался надо всем виденным им, он все-таки не лучше, чем колокола, мог дать себе отчет, откуда люди приходили, куда они шли, или, когда губы их шевелились, относилось ли к нему хоть одно ласковое слово из всех, что ими говорились в течение целого года!
Когда Тоби стал замечать, что привязывается к колоколам, что первоначальное чувство простого любопытства, вызвавшее знакомство с ними, превращается в более прочную и близкую связь, он, не будучи казуистом (что он, впрочем, и сознавал), не стал останавливаться на соображениях и причинах, приведших его к этому увлечению, что могу подтвердить и я. Но, тем не менее, я хочу сказать и говорю, что как физические отправления Тоби, как, например, результаты действия пищеварительных органов, достигались сами собою, благодаря их сложной работе, о которой он не имел понятия и был бы крайне удивлен, если бы понял, в чем дело, так и его умственные способности без его ведома и воли приводились в движение целой системой колесиков и пружин и породили его привязанность к колоколам.
Если бы вместо слова «привязанность», я сказал бы «любовь», то я бы не отказался и от этого слова, так как даже оно не было бы достаточным для определения чувства Тоби; настолько оно было сложно. В своей простоте он доходил до того, чтобы придавать колоколам характер чего-то необычайного и торжественного. Постоянно слыша их и никогда не видя, он их себе представлял чем-то загадочным. Они находились так неимоверно высоко и так далеко от него, звон их был полон такой мощной, такой глубокой мелодии, что внушал ему какой-то благоговейный трепет. Иногда, когда он взирал на темные стрельчатые окна башни, он как бы ждал призыва – не колоколов, а существа, голос которого звучал ему в их перезвоне. Все это заставляло Тоби с негодованием отвергать дурную о них молву, что они водятся с нечистым; он считал непозволительным допускать подобные предположения даже в помыслах.
Словом, колокола эти постоянно занимали его слух, наполняли его мысли, всегда вызывая в нем чувство глубокого благоговения. Не раз, разинув рот, он так впивался глазами в колокольню, на которой они висели, что у него делались судороги в шее, и ему приходилось, к обыкновенным прогулкам рысцой, прибавить два-три лишних конца, чтобы отходить свою шею.
Как раз когда в один из очень холодных дней, он был занят этим лечением, прозвучало двенадцать ударов колокола, оставляя за собою гул, напоминавший жужжание исполинской пчелы, залетевшей внутрь колокольни.
– А, время обеда! – произнес Тоби, продолжая рысцою огибать церковь, и глубоко вздохнув.
Нос у него побагровел, веки были красны, он все мигал ими, поднимая плечи чуть не до ушей; ноги мерзли и начинали коченеть. Очевидно, он замерзал.
– Да-да, время обеда, – повторил Тоби, как при боксе, нанося правой рукавицей удары животу, будто наказывая его за то, что ему было так холодно.
– Ай-ай-ай! – продолжал он вздыхать, а затем несколько шагов сделал в полном молчании.
– Это ничего! – вдруг проговорил он, круто оборвав свои рассуждения и, остановившись, с большою заботливостью и некоторым беспокойством стал ощупывать нос от кончика до основания. Пространство, по которому его пальцам приходилось двигаться, было невелико в виду мелких размеров его носа, почему он скоро и покончил с этим делом.
– А я-то думал, что его уже нет! – сказал он, вновь шагая. – К счастью я ошибся! Хотя, конечно, я бы не имел основания на него обижаться, если бы он даже покинул меня; ведь в дурную погоду его служба не из легких, и за свой труд он плохо вознаграждается, так как не нюхает даже табака. Я уж не говорю о том, что в лучшие минуты, когда он чувствует приятное благоухание, то это обыкновенно или запах чужих обедов, или пекарен.
Эти размышления заставили его вернуться к мыслям, которые он прервал своим беспокойством о целости носа.
– Ничего так аккуратно не повторяется ежедневно, – сказал он, – как наступление обеденного часа, и ничего нет менее верного, как появление самого обеда. Для меня потребовалось много времени, чтобы сделать это открытие. Хотелось бы мне знать, не следовало ли уступить мое открытие какому-нибудь господину для помещения его в газетах и объявления в парламенте?..
Конечно, это была не иначе как шутка, потому что Тоби встряхнул головою, как бы порицая самого себя.
– Господи, – воскликнул он, – газеты ведь переполнены наблюдениями не лучше моего! Ну, а парламент?.. Вот вам газета прошлой недели, – сказал он, вынимая из кармана грязный мятый лист, – полная различных заметок. И каких еще! Я, как и всякий, интересуюсь новостями, – добавил он, медленно складывая газету, чтобы вновь положить ее в карман, – но признаюсь, что теперь я почти с отвращением отношусь к газетам. Мне прямо таки страшно читать их! Я решительно не понимаю, что будет с нами, бедными людьми! Дай бог, чтобы с новым годом нам стало легче жить!
– Папа, где ты там? Папа! – раздался недалеко нежный голос.
Но Тоби не слышал его и продолжал бегать взад и вперед, разговаривая как в бреду, сам с собою.
– Мне кажется, – продолжал он, – что мы уже не способны ни быть хорошими, ни стремиться к добру, ни делать добро. Я слишком мало в юности учился, чтобы суметь понять, являемся ли мы на землю с известными обязанностями и целями или без них. Иногда мне кажется, что да; иногда, что нет, что мы являемся какими-то самозванцами. Я временами до того сбиваюсь с толку, что чувствую себя неспособным связать двух мыслей; выяснить, есть ли в нас что-нибудь доброе, или мы рождаемся все безусловно порочными. Кажется, что мы творим вещи ужасающие и причиняем окружающим массу страданий. Вечно на нас жалуются и всегда все настороже против нас; так или иначе, но все газеты переполнены статьями, касающимися исключительно нас. Разве при таком положении вещей стоит говорить о Новом годе? Я несу свой рок, как и многие другие; лучше даже многих, так как я силен как лев, а таких людей немного найдется. Но если предположить, что Новый год не про нас, если мы действительно только бесправно пришедшие на землю – тогда что?
– Папа, папа! – вновь произнес нежный голос.
На этот раз Тоби услышал его и, вздрогнув, остановился. Взор его, обращенный далеко, в самое сердце Нового года, как бы ищущий ответ на его сомненья, скользнул вокруг и глаза его встретились с глазами его дочери.
Это были лучистые глаза! Глаза, в которые надо было окунуться, чтобы проникнуть в их глубину; черные глаза, которые как зеркало отражали другие, искавшие их. Это не были глаза кокетки или глаза соблазнительницы; нет, то были глаза ясные, спокойные, правдивые, терпеливые, просветленные и одухотворенные искрою божественности; глаза, в которых отражалась чистота и правда; глаза, светящиеся бодростью, энергией, молодой и свежей надеждой, несмотря на двадцать лет трудовой, полной лишения жизни. Глаза эти проникли прямо в душу Тоби, и он как будто услышал слова: «Я думаю, мы хоть немножко нужны на земле, хоть капельку».
Тоби поцеловал губы, столь близкие этим глазам и взял дочь обеими руками за щеки.
– Ну что, моя радость? – сказал он. – Я никак не ожидал тебя сегодня, Мэг.
– Да и я не рассчитывала прийти! – воскликнула молодая девушка, откинув голову и улыбаясь. – А между тем я здесь и не одна, и не одна!
– Ведь ты же не хочешь сказать… – заметил Тоби, осматривая с любопытством закрытую корзинку, которую она держала.
– Понюхай только, дорогой папа, – отвечала Мэг, – понюхай только!
Тоби уже собрался без всяких церемоний открыть корзинку, но она остановила его руку.
– Нет-нет-нет! – повторяла она с детской игривостью. – Пусть удовольствие немножко продлится. Я приподниму уголок, только самый маленький, вот так! – добавила она, понижая голос, будто опасалась, что ее услышит кто внутри корзинки, и приоткрыла крышку. – Теперь отгадывай, что там есть!
Тоби как можно внимательнее стал обнюхивать края корзинки и воскликнул в восхищении:
– Да ведь там что-то теплое!
– Да, – ответила дочь, – не только теплое, но даже горячее! Ай-ай-ай, какое горячее!
– Ага! – зарычал Тоби, подпрыгнув. – Это что-то прямо раскаленное.
– Ха-ха-ха! – смеялась Мэг. – Это действительно что-то раскаленное! Но что же это такое, отец? Ты не можешь отгадать, а ты должен. Я ничего не выну из корзинки, пока ты не отгадаешь. Не торопись же так!.. Подожди, я еще приподниму крышку! Теперь отгадывай!
Мэг совершенно искренне боялась, что он отгадает слишком быстро. Она отступила, протягивая ему корзину, приподняв свои хорошенькие плечики, закрыв рукой ухо, как бы из боязни, что он слишком скоро отгадает, и в то же время она продолжала тихо смеяться.
Тоби, положив руки на колени и протянув нос к корзинке, глубоко вдыхал распространяющийся из-под крышки запах. Казалось, что он вдыхал веселящий газ – до такой степени лицо его просияло.
– Ах, это что-то вкусное! Это не… Нет, я не думаю, чтобы это была кровяная колбаса.
– Нет-нет, ничего похожего! – воскликнула в восторге Мэг.
– Нет, – сказал Тоби, понюхав еще раз – это… Это что-то мягче колбасы, это что-то очень хорошее, и притом оно каждую минуту становится вкуснее! Не ножки ли это?
Мэг была счастлива: он так же был далек от истины теперь, как думая, что это колбаса.
– Не печенка ли? – спросил сам себя Тоби. – Нет… Чувствуется что-то более тонкое, что-то, чего нет в печенке. Не поросячьи ли это ножки? Нет. Те не так сильно пахнут… Петушиные гребешки?.. Сосиски?.. А, теперь я знаю что! Это угорь!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: