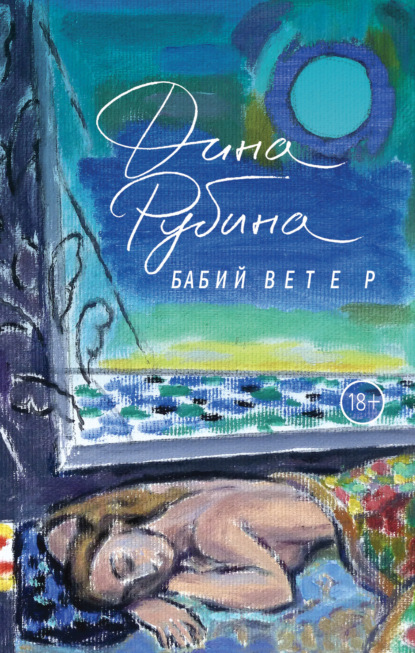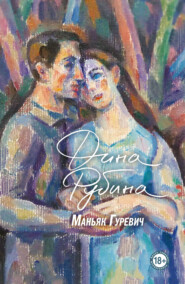По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бабий ветер
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Добреду, доползу… дойду!
Я не могла дождаться, когда теть-Таня доползет в своем поэтическом бреду, когда наконец откроется дверь; стояла, приплясывая от нетерпения. И бросалась бегом по коридору – мимо сундуков, стиральных ребристых досок, тазов, корыт и велосипедов – скорее здороваться со всеми! В первую очередь, с Юриком-Шуриком: мы сталкивались где-то на середине коридора и сразу хватались за руки: шесть рук, предвкушающих «безумные идиотства!». Близнецы – они были моими ровесниками, – круглоголовые, смуглые кудрявые мальчики, похожие на портрет писателя Дюма, сделанный под копирку. Хотя Дюма был мулатом, а Юрик-Шурик носили не мулатскую фамилию Губерман.
Эта коммуналка была необычной, малонаселенной: первая же дверь из прихожей направо вела к Васильчиковым. Мария Леонардовна Васильчикова, из дворян, жила в одной комнате с дочкой Лизой и зятем Валей. Все они были красавцами. Лиза похожа на актрису Аллу Ларионову, а Валя – на Сергея Столярова в роли Садко. Когда добрый молодец Валя выходил в майке на кухню, еврейская интеллигенция подтягивалась и переставала картавить. Валя знал себе цену и позволял на себя смотреть.
После кельи Васильчиковых шла бывшая зала – там обитали Губерманы, целая компания веселых сумасбродов. Помимо Юрика-Шурика в семье были еще две дочери, девушки-погодки Нина и Милочка – хохотушки, журналистки и поэтессы, всем в квартире раздавшие прозвища. Так, их отец, архитектор Даниил Маркович Губерман, высокий волоокий брюнет, отзывался на кличку «Овод», мать семейства, известный гинеколог Неля Израилевна, послушно откликалась на «Гуль-Гуль», близнецов сестры именовали «Тяни-Толкай»… ну, и всем соседям в свое время отвесили по кличке, порой совершенно необъяснимой.
Населенная Губерманами огромная комната была когда-то не просто залой, а залой танцевальной – метров сорок; ее разгородили ширмами и шкафами на скромные и более-менее индивидуальные отсеки для детей и родителей, и в каждом можно было нескучно провести время. По этому семейному городку я путешествовала весь день, как по трюму корабля Вест-Индской компании, рассматривая множество диковинных и очаровательных штуковин. Если сейчас время от времени я пускаюсь разыскивать старинные чашечки на «гараж-сейлах», в этом виновата старая танцевальная зала Губерманов. Помню там мраморный бюст Вольтера с выпученными, как в базедовой болезни, глазами; серебристый гобелен с бокастыми и задастыми купальщицами; две эмалевые мелко-чешуйчатые, русалочьи китайские вазы и целые стада фарфоровых пастушек и кавалеров в жеманных позах… Всем предводительствовал высокородный сервант. Он стоял особняком – пузатый и крутогрудый, как китайский мандарин, увитый резными плодами и листьями, с рядами хрустальных фужеров, рюмок и ваз на полках и с чем-то еще, неразличимым, смутным, но наверняка прекрасным: Неля Израилевна была хорошим гинекологом, и ее сервант красноречиво об этом свидетельствовал.
За Губерманами следовала комната теть-Тани – длинный, нелепый и неудобный пенал с единственным во всей квартире балконом. Это был наш любимый наблюдательный пункт. Вообще-то, балкон считался аварийным, и детям выходить на него строжайше запрещалось. Мы дожидались, пока взрослые в танцевальной зале размякнут и втянутся в политику, а дальше уже можно было не бояться: они разогревались, вскипали с каждой минутой, покрикивали, фыркали, хохотали (анекдоты!), иногда вопили…
А мы осваивали балкон, откуда разворачивался широкий познавательный обзор в любое время года. Под нами простирался проходной двор с Тарасовской на Владимирскую, через который ручейком шел народ. В поле видимости попадал пищевой институт имени Микояна, где учились будущие директора и шеф-повара ресторанов, кафе и столовых – по большей части, женского пола. К институту примыкало общежитие, и его окна отлично просматривались, если тихонько стибрить трофейный бинокль Овода. Вооружившись биноклем, Юрик-Шурик высматривали в девичьих окнах такие подробности крупным планом, какие не мог подарить им в то время ни отечественный, ни зарубежный – доступный в прокате – кинематограф.
В праздничные дни, когда киевляне валом валили на Крещатик приобщиться к салюту, все мы по очереди (балкон аварийный!) выходили к сверкающим, бухающим, пыхающим, прыскающим – таким близким! – залпам, взмывавшим с Владимирской горки и с Центрального стадиона. Салют – это ж была главная тусовка того времени!
У теть-Тани кругом-бегом сияла стерильная чистота.
Все отдать, чтоб побороть недуг!
Цель – свята. Но святость этой мысли
Требует предельно чистых рук
И в прямом, и в переносном смысле!
Даже перила балкона лишены были малейшей пылинки в прямом смысле, так что ступать надо было на цыпочках и не дай бог не капнуть, не наследить, не оставить жирных пятен. Теть-Тане дети кликухи не дали – видимо, ее побаивались. Зато Бусе Абрамовне, чья комната по коридору следовала сразу за теть-Таниной, была пожалована кличка «Бусинка», и она на нее охотно и добродушно отзывалась, не забывая, впрочем, добавить: лечишь-лечишь этих засранцев с пеленок, а они тебя держат за попугая. Буся Абрамовна не была попугаем, она была лучшим педиатром Киева: миниатюрная женщина с большими роговыми очками на крошечном носике – в ней и самой было что-то щемяще детское.
В метре от Бусинкиной двери находилась вместительная, всегда чистая ванная комната, с белейшей эмалевой ванной, до краев наполненной водой: до пятого этажа вода доходила только ночью, а мыться и смывать в уборной (тут была уборная – настоящая, с восхитительным старорежимным унитазом, – по сей день моя задница помнит ностальгическую гладкость деревянного полированного сиденья!) требовалось и днем и ночью.
Затем шла комната, где жила суровая женщина Фрида Аркадьевна, редактор чего-то партийного – о ней не помню ничего, кроме вечной огромной чалмы из полотенца, а из-под чалмы торчал восковой клювастый нос: она страдала мигренями, тихонько постанывала, а на кухонном ее столе всегда возвышалась стопка «гранок – не бегайте, разлетятся!!!». За комнатой болезной Фриды – огромная кухня с антресолями, где лежали елочные игрушки, свернутые матрасы на случай приезжих гостей и какие-то таинственные коробки, которые никто никогда не открывал.
А вот из кухни узкая дверь в углу вела в комнатушку для прислуги, куда влезла железная кровать, коврик и тумбочка. Там-то и жили – внимание! – бабушка с внучкой. Бабушку звали Изольда Витольдовна Миллер, была она немецкой коммунисткой, когда-то в двадцатые годы сменившей фатерлянд на новое справедливое для всех трудящихся отечество. А внучку – и вновь внимание! – звали Лида, Лидка, Лидуся… Да-да, наша с тобой общая подруга, в те времена голенастая, очкастая, дико-черно-кудрявая непослушная девочка с чернющими бровями, из-за которых близнецы дали ей кличку… и опять правильно! – «Бровеносец».
Она доводила бабку тем, что вообще не ела. Никогда и ничего. Во всяком случае, я не видела, чтобы в детстве Лидка хоть раз что-то жевала. Из их закутка вечно рвались вопли на немецком – Изольда Миллер знала, конечно, русский язык, но в минуты волнений переходила на родной. И когда входила в раж, печатным шагом маршировала в кухню. Там над столами висели: медные и алюминиевые половники и кастрюльки, репродукция картины Саврасова «Грачи прилетели», расписные блюда, деревянные полочки с приправами и прочее бытовое барахло. Стена над столиком Изольды была совершенно белой, просто беленной известкой, и я всегда думала, да и сейчас считаю, что безбоженная коммунистка Изольда Миллер оставила ее себе вместо иконостаса. Не то чтобы молилась на нее, но в минуты потрясения основ обращалась в это горючее никуда, заменявшее ей икону или, не знаю уж, стену плача, что ли… Словом, бросалась к своей тюремной стене и, потрясая сжатыми кулаками, яростно восклицала: «Ich bin von Еisen!!!» («Я из железа!!!») с трагическим видом Медеи перед убийством детей.
А Лидка, свободная, тощая и огневая, вырывалась на волю – к нам, поиграть.
Тайна исчезновения ее родителей мучила нас все детство. Впоследствии оказалось, что тайны никакой нет: ее родители, веселые молодые велосипедисты, отправившись на воскресную прогулку за город, попали в одночасье под грузовик, потерявший управление. Зачем странной Изольде скрывать это от Лидки, которой в момент гибели родителей исполнилось два года, было неясно: но каждый раз, когда Лида – уже подростком – пыталась завести разговор о родителях, бабка вышагивала на кухню и, потрясая сжатыми кулаками перед своей стеной плача, грозно выкрикивала:
– Их бин фон айзен!!!
Я думаю, ты уже догадалась, что Изольде дана была кличка «Железяка»?
…Это была единственная из известных мне коммуналок, где никто не проклинал соседа в спину, не завидовал, не стучал кулаками в дверь уборной с криком: «Ты выйдешь, сука, хоть обосрись!!!»
Все пережили катастрофу – и личную, и народную. У Марии Леонардовны Васильчиковой погиб муж, и ее уплотнили до пятнадцати метров на троих. У Губерманов вся родня ушла по приказу в Бабий Яр. «Бусинка» была фронтовым врачом, муж погиб под Новороссийском, мать и сестры лежали все по той же прописке – в Бабьем Яру. Суровая женщина, редактор Фрида Аркадьевна, всю войну прошла фронтовым корреспондентом, а детский дом с двумя ее девочками-подростками был разбомблен при посадке на поезд, увозивший детей в эвакуацию в Самарканд.
Изольда же по кличке «Железяка»… О, Изольда, наоборот, накануне войны как раз вышла из лагеря, но сразу была схвачена и отправлена уже в другой лагерь как немецкая шпионка, хотя изначально у себя в Германии когда-то была еврейкой, то есть вряд ли бы выгадала от подобной коммерции.
И только теть-Таня считалась самой удачливой: ее муж Михаил вернулся с войны раненым, но живым. А умер позднее от прободения язвы – мирной счастливой смертью, любой позавидует!
Так что же, что мне так нравилось на Тарасовской? Может, в те годы еще неосознанно, я была благодарна дому, где мне подарили жизнь? Ведь мама, забеременев мною, явилась к Неле Израилевне проситься на аборт. Время, говорила, тяжелое, неустроенное – стоит ли плодить босяков…
– Стоит, – сказала Неля Израилевна. – Босяку хорошо в любое время, ему много не нужно. – И чуть не силком стащила маму с кресла. Когда я прибегала к ним в «танцевальную залу», Неля Израилевна хватала меня, тискала и кричала маме: «Ну, какую я тебе девочку спасла?!»
А «Бусинка» всех нас лечила, даже когда мы вырастали. И еврейский вопрос никогда на Тарасовской не стоял: так уж случилось, национальный пасьянс так сложился – почти все жильцы квартиры оказались евреями, оберегать следовало русских.
Собрания темпераментных жильцов проходили на кухне. Председательствовал, само собой, «Овод», Даниил Маркович Губерман, и все шумели, возражали, перебивали друг друга, предлагали и настаивали, выдвигали встречные вопросы и замечания… Дремал и похрапывал один лишь Валя, добрый молодец Садко. И когда председатель ставил на голосование «вопрос-ребром» и произносил свое окончательное: «Все согласны?» – Валя просыпался и отвечал: «Йо!» – ибо между собой все говорили на идиш, якобы для немецкого удобства Изольды. Способный же Валя все быстро схватывал. «Русский родной, – говорил он, – а идиш стал двоюродным».
Мне до сих пор иногда снится Тарасовская, каламбуры и розыгрыши Нины и Милочки, беготня младших, снисходительный смех «Овода», отчаянное «Ich bin von eisen!!!» Изольды. Я там много чего набралась, успевая лишь головой вертеть, впитывая словечки, жесты, манеру шутить…
В начале семидесятых дом поставили на капитальный ремонт и всем жильцам дали отдельные квартиры. Добрый молодец Садко и его красавица жена взяли в детдоме девочку и толково ее воспитали себе на радость. «Бусинка» получила однокомнатную в самом центре города, очень тосковала по соседям, продолжала лечить детей, дарила, раздаривала свой дом и скоро умерла.
Изольда тоже умерла, лет пять перед тем сражаясь с мучительным раком легких, до последнего устраивая дела внучки и переживая, что та слишком уж худощава, – видать, она и вправду была из железа. А Лидка уехала поступать в Москву, закончила там историко-архивный, неудачно вышла замуж, разошлась, опять попыталась переломить судьбу, и вновь неудачно… В начале девяностых эмигрировала в Штаты с одной только целью: спасти меня. И, похоже, это ей удалось (их бин фон айзен!), и до сих пор выходит неплохо, как ты сама наблюдала.
Губерманы за свою танцевальную залу получили аж две отдельных двухкомнатных квартиры в Чоколовке (тогда это были выселки, а сейчас вполне приличный район), и молодежь зажила собственной кипучей жизнью.
Нина и Милочка, хохотушки, поэтессы (у дверей всегда толпились женихи, и все – артисты-шахматисты-журналисты), быстро повыскакивали замуж. Одна выбрала-таки шахматиста, мастера спорта, посвятила ему жизнь – варила кашки для его больного желудка. Он бросил ее на двадцать пятом году совместной жизни, одинокую; драгоценный, он оказался стерильным. Другая – та наоборот, перебрала пяток мужей самых разных профессий, конфессий и наций, родила от каждого по птенцу и в конце концов вышла замуж за пожилого британца, владельца сети химчисток в Ливерпуле, который платил и платит за образование всех ее детей.
А насмешники-братики, кудрявые мулаты Юрик-Шурик по кличке «Тяни-Толкай», тоже разбежались: один в Израиль, другой, к сожалению, на небеса…
* * *
…Да, мой дорогой товарищ писатель, я поняла: ты просишь еще о парикмахерской. Это запросто: надо только сосредоточиться и вызвать в воображении те распрекрасные времена. Итак…
Из разговоров мастеров на профессиональные темы помню только: где взять, ничего нет, сделай сам. Привозились откуда-то бутыли, канистры, и все принимались что-то смешивать, разводить, переливать и взбалтывать – лить из говна пули.
Бог мой, я ж все помню, все! Могу мысленно пробежаться по прейскуранту и объявить те далекие цены, такие трогательные сегодня, даже поэтичные. Могу подробно описать этапы всех процедур.
Самой противной была химическая завивка. Но мастера ликовали: работа на весь день.
В химической завивке мне не нравились тухлый едкий запах и внешний вид клиента после процедуры: все становились похожими на одного и того же облезлого пуделя. Но самой страшной была термическая завивка.
Парикмахерша Роза произносила два магических слова: «Дора, агрегат!» И Дора вносила агрегат – небольшой чемоданчик, обитый черным дерматином. Жертву сажали на стул, волосы накручивали на маленькие металлические трубочки, которые втискивались в большие металлические цилиндры. От каждого цилиндра шли проводки к толстому проводу. Все это вставлялось в розетку и… елочка, зажгись! Раза два при мне «елочка» не зажигалась, из нее валил черный дым, и жертва, окутанная, как Саваоф, зловонным облаком, визгливо проклинала «это говнючее заведение!».
С тех пор я никогда не пользуюсь электробигудями, плойками, раскаленными щипцами: помню с детства и боюсь.
Возможно, первые бигуди и появились в Древней Греции, но до нашей парикмахерской они добрались гораздо позже. Не могу припомнить, чтобы у кого-то были нормальные бигуди; «химию» крутили на папильотки, и те лежали в плетеной корзинке. Процесс соблюдения санитарных норм как-то выпал из моей памяти, так что не скажу, стерилизовались ли они. Зато опыт их изготовления был у меня лет с четырех. Ни мне, ни маме, ни всей моей родне пользоваться папильотками не пришлось – нам, мама говорила, вьющиеся волосы подарил «наш готеню», – а вот соседки, все как одна, по утрам выходили на кухню, как федотовский «Свежий кавалер». И я часто помогала им нарезать жесткую оберточную бумагу на квадратики и сворачивать в тугие трубочки. Мне и в нашей парикмахерской доверяли эту важную работу, чтобы не слонялась без дела и не совала нос куда не следует.
Нет, конечно, самым безопасным, самым интересным и красивым был маникюр. К маникюрному столику приставлялась маленькая табуретка, которую почему-то все называли «слоником», – синяя, крепкая, с дыркой-сердечком посередке; я взбиралась на нее и смотрела, как мама опускает руки в мыльную воду и теть-Таня священнодействует… Крепенькая девчонка в сарафане и коричневых сандалиях с дырочками, я смотрела на красные, бордовые, лиловые, оранжевые и перламутровые пузырьки лака… Лет двадцать спустя, наблюдая из корзины шара алые, золотые и перламутровые ноготки перьевых облаков на горизонте, я вспоминала о долгих минутах и часах, когда, стоя на «слонике», глядела на цветистую роскошь будущей моей свободы и думала: как же медленно идет жизнь…
К сожалению, у папы было другое мнение о маникюре. Он его высказывал, листая мой школьный дневник: «Если так пойдет и дальше, станешь теть-Таней». И, предваряя мамино возмущение, ловко уходил от скандала: «Таню люблю, но ее узкую мысль – нет». И тут его слабый русский попадал в точку. Теть-Таня была милой, доброй, смешливой и услужливой; к тому же, мастером своего дела была. А я в свои небольшие годы не могла отличить широкую мысль от узкой. Мне нравилось все, о чем она шепотом рассказывала маме: о мужчине, с которым познакомилась на курорте, о его жене, с которой он хочет развестись, и о чем-то совсем секретном, что сообщала маме на ухо, и обе они заливались нежной таинственной зарей, и обе при этом хорошели…
Теть-Таня знала всё про всех, и мы с мамой узнавали от нее – с кем живут, что едят и что носят, с кем спят, от чего лечатся, с кем ругаются все мастера, кассиры, экспедиторы, уборщица Дора и даже клиенты. Этот мирок мне нравился, я мотала на ус его бытовые, криминальные и романтические тайны, рецепты интернациональных кухонь, советы по борьбе с перхотью. Обычная парикмахерская жизнь, и теть-Таня была не одинока: все говорили об одном и том же: беззлобно, подробно, интимно, бесстыдно, и все-таки сопереживая. Так было в конце 60-х, в конце 70-х, в конце 80-х. А потом…
Потом я полетела-полетела и улетела…
Но уверена, что в киевских парикмахерских и по сей день ничего не изменилось.
2
…Если твоя героиня будет маникюршей или косметологом, пусть живет и работает здесь, в Соединенных Штатах Америки. Именно в Нью-Йорке. Знаешь почему? Здесь богаче, пестрее и диковинней панорама физиономий и судеб. В эту кипящую кастрюлю только руку запусти – что угодно выудишь: от царевны-лягушки до зубастого крокодила. К тому же, здесь у тебя, у автора, больше возможностей сменить декорации: твоя героиня, если она не дура, в нужный момент спрячет подальше свой лайсенс косметолога (слово «лицензия» у нас, русскоязычных, не употребляется) и вытащит из лифчика старенький скромный лайсенс маникюрши… И отлично сможет подрабатывать в дедском садике. Не удивляйся, это не описка. Я имею в виду наваристую халтуру в «деДском садике», дневном клубе для стариков. И это – отдельная поэма, со своим сюжетом, своими героями, своими драмами и уморительными скетчами – оставим на потом. Причем учти: дома для престарелых, где тоже заработок – дай боже, существенно отличаются от «садика». Подробности – в свое время. Короче: вперед, забрасывай героиню рискованным десантом в наши края, ибо «там» и «здесь» – это разные миры, разные производственные отношения, разная мораль. А я готова подрядиться доморощенным Вергилием, дабы таскать ее по всем кругам здешнего рая. Твое дело – наводящие вопросы.
Я не могла дождаться, когда теть-Таня доползет в своем поэтическом бреду, когда наконец откроется дверь; стояла, приплясывая от нетерпения. И бросалась бегом по коридору – мимо сундуков, стиральных ребристых досок, тазов, корыт и велосипедов – скорее здороваться со всеми! В первую очередь, с Юриком-Шуриком: мы сталкивались где-то на середине коридора и сразу хватались за руки: шесть рук, предвкушающих «безумные идиотства!». Близнецы – они были моими ровесниками, – круглоголовые, смуглые кудрявые мальчики, похожие на портрет писателя Дюма, сделанный под копирку. Хотя Дюма был мулатом, а Юрик-Шурик носили не мулатскую фамилию Губерман.
Эта коммуналка была необычной, малонаселенной: первая же дверь из прихожей направо вела к Васильчиковым. Мария Леонардовна Васильчикова, из дворян, жила в одной комнате с дочкой Лизой и зятем Валей. Все они были красавцами. Лиза похожа на актрису Аллу Ларионову, а Валя – на Сергея Столярова в роли Садко. Когда добрый молодец Валя выходил в майке на кухню, еврейская интеллигенция подтягивалась и переставала картавить. Валя знал себе цену и позволял на себя смотреть.
После кельи Васильчиковых шла бывшая зала – там обитали Губерманы, целая компания веселых сумасбродов. Помимо Юрика-Шурика в семье были еще две дочери, девушки-погодки Нина и Милочка – хохотушки, журналистки и поэтессы, всем в квартире раздавшие прозвища. Так, их отец, архитектор Даниил Маркович Губерман, высокий волоокий брюнет, отзывался на кличку «Овод», мать семейства, известный гинеколог Неля Израилевна, послушно откликалась на «Гуль-Гуль», близнецов сестры именовали «Тяни-Толкай»… ну, и всем соседям в свое время отвесили по кличке, порой совершенно необъяснимой.
Населенная Губерманами огромная комната была когда-то не просто залой, а залой танцевальной – метров сорок; ее разгородили ширмами и шкафами на скромные и более-менее индивидуальные отсеки для детей и родителей, и в каждом можно было нескучно провести время. По этому семейному городку я путешествовала весь день, как по трюму корабля Вест-Индской компании, рассматривая множество диковинных и очаровательных штуковин. Если сейчас время от времени я пускаюсь разыскивать старинные чашечки на «гараж-сейлах», в этом виновата старая танцевальная зала Губерманов. Помню там мраморный бюст Вольтера с выпученными, как в базедовой болезни, глазами; серебристый гобелен с бокастыми и задастыми купальщицами; две эмалевые мелко-чешуйчатые, русалочьи китайские вазы и целые стада фарфоровых пастушек и кавалеров в жеманных позах… Всем предводительствовал высокородный сервант. Он стоял особняком – пузатый и крутогрудый, как китайский мандарин, увитый резными плодами и листьями, с рядами хрустальных фужеров, рюмок и ваз на полках и с чем-то еще, неразличимым, смутным, но наверняка прекрасным: Неля Израилевна была хорошим гинекологом, и ее сервант красноречиво об этом свидетельствовал.
За Губерманами следовала комната теть-Тани – длинный, нелепый и неудобный пенал с единственным во всей квартире балконом. Это был наш любимый наблюдательный пункт. Вообще-то, балкон считался аварийным, и детям выходить на него строжайше запрещалось. Мы дожидались, пока взрослые в танцевальной зале размякнут и втянутся в политику, а дальше уже можно было не бояться: они разогревались, вскипали с каждой минутой, покрикивали, фыркали, хохотали (анекдоты!), иногда вопили…
А мы осваивали балкон, откуда разворачивался широкий познавательный обзор в любое время года. Под нами простирался проходной двор с Тарасовской на Владимирскую, через который ручейком шел народ. В поле видимости попадал пищевой институт имени Микояна, где учились будущие директора и шеф-повара ресторанов, кафе и столовых – по большей части, женского пола. К институту примыкало общежитие, и его окна отлично просматривались, если тихонько стибрить трофейный бинокль Овода. Вооружившись биноклем, Юрик-Шурик высматривали в девичьих окнах такие подробности крупным планом, какие не мог подарить им в то время ни отечественный, ни зарубежный – доступный в прокате – кинематограф.
В праздничные дни, когда киевляне валом валили на Крещатик приобщиться к салюту, все мы по очереди (балкон аварийный!) выходили к сверкающим, бухающим, пыхающим, прыскающим – таким близким! – залпам, взмывавшим с Владимирской горки и с Центрального стадиона. Салют – это ж была главная тусовка того времени!
У теть-Тани кругом-бегом сияла стерильная чистота.
Все отдать, чтоб побороть недуг!
Цель – свята. Но святость этой мысли
Требует предельно чистых рук
И в прямом, и в переносном смысле!
Даже перила балкона лишены были малейшей пылинки в прямом смысле, так что ступать надо было на цыпочках и не дай бог не капнуть, не наследить, не оставить жирных пятен. Теть-Тане дети кликухи не дали – видимо, ее побаивались. Зато Бусе Абрамовне, чья комната по коридору следовала сразу за теть-Таниной, была пожалована кличка «Бусинка», и она на нее охотно и добродушно отзывалась, не забывая, впрочем, добавить: лечишь-лечишь этих засранцев с пеленок, а они тебя держат за попугая. Буся Абрамовна не была попугаем, она была лучшим педиатром Киева: миниатюрная женщина с большими роговыми очками на крошечном носике – в ней и самой было что-то щемяще детское.
В метре от Бусинкиной двери находилась вместительная, всегда чистая ванная комната, с белейшей эмалевой ванной, до краев наполненной водой: до пятого этажа вода доходила только ночью, а мыться и смывать в уборной (тут была уборная – настоящая, с восхитительным старорежимным унитазом, – по сей день моя задница помнит ностальгическую гладкость деревянного полированного сиденья!) требовалось и днем и ночью.
Затем шла комната, где жила суровая женщина Фрида Аркадьевна, редактор чего-то партийного – о ней не помню ничего, кроме вечной огромной чалмы из полотенца, а из-под чалмы торчал восковой клювастый нос: она страдала мигренями, тихонько постанывала, а на кухонном ее столе всегда возвышалась стопка «гранок – не бегайте, разлетятся!!!». За комнатой болезной Фриды – огромная кухня с антресолями, где лежали елочные игрушки, свернутые матрасы на случай приезжих гостей и какие-то таинственные коробки, которые никто никогда не открывал.
А вот из кухни узкая дверь в углу вела в комнатушку для прислуги, куда влезла железная кровать, коврик и тумбочка. Там-то и жили – внимание! – бабушка с внучкой. Бабушку звали Изольда Витольдовна Миллер, была она немецкой коммунисткой, когда-то в двадцатые годы сменившей фатерлянд на новое справедливое для всех трудящихся отечество. А внучку – и вновь внимание! – звали Лида, Лидка, Лидуся… Да-да, наша с тобой общая подруга, в те времена голенастая, очкастая, дико-черно-кудрявая непослушная девочка с чернющими бровями, из-за которых близнецы дали ей кличку… и опять правильно! – «Бровеносец».
Она доводила бабку тем, что вообще не ела. Никогда и ничего. Во всяком случае, я не видела, чтобы в детстве Лидка хоть раз что-то жевала. Из их закутка вечно рвались вопли на немецком – Изольда Миллер знала, конечно, русский язык, но в минуты волнений переходила на родной. И когда входила в раж, печатным шагом маршировала в кухню. Там над столами висели: медные и алюминиевые половники и кастрюльки, репродукция картины Саврасова «Грачи прилетели», расписные блюда, деревянные полочки с приправами и прочее бытовое барахло. Стена над столиком Изольды была совершенно белой, просто беленной известкой, и я всегда думала, да и сейчас считаю, что безбоженная коммунистка Изольда Миллер оставила ее себе вместо иконостаса. Не то чтобы молилась на нее, но в минуты потрясения основ обращалась в это горючее никуда, заменявшее ей икону или, не знаю уж, стену плача, что ли… Словом, бросалась к своей тюремной стене и, потрясая сжатыми кулаками, яростно восклицала: «Ich bin von Еisen!!!» («Я из железа!!!») с трагическим видом Медеи перед убийством детей.
А Лидка, свободная, тощая и огневая, вырывалась на волю – к нам, поиграть.
Тайна исчезновения ее родителей мучила нас все детство. Впоследствии оказалось, что тайны никакой нет: ее родители, веселые молодые велосипедисты, отправившись на воскресную прогулку за город, попали в одночасье под грузовик, потерявший управление. Зачем странной Изольде скрывать это от Лидки, которой в момент гибели родителей исполнилось два года, было неясно: но каждый раз, когда Лида – уже подростком – пыталась завести разговор о родителях, бабка вышагивала на кухню и, потрясая сжатыми кулаками перед своей стеной плача, грозно выкрикивала:
– Их бин фон айзен!!!
Я думаю, ты уже догадалась, что Изольде дана была кличка «Железяка»?
…Это была единственная из известных мне коммуналок, где никто не проклинал соседа в спину, не завидовал, не стучал кулаками в дверь уборной с криком: «Ты выйдешь, сука, хоть обосрись!!!»
Все пережили катастрофу – и личную, и народную. У Марии Леонардовны Васильчиковой погиб муж, и ее уплотнили до пятнадцати метров на троих. У Губерманов вся родня ушла по приказу в Бабий Яр. «Бусинка» была фронтовым врачом, муж погиб под Новороссийском, мать и сестры лежали все по той же прописке – в Бабьем Яру. Суровая женщина, редактор Фрида Аркадьевна, всю войну прошла фронтовым корреспондентом, а детский дом с двумя ее девочками-подростками был разбомблен при посадке на поезд, увозивший детей в эвакуацию в Самарканд.
Изольда же по кличке «Железяка»… О, Изольда, наоборот, накануне войны как раз вышла из лагеря, но сразу была схвачена и отправлена уже в другой лагерь как немецкая шпионка, хотя изначально у себя в Германии когда-то была еврейкой, то есть вряд ли бы выгадала от подобной коммерции.
И только теть-Таня считалась самой удачливой: ее муж Михаил вернулся с войны раненым, но живым. А умер позднее от прободения язвы – мирной счастливой смертью, любой позавидует!
Так что же, что мне так нравилось на Тарасовской? Может, в те годы еще неосознанно, я была благодарна дому, где мне подарили жизнь? Ведь мама, забеременев мною, явилась к Неле Израилевне проситься на аборт. Время, говорила, тяжелое, неустроенное – стоит ли плодить босяков…
– Стоит, – сказала Неля Израилевна. – Босяку хорошо в любое время, ему много не нужно. – И чуть не силком стащила маму с кресла. Когда я прибегала к ним в «танцевальную залу», Неля Израилевна хватала меня, тискала и кричала маме: «Ну, какую я тебе девочку спасла?!»
А «Бусинка» всех нас лечила, даже когда мы вырастали. И еврейский вопрос никогда на Тарасовской не стоял: так уж случилось, национальный пасьянс так сложился – почти все жильцы квартиры оказались евреями, оберегать следовало русских.
Собрания темпераментных жильцов проходили на кухне. Председательствовал, само собой, «Овод», Даниил Маркович Губерман, и все шумели, возражали, перебивали друг друга, предлагали и настаивали, выдвигали встречные вопросы и замечания… Дремал и похрапывал один лишь Валя, добрый молодец Садко. И когда председатель ставил на голосование «вопрос-ребром» и произносил свое окончательное: «Все согласны?» – Валя просыпался и отвечал: «Йо!» – ибо между собой все говорили на идиш, якобы для немецкого удобства Изольды. Способный же Валя все быстро схватывал. «Русский родной, – говорил он, – а идиш стал двоюродным».
Мне до сих пор иногда снится Тарасовская, каламбуры и розыгрыши Нины и Милочки, беготня младших, снисходительный смех «Овода», отчаянное «Ich bin von eisen!!!» Изольды. Я там много чего набралась, успевая лишь головой вертеть, впитывая словечки, жесты, манеру шутить…
В начале семидесятых дом поставили на капитальный ремонт и всем жильцам дали отдельные квартиры. Добрый молодец Садко и его красавица жена взяли в детдоме девочку и толково ее воспитали себе на радость. «Бусинка» получила однокомнатную в самом центре города, очень тосковала по соседям, продолжала лечить детей, дарила, раздаривала свой дом и скоро умерла.
Изольда тоже умерла, лет пять перед тем сражаясь с мучительным раком легких, до последнего устраивая дела внучки и переживая, что та слишком уж худощава, – видать, она и вправду была из железа. А Лидка уехала поступать в Москву, закончила там историко-архивный, неудачно вышла замуж, разошлась, опять попыталась переломить судьбу, и вновь неудачно… В начале девяностых эмигрировала в Штаты с одной только целью: спасти меня. И, похоже, это ей удалось (их бин фон айзен!), и до сих пор выходит неплохо, как ты сама наблюдала.
Губерманы за свою танцевальную залу получили аж две отдельных двухкомнатных квартиры в Чоколовке (тогда это были выселки, а сейчас вполне приличный район), и молодежь зажила собственной кипучей жизнью.
Нина и Милочка, хохотушки, поэтессы (у дверей всегда толпились женихи, и все – артисты-шахматисты-журналисты), быстро повыскакивали замуж. Одна выбрала-таки шахматиста, мастера спорта, посвятила ему жизнь – варила кашки для его больного желудка. Он бросил ее на двадцать пятом году совместной жизни, одинокую; драгоценный, он оказался стерильным. Другая – та наоборот, перебрала пяток мужей самых разных профессий, конфессий и наций, родила от каждого по птенцу и в конце концов вышла замуж за пожилого британца, владельца сети химчисток в Ливерпуле, который платил и платит за образование всех ее детей.
А насмешники-братики, кудрявые мулаты Юрик-Шурик по кличке «Тяни-Толкай», тоже разбежались: один в Израиль, другой, к сожалению, на небеса…
* * *
…Да, мой дорогой товарищ писатель, я поняла: ты просишь еще о парикмахерской. Это запросто: надо только сосредоточиться и вызвать в воображении те распрекрасные времена. Итак…
Из разговоров мастеров на профессиональные темы помню только: где взять, ничего нет, сделай сам. Привозились откуда-то бутыли, канистры, и все принимались что-то смешивать, разводить, переливать и взбалтывать – лить из говна пули.
Бог мой, я ж все помню, все! Могу мысленно пробежаться по прейскуранту и объявить те далекие цены, такие трогательные сегодня, даже поэтичные. Могу подробно описать этапы всех процедур.
Самой противной была химическая завивка. Но мастера ликовали: работа на весь день.
В химической завивке мне не нравились тухлый едкий запах и внешний вид клиента после процедуры: все становились похожими на одного и того же облезлого пуделя. Но самой страшной была термическая завивка.
Парикмахерша Роза произносила два магических слова: «Дора, агрегат!» И Дора вносила агрегат – небольшой чемоданчик, обитый черным дерматином. Жертву сажали на стул, волосы накручивали на маленькие металлические трубочки, которые втискивались в большие металлические цилиндры. От каждого цилиндра шли проводки к толстому проводу. Все это вставлялось в розетку и… елочка, зажгись! Раза два при мне «елочка» не зажигалась, из нее валил черный дым, и жертва, окутанная, как Саваоф, зловонным облаком, визгливо проклинала «это говнючее заведение!».
С тех пор я никогда не пользуюсь электробигудями, плойками, раскаленными щипцами: помню с детства и боюсь.
Возможно, первые бигуди и появились в Древней Греции, но до нашей парикмахерской они добрались гораздо позже. Не могу припомнить, чтобы у кого-то были нормальные бигуди; «химию» крутили на папильотки, и те лежали в плетеной корзинке. Процесс соблюдения санитарных норм как-то выпал из моей памяти, так что не скажу, стерилизовались ли они. Зато опыт их изготовления был у меня лет с четырех. Ни мне, ни маме, ни всей моей родне пользоваться папильотками не пришлось – нам, мама говорила, вьющиеся волосы подарил «наш готеню», – а вот соседки, все как одна, по утрам выходили на кухню, как федотовский «Свежий кавалер». И я часто помогала им нарезать жесткую оберточную бумагу на квадратики и сворачивать в тугие трубочки. Мне и в нашей парикмахерской доверяли эту важную работу, чтобы не слонялась без дела и не совала нос куда не следует.
Нет, конечно, самым безопасным, самым интересным и красивым был маникюр. К маникюрному столику приставлялась маленькая табуретка, которую почему-то все называли «слоником», – синяя, крепкая, с дыркой-сердечком посередке; я взбиралась на нее и смотрела, как мама опускает руки в мыльную воду и теть-Таня священнодействует… Крепенькая девчонка в сарафане и коричневых сандалиях с дырочками, я смотрела на красные, бордовые, лиловые, оранжевые и перламутровые пузырьки лака… Лет двадцать спустя, наблюдая из корзины шара алые, золотые и перламутровые ноготки перьевых облаков на горизонте, я вспоминала о долгих минутах и часах, когда, стоя на «слонике», глядела на цветистую роскошь будущей моей свободы и думала: как же медленно идет жизнь…
К сожалению, у папы было другое мнение о маникюре. Он его высказывал, листая мой школьный дневник: «Если так пойдет и дальше, станешь теть-Таней». И, предваряя мамино возмущение, ловко уходил от скандала: «Таню люблю, но ее узкую мысль – нет». И тут его слабый русский попадал в точку. Теть-Таня была милой, доброй, смешливой и услужливой; к тому же, мастером своего дела была. А я в свои небольшие годы не могла отличить широкую мысль от узкой. Мне нравилось все, о чем она шепотом рассказывала маме: о мужчине, с которым познакомилась на курорте, о его жене, с которой он хочет развестись, и о чем-то совсем секретном, что сообщала маме на ухо, и обе они заливались нежной таинственной зарей, и обе при этом хорошели…
Теть-Таня знала всё про всех, и мы с мамой узнавали от нее – с кем живут, что едят и что носят, с кем спят, от чего лечатся, с кем ругаются все мастера, кассиры, экспедиторы, уборщица Дора и даже клиенты. Этот мирок мне нравился, я мотала на ус его бытовые, криминальные и романтические тайны, рецепты интернациональных кухонь, советы по борьбе с перхотью. Обычная парикмахерская жизнь, и теть-Таня была не одинока: все говорили об одном и том же: беззлобно, подробно, интимно, бесстыдно, и все-таки сопереживая. Так было в конце 60-х, в конце 70-х, в конце 80-х. А потом…
Потом я полетела-полетела и улетела…
Но уверена, что в киевских парикмахерских и по сей день ничего не изменилось.
2
…Если твоя героиня будет маникюршей или косметологом, пусть живет и работает здесь, в Соединенных Штатах Америки. Именно в Нью-Йорке. Знаешь почему? Здесь богаче, пестрее и диковинней панорама физиономий и судеб. В эту кипящую кастрюлю только руку запусти – что угодно выудишь: от царевны-лягушки до зубастого крокодила. К тому же, здесь у тебя, у автора, больше возможностей сменить декорации: твоя героиня, если она не дура, в нужный момент спрячет подальше свой лайсенс косметолога (слово «лицензия» у нас, русскоязычных, не употребляется) и вытащит из лифчика старенький скромный лайсенс маникюрши… И отлично сможет подрабатывать в дедском садике. Не удивляйся, это не описка. Я имею в виду наваристую халтуру в «деДском садике», дневном клубе для стариков. И это – отдельная поэма, со своим сюжетом, своими героями, своими драмами и уморительными скетчами – оставим на потом. Причем учти: дома для престарелых, где тоже заработок – дай боже, существенно отличаются от «садика». Подробности – в свое время. Короче: вперед, забрасывай героиню рискованным десантом в наши края, ибо «там» и «здесь» – это разные миры, разные производственные отношения, разная мораль. А я готова подрядиться доморощенным Вергилием, дабы таскать ее по всем кругам здешнего рая. Твое дело – наводящие вопросы.