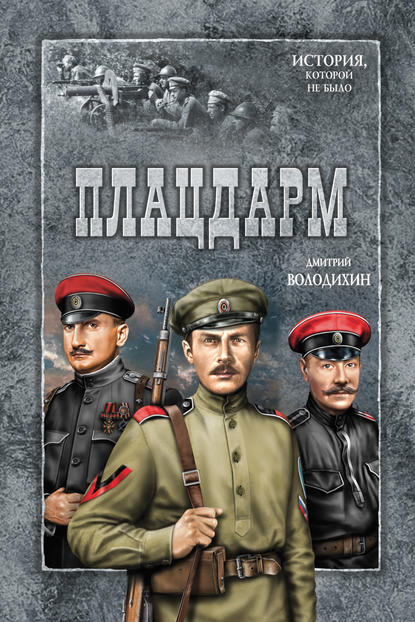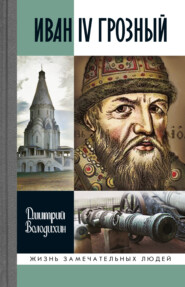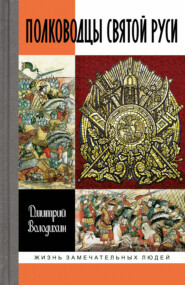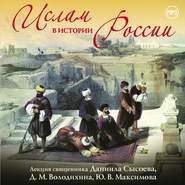По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плацдарм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пуля щелкнула по земле, подняв фантанчик пыли. Туровльский, залегший рядом с Беленьким, вскрикнул.
– Вы ранены? – я подскочил к нему с желанием помочь, перевязать, если надо. После «Рагнарёка», после картины гибнущих дроздовцев, я испытал приступ жгучего упрямства: нет, война, нет, гадина, не надо тебе забирать людей почем зря, что бы ты себе не вбила в голову! Они тебе не гнилая сарпинка, которой грош цена в базарный день! Они…
Туровльский смеется.
– Господа! От красных одно разорение. Вот, убедитесь: продырявили штаны и в щепы разбили ложку…
В руке у него – исковерканный черенок и чашечка деревянной крестьянской ложки (отдельно), да еще пара мелких щепок.
И тут Алферьев поднимается во весь рост, выходит шагов на десять перед нашей спасительной ложбиной и поворачивается к нам лицом. Взводный стоит на открытом, простреливаемом месте.
– Калики! А ну, вперед! Встали, барбосы, встали! Разлеглись, лежебоки! Разнежились! Встать, я сказал! Встать! И за мной…
С этими словами он вынул револьвер из кобуры и направился к станции. Алферьев передвигался быстро, почти бегом. Вижу, встает Беленький, бормоча слова молитвы. До меня доносится: «…помилуй мя, грешного…» Встает Епифаньев, жестоко матеря все на свете. Поднимается, пожевывая травинку, Вайскопф. Блохин поправляет на себе форму, словно перед танцами, и устремляется за ними. Больше всего на свете опасаясь отстать от своих, я торопливо семеню им вслед, а рядом уже и Никифоров, и Евсеичев, и Туровльский… За спиной у меня сбивчивое дыхание, какой-то тупой астматик, прости Господи, наступает на пятки, дома бы сидел, не совался бы болезный цепи нет никакой цепи нет – наверное хочет пробежать поле, пока «товарищи» крошат и колошматят залегших дроздовцев быстрее как можно быстрее еще не стреляют где спина Вайскопфа это кто это Блохин цепи нет в обойме всего два неотстреляных патрона почему не кричат ура цепи нет какая тут цепь…
Бац! Поле кончилось.
Между нами и ближайшими домами Коренева шагов полтораста. Всего несколько мгновений вижу я фигуры красноармейцев. До них вдвое меньше. Кажется, до сих пор они не замечали нас. А тут вскидывают ружья… Они сделали всего несколько выстрелов. Евсеичев заорал: «Ура-а-а-а!» – Блохин подхватил, а Вайскопф принялся швырять гранаты. Я бегу вперед, спотыкаюсь, смотреть надо под ноги, опять спотыкаюсь, болотце какое-то, неудобно… чье-то тело… Смотрю вперед. Бегут серые силуэты. Те, кто поближе – наши, те, кто подальше – красные. Надо же, все утро стояли, как скала, и вдруг за минуту сдали позицию… Выпускаю один за другим оба патрона. Останавливаюсь, чтобы перезарядить трехлинейку. И тут вода в болотце, которое я только что форсировал, поднимается столбом, меня бросает наземь.
Тряся головой, поднимаюсь на одно колено и перезаряжаю винтовку. Из-за дома выходит матрос, корабельное имя «Сметливый» у него на бескозырке, он целится в меня из пистолета. Откуда он взялся? Между нами нет и двадцати метров… Он почему-то медлит… Пальцы мои, чудесно обученные ружейной премудрости в Невидимом университете, моментом вбивают обойму как надо, я отпрыгиваю в сторону, качусь, стреляю в матроса… куда он делся? Еще раз стреляю в то место, где он только что был. Убит? Нет, пропал и не видно его.
Осторожно двигаясь по пустынной улице, я добираюсь до путей. Станционное здание горит, дым тяжкими гуашными клубами стелится по платформе. Красный бронепоезд медленно пятится, пятится, пушка его молчит, молчат пулеметы, наверное, зацепили его наши артиллеристы. Вот он уже в полуверсте от станции. Безобразные короба бронепозда, лязгнув, застыли.
Я стою один-одинешенек на перроне. Ни наших, ни «товарищей». Солнечный свет скупыми прядями просачивается сквозь облачную толщу, дым ест очи. На рельсах, в отдалении, – два мертвеца, отсюда не разобрать, – корниловцы или красные. Очень тихо. Вдалеке погромыхивает, а тут ни одна тварь не шевелится, всё застыло, всё пребывает в неподвижности. Ни ветерка, ни выстрела, ни крика. Лишь челюсти пламени вяло шевелятся, поедая грязно-коричневую тушу вокзала. Станция будто вымерла.
Я потерял своих. Я не знал, куда мне идти.
Мне трудно стало дышать. Стихия войны обступила меня со всех сторон, поднялась над головой, забила ноздри, сдавила грудь. Я тонул в ней. И хотелось бы выплыть, спастись от нее, да куда? Где тут берег? На версту под ногами – холодная глубина. Ледяная ее темень, будто серная кислота, растворяла невинность моей души.
У самого перрона стоял клен в багряном венце, халате из золотой парчи и зеленых бархатных шароварах. И я зацепился за него взглядом. Ах, как хорош был этот клен, кажется, я никогда не видел ничего прекраснее.
В те секунды я всем сердцем поверил: этот клен – остров посреди моря войны, он меня ко дну не пустит…
Тотчас под царь-деревом появилось трое ударников. По выражению их лиц и по неспешности шагов я понял, что дело сделано, больше в атаку ходить не придется. Хорошо. Хорошо…
Серая громада бронепоезда харкнула огнем.
Рвануло у самых корней клена. Он покачнулся, взметнул ветви и начал медленно рушиться в пыль, поднятую взрывом.
– Господи! – вскрикнул я в ужасе. – Господи…
Неожиданно падение великана прекратилось. Пыль осела, и я увидел три трупа, а также вывороченный из земли корень. Остальные корни удержали накренившийся клен от падения. Как видно, глубоко сидели они в земле.
* * *
Вечером Блохин и Епифаньев влили в меня столько самогона, что я, наконец, вернул себе здравый ум.
Почему тогда не выстрелил матрос? Пожалел меня? Вряд ли. Не успел прицелиться? Но у него было времени хоть отбавляй. Вернее всего, он просто был напуган боем, перестрелкой на дуэльном расстоянии, всюду чудились ему враги – спереди, сзади, за соседними домами… Нажал бы курок, и воскокожая костлявая бабушка с остро отточенной железякой выкупила бы мою жизнь ценой пули.
Впрочем, нет пользы в этих рассуждениях. Много встретилось мне премудрости в сегодняшнем дне, и еще того больше страха, давившего и корежившего мою душу. А осталась после всего одна простая, незамысловатая правда: мы взяли станцию Коренево, множество наших погибло, а меня смерть не взяла.
Не переживай, солдат! Не думай много, и пуля тебя не заметит.
Жив, цел, и спасибо, Господи! Уберег…
Вторая декада сентября 1919 года, город Фатеж
– …поручика Левковича… подлечился… ранения?
– …не ждать в полку… не вернется… занят.
– То есть как…
– …Усадьба под Курском… местечко… нанял четверых головорезов… разбираться с крестьянами…
– …не вовремя, да и глупо…
– Это хуже, чем глупость, это эгоистический характер. Либо мужики пристрелят его там, либо он сделает так, чтобы они начали стрелять нам в спину.
Дверь, истошно скрипнув, отворилась пошире – сама собой, под действием ветерка. Теперь я мог расслышать каждое слово.
Вайскопф снял фуражку и вытер пот со лба. Глубокомысленно почесав подбородок, он изрек:
– Да-а… лебеда-а…
– Именно-с. Неразрешимая коллизия. С одной стороны, я могу понять его, но с другой – кое-что возвратить невозможно, как прошлогодний снег. Время переломилось, голубчик.
И прапорщик Туровльский получил от Вайскопфа еще одну «лебеду». Должно быть перед умственными очами барона сейчас поворачивалась, маня соблазнительными округлостями, какая-нибудь, прости, Господи, куриная ножка. Или миска с кашей. Или просто сухарь, дубовый армейский сухарь, успевший раз пять подмокнуть, нещадно, до зубовредительства, высушенный, серовато-бурый, мука-пополам-с-дрянью-всех-сортов, удивительный, сладостный сухарь, съеденный еще полдня назад, на ходу, последний, заветный… И катился бы поручик Левкович с мужиками и усадьбой хоть в Лондон, хоть в Тифлис, к чему сейчас этот поручик Левкович? Только сбивает с мыслей о действительно важных вещах…
– …подумай сам, голубчик, как нам правильно поступить с мужиками? Ведь как бы ни повернулось, а земли-то не удержать. Или все-таки…
– Да-а… лебеда…
Армейский сухарь – он как солнце. Нет его, и повсюду тьма кромешная, а есть он рядышком, хоть бы в кармане шинели, то вот тебе и тепло, и с востока свет.
На следующий день, в окрестностях города Фатеж
Последнюю неделю что ни день, все рядом со мной оказывался Никифоров. То подойдет спросить о какой-то ерунде, то заведет разговор о святой и желанной Москве, то понадобится ему солдатская обиходная мелочишка, пуговица или, скажем, бархотка для чистки сапог… Это потом мы о бархотках забыли, а первое время все до единого пытались выглядеть щегольски, хотя бы и в той мешковине, которую напялило на нас интендантство. Правда, получалось это лишь у троих: Алферьева, Евсеичева и Вайскопфа. У человеческих душ есть непостижимо сложная классификация, начертанная рукой Высшего Судии. Увидеть ее – всю, целиком – людям не дано. Никому. Разве лишь древний Адам, бродивший по райскому саду прежде грехопадения, мог видеть и знать такое, чего нынче не увидит и не познает целый институт философии. Но маленький кусочек высокого знания может открыться любому человеку, хотя бы и самому простому. Вот мне и открылось: существуют специальные военные души; им походы и сражения милее мира, и армейская форма на таких людях всегда сидит, как литой доспех на статуе кондотьера. В нашем взводе – три военных души.
Поутру я сидел на лавочке у хаты, закинув ногу за ногу и положив тетрадку с первыми страницами дневника на бедро. Химический карандаш затупился, буквы выходили толстые, неровные, писал я медленно и все время переводил взгляд от неровных строчек повыше. А повыше тянулось к дальнему лесу чистое поле, ощетинившееся соломенно-бурой стерней, да косогор, весь в меленькой желтизне дикой редьки, да выбеленная солнцем сельская дорога, да темное железо прудов у соседней деревеньки, косо перечеркнутой кольями нашего плетня. Не хотелось мне выводить буковки на бумаге, лучше бы я любовался полем и слушал птиц, а еще лучше пошел бы к колодцу, набрал там сладкой ледяной воды и напился вволю.
Но я считал важным зафиксировать вчерашнюю дурость поручика Левковича.
Совсем недавно у меня появилась странная уверенность: необходимо запоминать все увиденное и услышанное, каждое слово, каждый жест, каждый поворот головы, каждый выстрел. А лучше – не запоминать, а записывать. Мое дело – вести анналы самой страшной русской войны. Но для кого? Зачем? Не понимаю. Надо, и все тут, ничего рационального, одна интуиция, то ли мистика. Будто евангелист Иоанн, шепчет на ухо слова грядущего: «Иди и смотри!». Я подчиняюсь, иду и смотрю… Тогда евангелист Марк, прямой и честный, как солдат, никогда не изменявший долгу, шепчет с другой стороны: «Не лги! Пиши так, будто Христос заглядывает тебе через плечо!». И я не лгу.
Рядом со мной, на той же лавочке, сидит Никифоров. Он выпросил у меня иголку с ниткой и теперь неумело починяет гимнастерку. Дырища на спине расползлась во все стороны: тонкий материал, истончившийся от пота, да и сам по себе не лучшего качества, через неделю будет разрезан нитками, если только я, по неопытности, не переоценил его долгожительство.
Миша Никифоров очень стесняется обобрать труп. Но он непременно сделает это, поскольку иголка и нитка – плохие помощники в его беде. Неприкаянный человек, Никифоров ничего не умел делать руками, ни к кому не умел прибиться, говорил все больше невпопад, одевался неряшливо, то и дело сажал на гимнастерку пятна. Выручала его дивная неприхотливость. Он мало ел, мало спал, неделями ходил в дырявом, нимало не беспокоясь. Там, в далеком 2005-м, он так и не научился водить семейный «мерс», купленный на его деньги и доставшийся после развода жене: она-то вертела баранку как заправский Шумахер… Никифоров жил в старой однокомнатной квартире, получая несметные, с точки зрения среднего россиянина, суммы. Деньги растекались на сущую ерунду, да он сам не мог понять, куда, когда и на что… Миша был необыкновенно хорош в главном: он гонял со счета на счет миллионы долларов, и банковское начальство с восторженным хрипом подсчитывало результаты его игр. Кроме того, он представлял собой пример утонченно-красивого мужчины: грацильный, долговязый, высоколобый, Никифоров отрастил интеллигентскую бородку, не прилагая к тому никаких усилий, даже не ровняя ее ножницами; в задумчивости он становился похожим на человека, решающего, быть или не быть этическому императиву, хотя бы и размышлял на самом деле о соленых огурчиках; вандейковские руки в путах вен, длинные «аристократические» пальцы… Женщины сами находили его, соблазняли, пугались и оставляли. Он воспринимал нежданных первопроходиц своего мира как проявления водяной стихии: сегодня дождь, а завтра снег, нужно бы надеть галоши, но вечером сменить их на коньки: по соседству есть чудный каток и непременно случится мороз…