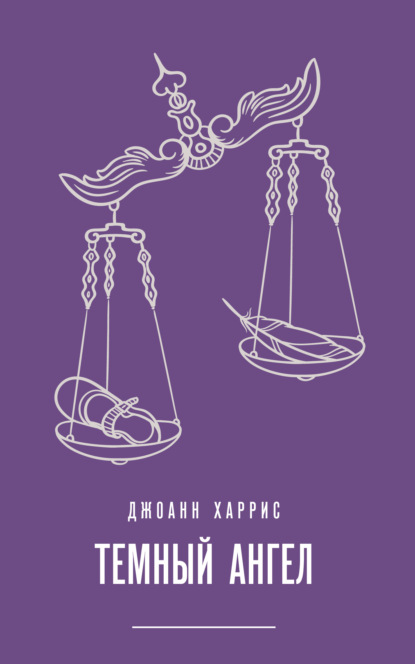По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Темный ангел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одно время я писал детей – найти красивого ребенка, которого мать готова отпускать на несколько часов в день, не составляло труда. Я платил им по шиллингу в час – больше, чем некоторые из этих женщин зарабатывали сами. Итак, я, как обычно, гулял по парку и вдруг заметил женщину с ребенком – некрасивую особу в черном и маленькую девочку лет десяти, чье лицо было столь поразительно, что я остановился, не в силах отвести глаз.
Худенькая девочка, закутанная в уродливую черную пелерину, словно с чужого плеча, двигалась с необычным для своего возраста изяществом, но более всего меня потряс цвет ее волос – скорее белые, чем золотистые, и на мгновение она показалась маленькой старухой, подкидышем, оставленным эльфами среди веселых румяных ребятишек. У нее было заостренное, почти бесцветное лицо, большие бездонные глаза, не по-детски пухлые, но бледные губы и удивительно трагичный вид.
Я сразу понял, что она должна стать моей натурщицей: ее лицо обещало бесконечное разнообразие выражений, каждое движение было законченным шедевром. Глядя на нее, я знал, что этот ребенок станет моим спасением. Ее невинность тронула меня не меньше, чем ее призрачная красота, и, когда я подбежал к ним, в глазах у меня стояли слезы. От нахлынувших чувств я в первый миг даже не мог говорить.
Девочку звали Эффи, унылая женщина была ее теткой. Эффи жила над крошечной шляпной мастерской в переулке Кранбурн с теткой и матерью, которые были, что называется, приличными. Мать, миссис Шелбек, – вдова, находившаяся в стесненных обстоятельствах. Эта визгливая назойливая женщина ничем не походила на дочь. Предложенная мной плата в размере одного шиллинга в час была принята без какой-либо скромности и стеснения, обычно выказываемыми в благородных семьях. Подозреваю, предложи я половину этой суммы, ее приняли бы с той же готовностью – а я бы с радостью предложил вдвое больше.
Эффи пришла ко мне в студию – как подобает, в сопровождении тетки – в ту же неделю, и все утро я рисовал ее с различных ракурсов: в профиль, в три четверти, анфас, с поднятой головой, с опущенной… каждый набросок прелестнее предыдущего. Она великолепно позировала: не вертелась, не ерзала, как другие дети, не болтала и не улыбалась. Казалось, студия и сам я внушали ей благоговейный страх, она с почтительным изумлением тайком изучала меня. Потом пришла снова, а на третий раз – уже одна, без тетки.
Первая моя картина с ней называлась «Сон сестры», как стихотворение Россетти, и на ее создание ушло два месяца – совсем небольшое полотно, однако я тешил себя мыслью, что сумел передать взгляд Эффи. На картине она лежала в узкой детской кроватке, на белой стене над ней – распятие, а рядом на прикроватном столике – ваза с ветвями остролиста, символ Рождества. Брат сидит на полу у кровати, зарывшись головой в одеяло, а мать в черном стоит у изголовья, закрыв лицо руками. Эффи – центр картины, остальные фигуры темные и безликие, а она – в белой кружевной сорочке, которую я специально купил для этой работы, волосы рассыпаны по подушке. Одна обнаженная рука безвольно вытянута вдоль тела, другую Эффи по-детски подложила под щеку. Свет, льющийся в окно, преобразил ее, обещая избавление в смерти, чистоту и невинность тем, кто умирает в юности. Эта тема была созвучна моему сердцу, и мне суждено было повторить ее еще много раз в последующие семь лет. Иногда мне не хотелось отпускать ее домой вечерами: она так быстро росла, что я боялся потерять хоть час ее общества.
Эффи говорила мало, она была тихой малышкой, не знавшей заносчивости и тщеславия, присущих ее ровесницам. Она читала с жадностью, особенно поэзию: Теннисона, Китса, Байрона, Шекспира, – все это едва ли подходило для ребенка, хотя ее матери, похоже, было все равно. Однажды я решился поговорить об этом с Эффи, и, к моей радости, она прислушалась к советам. Я объяснил ей, что поэзия – превосходное чтение для, скажем, молодого человека, но она чересчур сложна для впечатлительной девочки. Слишком часто мотивы ее непристойны, а страсти чрезмерны. Я предложил ей несколько хороших, полезных книг и был счастлив, когда она покорно их прочла. В ней не было своенравия; казалось, она создана воплощением всех женских добродетелей, без единого недостатка, присущего этому полу.
Я никогда не стремился оставаться холостяком, но мои профессиональные отношения с женщинами приучили меня не доверять им, и я уже сомневался, найду ли когда-нибудь ту, «одну из тысячи», добродетельную и послушную. Однако чем больше я общался с Эффи, тем больше очаровывали меня ее красота и ласковый нрав, и я понял, что идеал можно сотворить.
В Эффи не было грязи – она была абсолютно чиста. Я не сомневался, что если сумею выпестовать черты ее характера, если буду с отеческой заботой следить за ее развитием, то взращу нечто редкое и чудесное. Я бы защитил ее от остального мира, воспитал себе ровню. Я буду лепить свой идеал, а потом, когда все будет готово… И тут нахлынуло воспоминание о маленьком мальчике в комнате, полной запретных чудес, а воздух будто наполнился тонким ностальгическим ароматом жасмина. Впервые этот образ не был искажен чувством вины: я знал, что меня спасет чистота Эффи. В ней не было ничего мирского, ничего чувственного – холодная беззаботность подлинной невинности. В ней обрету я спасение.
Я нашел ей частных учителей (мне хотелось оградить ее от контактов с другими детьми), покупал ей одежду и книги. Я нанял приличную домработницу для ее матери и тетки, чтобы Эффи не приходилось тратить время, помогая по дому. Я сдружился с ее нудной матерью, чтобы почаще бывать в их доме в переулке Кранбурн, и помогал им деньгами.
Теперь я писал Эффи почти непрерывно, вспоминая об остальных моделях, только если они требовались в качестве статисток. Я сосредоточился на Эффи: двенадцатилетняя Эффи, подросшая, в очаровательных белых платьях и голубых лентах, которые ее мать покупала по моему совету; Эффи в тринадцать, четырнадцать лет, фигура изящная, как у танцовщицы; в пятнадцать, глаза и губы стали выразительнее, лицо повзрослело; в шестнадцать, светлые волосы аккуратно уложены венцом, ротик нежно очерчен, под тяжелыми веками прекрасные глаза цвета дождя, кожа такая тонкая, что кажется, будто под глазами у нее синяки.
Наверное, я рисовал и писал Эффи не меньше сотни раз: она была Золушкой, Марией, юной послушницей в «Цветке страсти», Беатриче на небесах, Джульеттой в гробу, Офелией, плетущей венок из лилий, Маленькой нищенкой в лохмотьях. Последним ее портретом того времени стала «Спящая красавица», композицией очень похожая на «Сон сестры»: Эффи снова вся в белом, как невеста или послушница, на той же детской кроватке, но волосы гораздо длиннее (я всегда убеждал ее не стричь их), спадают на пол, в вековую пыль. С потолка льются солнечные лучи, усики плюща заползли в комнату через окно. Скелет в доспехах, увитый всепроникающим плющом, словно предупреждает о том, как опасно тревожить спящую невинность. Лицо Эффи обращено к свету, она улыбается во сне и не подозревает, какое опустошение окружает ее.
Я больше не мог ждать. Пришло время разрушить сплетенные мной чары, что заставляли ее ждать меня все эти годы. Я понимал, что она очень юна, но еще год – и я могу потерять ее навсегда.
Ее мать нисколько не удивилась, что я хочу жениться на ее дочери. А готовность, с которой она дала согласие, подтвердила, что она предвидела такую возможность. В конце концов, я был богат, и, если Эффи выйдет за меня, я, разумеется, должен буду помогать ее родным, к тому же мне было почти сорок, а ей – только семнадцать. Когда я умру, все мое состояние перейдет к ней. Тетка (кислая старая дева, чьей единственной подкупающей чертой была всепоглощающая привязанность к Эффи) не одобряла этого решения. Она считала, что Эффи слишком молода, слишком ранима, она не осознает, что потребуется от нее после свадьбы. Ее возражения меня не волновали. Я заботился лишь об Эффи. Она была моей, я взрастил ее рядом с собой, как плющ на стволе дуба.
К алтарю она пошла в том самом старинном вышитом платье, в котором позировала для «Спящей красавицы».
Звезда[4 - Счастливая карта Старших арканов. В прямом положении – надежда, обновление, открытие новых горизонтов, исцеление от недугов; в перевернутом – упадок духа, разочарование в близких, предупреждает о возможной духовной слепоте, не позволяющей заметить и использовать новые возможности.]
2
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти; ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда…»
Его слова плыли черной вереницей, и я была рада, что перед службой приняла опиумную настойку. Мигрень почти прошла, оставив после себя темную прохладную пустоту, куда падали все мои мысли, далекие, как звезды.
«…гнев, распри, разногласия, ереси…»[5 - Послание к Галатам, 5, 16–20.]
Я улыбнулась себе в своем тихом мире.
Стихи звучали жестоко, но все равно оставались поэзией, неодолимой, как языческие песенки, что я распевала, прыгая со скакалкой на улице много-много лет назад, до того как вышла замуж за мистера Честера.
Прыг да скок,
Круго?м, круго?м,
И бегом, бегом, бегом.
Я вспомнила эти строки, и сердце защемило от тоски по безвозвратно ушедшим временам, когда мама была здорова, папа жив, и мы все вместе читали стихи в библиотеке нашего старого дома, еще до переулка Кранбурн. Тогда поход в церковь был праздником, поводом петь и веселиться. Боль усилилась, я сжала руки и прикусила губу, чтобы отогнать обморок. Уильям, сидевший слева от меня, состроил сочувственную мину, но я не подняла головы – мистеру Честеру не понравилось бы, если бы я улыбнулась в церкви. Над головой священника солнце освещало святого Себастьяна, пронзенного стрелами.
«Прыг да скок…»
Лицо святого было спокойно и равнодушно, как у Генри.
И вдруг я падаю, в панике взмахивая руками, открыв рот в немом ужасе… но я падаю вверх, к высокому своду церкви, я вижу позолоту и орнаменты и холодное мерцание глаз святого Себастьяна… Падение замедлилось. Голова закружилась, когда я взглянула вниз, на головы прихожан, и ужас уступил место благоговению и эйфории. Как я оказалась здесь? Может, я умерла и покинула тело, не осознавая этого? Или я сплю? Я прыгала и танцевала в воздухе, громко вскрикивая, кружась над лысой головой священника, словно ангел на острие иглы. Никто не слышал меня.
Испытывая свои новые возможности, я пронеслась, невидимая, над рядами темных голов, постепенно понимая, что слух и зрение необычайно обострились и каждая деталь видна с удивительной четкостью. Я видела даже слова священника, что поднимались к небу, словно дым из фабричной трубы. Я видела уныние паствы, изредка нарушаемое ясным лучом детской невнимательности. Присмотревшись, я поняла, что могу заглянуть внутрь людей – я видела их сущность, как солнечный свет сквозь витражи. Под маской плоти пожилая женщина с кислым лицом и острым языком цвела призрачным великолепием; ребенок излучал чистую радость; молодая темноволосая женщина была ужасным колодцем мрака и смерти. Испугавшись того, что увидела в этой девушке, я изо всех сил рванула вверх.
Из-под церковного свода я разглядывала собственное брошенное тело: бледное личико в темном провале капора, побелевшие губы, голубые веки опущены. Мне хотелось презирать себя – тонкую штучку, маленькую, незначительную. Лучше смотреть на мистера Честера, на его красивое суровое лицо, или на Уильяма, на его светлые волосы, спадающие на глаза.
– Марта!
Голос прозвенел в церкви, и я с любопытством оглянулась, но другие прихожане никак не отреагировали.
– Марта!
На этот раз голос звучал очень настойчиво, но священник не прервал проповеди. Только я слышала. Внизу я увидела лишь склоненные головы и сложенные на коленях руки.
В дверях церкви, запрокинув голову, словно присматриваясь к чему-то, стояла женщина. Я успела разглядеть ее лицо, волну медных кудрей под легкомысленной золотой шляпкой, и тут кто-то позвал меня по имени.
– Эффи!
Уильям повернулся к моему безжизненному телу и, увидев, что я в глубоком обмороке, стал развязывать мой чепчик.
Все еще вне тела, я с интересом наблюдала, как он ищет нюхательную соль в моей сумочке. Милый Уильям! Такой неуклюжий и искренний. Такой не похожий на брата.
Генри тоже встал, губы плотно сжаты; зыбь любопытства пробежала по скамье. Он молча поднял меня и в сопровождении Уильяма повлек по проходу. Некоторые уставились вслед, другие лишь снисходительно улыбнулись друг другу и вновь сосредоточились на службе. В конце концов, учитывая положение миссис Честер, в обмороке нет ничего необычного.
«Прыг да скок…»
У меня вдруг закружилась голова. Снова встретившись глазами с бедным, пронзенным стрелами святым Себастьяном, я почувствовала странную боль в животе, словно что-то падало. Кругом, кругом, кругом…
Осознав, что происходит, я попыталась сопротивляться, но тщетно. «Я не хочу обратно! – протестовал мой разум. – Не хочу…»
Я смутно помню, что, падая, встретилась взглядом с женщиной в золотой шляпке. Ее губы двигались, произнося незнакомое имя: «Марта»… Потом наступила темнота.
Надо мной нависло лицо Генри, его руки двигались, ослабляя шнуровку корсажа, и, плывя между сном и явью, я рассматривала чистые, четкие черты его лица, прямые брови, внимательные глаза, волосы намного темнее, чем у брата, и очень коротко остриженные. Уильям неуверенно топтался сзади. Увидев, что я открыла глаза, он подскочил с нюхательной солью.
– Эффи? Как ты…
Генри повернулся к нему.
– Не стой тут как дурак! – с холодной яростью рявкнул он. – Найди извозчика. Живо! – И Уильям ушел, бросив последний взгляд на меня через плечо. – Этот мальчишка слишком много о тебе думает, – добавил Генри. – И не скрывает этого… – Он вдруг оборвал сам себя. – Ты можешь стоять?
Я кивнула.
Худенькая девочка, закутанная в уродливую черную пелерину, словно с чужого плеча, двигалась с необычным для своего возраста изяществом, но более всего меня потряс цвет ее волос – скорее белые, чем золотистые, и на мгновение она показалась маленькой старухой, подкидышем, оставленным эльфами среди веселых румяных ребятишек. У нее было заостренное, почти бесцветное лицо, большие бездонные глаза, не по-детски пухлые, но бледные губы и удивительно трагичный вид.
Я сразу понял, что она должна стать моей натурщицей: ее лицо обещало бесконечное разнообразие выражений, каждое движение было законченным шедевром. Глядя на нее, я знал, что этот ребенок станет моим спасением. Ее невинность тронула меня не меньше, чем ее призрачная красота, и, когда я подбежал к ним, в глазах у меня стояли слезы. От нахлынувших чувств я в первый миг даже не мог говорить.
Девочку звали Эффи, унылая женщина была ее теткой. Эффи жила над крошечной шляпной мастерской в переулке Кранбурн с теткой и матерью, которые были, что называется, приличными. Мать, миссис Шелбек, – вдова, находившаяся в стесненных обстоятельствах. Эта визгливая назойливая женщина ничем не походила на дочь. Предложенная мной плата в размере одного шиллинга в час была принята без какой-либо скромности и стеснения, обычно выказываемыми в благородных семьях. Подозреваю, предложи я половину этой суммы, ее приняли бы с той же готовностью – а я бы с радостью предложил вдвое больше.
Эффи пришла ко мне в студию – как подобает, в сопровождении тетки – в ту же неделю, и все утро я рисовал ее с различных ракурсов: в профиль, в три четверти, анфас, с поднятой головой, с опущенной… каждый набросок прелестнее предыдущего. Она великолепно позировала: не вертелась, не ерзала, как другие дети, не болтала и не улыбалась. Казалось, студия и сам я внушали ей благоговейный страх, она с почтительным изумлением тайком изучала меня. Потом пришла снова, а на третий раз – уже одна, без тетки.
Первая моя картина с ней называлась «Сон сестры», как стихотворение Россетти, и на ее создание ушло два месяца – совсем небольшое полотно, однако я тешил себя мыслью, что сумел передать взгляд Эффи. На картине она лежала в узкой детской кроватке, на белой стене над ней – распятие, а рядом на прикроватном столике – ваза с ветвями остролиста, символ Рождества. Брат сидит на полу у кровати, зарывшись головой в одеяло, а мать в черном стоит у изголовья, закрыв лицо руками. Эффи – центр картины, остальные фигуры темные и безликие, а она – в белой кружевной сорочке, которую я специально купил для этой работы, волосы рассыпаны по подушке. Одна обнаженная рука безвольно вытянута вдоль тела, другую Эффи по-детски подложила под щеку. Свет, льющийся в окно, преобразил ее, обещая избавление в смерти, чистоту и невинность тем, кто умирает в юности. Эта тема была созвучна моему сердцу, и мне суждено было повторить ее еще много раз в последующие семь лет. Иногда мне не хотелось отпускать ее домой вечерами: она так быстро росла, что я боялся потерять хоть час ее общества.
Эффи говорила мало, она была тихой малышкой, не знавшей заносчивости и тщеславия, присущих ее ровесницам. Она читала с жадностью, особенно поэзию: Теннисона, Китса, Байрона, Шекспира, – все это едва ли подходило для ребенка, хотя ее матери, похоже, было все равно. Однажды я решился поговорить об этом с Эффи, и, к моей радости, она прислушалась к советам. Я объяснил ей, что поэзия – превосходное чтение для, скажем, молодого человека, но она чересчур сложна для впечатлительной девочки. Слишком часто мотивы ее непристойны, а страсти чрезмерны. Я предложил ей несколько хороших, полезных книг и был счастлив, когда она покорно их прочла. В ней не было своенравия; казалось, она создана воплощением всех женских добродетелей, без единого недостатка, присущего этому полу.
Я никогда не стремился оставаться холостяком, но мои профессиональные отношения с женщинами приучили меня не доверять им, и я уже сомневался, найду ли когда-нибудь ту, «одну из тысячи», добродетельную и послушную. Однако чем больше я общался с Эффи, тем больше очаровывали меня ее красота и ласковый нрав, и я понял, что идеал можно сотворить.
В Эффи не было грязи – она была абсолютно чиста. Я не сомневался, что если сумею выпестовать черты ее характера, если буду с отеческой заботой следить за ее развитием, то взращу нечто редкое и чудесное. Я бы защитил ее от остального мира, воспитал себе ровню. Я буду лепить свой идеал, а потом, когда все будет готово… И тут нахлынуло воспоминание о маленьком мальчике в комнате, полной запретных чудес, а воздух будто наполнился тонким ностальгическим ароматом жасмина. Впервые этот образ не был искажен чувством вины: я знал, что меня спасет чистота Эффи. В ней не было ничего мирского, ничего чувственного – холодная беззаботность подлинной невинности. В ней обрету я спасение.
Я нашел ей частных учителей (мне хотелось оградить ее от контактов с другими детьми), покупал ей одежду и книги. Я нанял приличную домработницу для ее матери и тетки, чтобы Эффи не приходилось тратить время, помогая по дому. Я сдружился с ее нудной матерью, чтобы почаще бывать в их доме в переулке Кранбурн, и помогал им деньгами.
Теперь я писал Эффи почти непрерывно, вспоминая об остальных моделях, только если они требовались в качестве статисток. Я сосредоточился на Эффи: двенадцатилетняя Эффи, подросшая, в очаровательных белых платьях и голубых лентах, которые ее мать покупала по моему совету; Эффи в тринадцать, четырнадцать лет, фигура изящная, как у танцовщицы; в пятнадцать, глаза и губы стали выразительнее, лицо повзрослело; в шестнадцать, светлые волосы аккуратно уложены венцом, ротик нежно очерчен, под тяжелыми веками прекрасные глаза цвета дождя, кожа такая тонкая, что кажется, будто под глазами у нее синяки.
Наверное, я рисовал и писал Эффи не меньше сотни раз: она была Золушкой, Марией, юной послушницей в «Цветке страсти», Беатриче на небесах, Джульеттой в гробу, Офелией, плетущей венок из лилий, Маленькой нищенкой в лохмотьях. Последним ее портретом того времени стала «Спящая красавица», композицией очень похожая на «Сон сестры»: Эффи снова вся в белом, как невеста или послушница, на той же детской кроватке, но волосы гораздо длиннее (я всегда убеждал ее не стричь их), спадают на пол, в вековую пыль. С потолка льются солнечные лучи, усики плюща заползли в комнату через окно. Скелет в доспехах, увитый всепроникающим плющом, словно предупреждает о том, как опасно тревожить спящую невинность. Лицо Эффи обращено к свету, она улыбается во сне и не подозревает, какое опустошение окружает ее.
Я больше не мог ждать. Пришло время разрушить сплетенные мной чары, что заставляли ее ждать меня все эти годы. Я понимал, что она очень юна, но еще год – и я могу потерять ее навсегда.
Ее мать нисколько не удивилась, что я хочу жениться на ее дочери. А готовность, с которой она дала согласие, подтвердила, что она предвидела такую возможность. В конце концов, я был богат, и, если Эффи выйдет за меня, я, разумеется, должен буду помогать ее родным, к тому же мне было почти сорок, а ей – только семнадцать. Когда я умру, все мое состояние перейдет к ней. Тетка (кислая старая дева, чьей единственной подкупающей чертой была всепоглощающая привязанность к Эффи) не одобряла этого решения. Она считала, что Эффи слишком молода, слишком ранима, она не осознает, что потребуется от нее после свадьбы. Ее возражения меня не волновали. Я заботился лишь об Эффи. Она была моей, я взрастил ее рядом с собой, как плющ на стволе дуба.
К алтарю она пошла в том самом старинном вышитом платье, в котором позировала для «Спящей красавицы».
Звезда[4 - Счастливая карта Старших арканов. В прямом положении – надежда, обновление, открытие новых горизонтов, исцеление от недугов; в перевернутом – упадок духа, разочарование в близких, предупреждает о возможной духовной слепоте, не позволяющей заметить и использовать новые возможности.]
2
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти; ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда…»
Его слова плыли черной вереницей, и я была рада, что перед службой приняла опиумную настойку. Мигрень почти прошла, оставив после себя темную прохладную пустоту, куда падали все мои мысли, далекие, как звезды.
«…гнев, распри, разногласия, ереси…»[5 - Послание к Галатам, 5, 16–20.]
Я улыбнулась себе в своем тихом мире.
Стихи звучали жестоко, но все равно оставались поэзией, неодолимой, как языческие песенки, что я распевала, прыгая со скакалкой на улице много-много лет назад, до того как вышла замуж за мистера Честера.
Прыг да скок,
Круго?м, круго?м,
И бегом, бегом, бегом.
Я вспомнила эти строки, и сердце защемило от тоски по безвозвратно ушедшим временам, когда мама была здорова, папа жив, и мы все вместе читали стихи в библиотеке нашего старого дома, еще до переулка Кранбурн. Тогда поход в церковь был праздником, поводом петь и веселиться. Боль усилилась, я сжала руки и прикусила губу, чтобы отогнать обморок. Уильям, сидевший слева от меня, состроил сочувственную мину, но я не подняла головы – мистеру Честеру не понравилось бы, если бы я улыбнулась в церкви. Над головой священника солнце освещало святого Себастьяна, пронзенного стрелами.
«Прыг да скок…»
Лицо святого было спокойно и равнодушно, как у Генри.
И вдруг я падаю, в панике взмахивая руками, открыв рот в немом ужасе… но я падаю вверх, к высокому своду церкви, я вижу позолоту и орнаменты и холодное мерцание глаз святого Себастьяна… Падение замедлилось. Голова закружилась, когда я взглянула вниз, на головы прихожан, и ужас уступил место благоговению и эйфории. Как я оказалась здесь? Может, я умерла и покинула тело, не осознавая этого? Или я сплю? Я прыгала и танцевала в воздухе, громко вскрикивая, кружась над лысой головой священника, словно ангел на острие иглы. Никто не слышал меня.
Испытывая свои новые возможности, я пронеслась, невидимая, над рядами темных голов, постепенно понимая, что слух и зрение необычайно обострились и каждая деталь видна с удивительной четкостью. Я видела даже слова священника, что поднимались к небу, словно дым из фабричной трубы. Я видела уныние паствы, изредка нарушаемое ясным лучом детской невнимательности. Присмотревшись, я поняла, что могу заглянуть внутрь людей – я видела их сущность, как солнечный свет сквозь витражи. Под маской плоти пожилая женщина с кислым лицом и острым языком цвела призрачным великолепием; ребенок излучал чистую радость; молодая темноволосая женщина была ужасным колодцем мрака и смерти. Испугавшись того, что увидела в этой девушке, я изо всех сил рванула вверх.
Из-под церковного свода я разглядывала собственное брошенное тело: бледное личико в темном провале капора, побелевшие губы, голубые веки опущены. Мне хотелось презирать себя – тонкую штучку, маленькую, незначительную. Лучше смотреть на мистера Честера, на его красивое суровое лицо, или на Уильяма, на его светлые волосы, спадающие на глаза.
– Марта!
Голос прозвенел в церкви, и я с любопытством оглянулась, но другие прихожане никак не отреагировали.
– Марта!
На этот раз голос звучал очень настойчиво, но священник не прервал проповеди. Только я слышала. Внизу я увидела лишь склоненные головы и сложенные на коленях руки.
В дверях церкви, запрокинув голову, словно присматриваясь к чему-то, стояла женщина. Я успела разглядеть ее лицо, волну медных кудрей под легкомысленной золотой шляпкой, и тут кто-то позвал меня по имени.
– Эффи!
Уильям повернулся к моему безжизненному телу и, увидев, что я в глубоком обмороке, стал развязывать мой чепчик.
Все еще вне тела, я с интересом наблюдала, как он ищет нюхательную соль в моей сумочке. Милый Уильям! Такой неуклюжий и искренний. Такой не похожий на брата.
Генри тоже встал, губы плотно сжаты; зыбь любопытства пробежала по скамье. Он молча поднял меня и в сопровождении Уильяма повлек по проходу. Некоторые уставились вслед, другие лишь снисходительно улыбнулись друг другу и вновь сосредоточились на службе. В конце концов, учитывая положение миссис Честер, в обмороке нет ничего необычного.
«Прыг да скок…»
У меня вдруг закружилась голова. Снова встретившись глазами с бедным, пронзенным стрелами святым Себастьяном, я почувствовала странную боль в животе, словно что-то падало. Кругом, кругом, кругом…
Осознав, что происходит, я попыталась сопротивляться, но тщетно. «Я не хочу обратно! – протестовал мой разум. – Не хочу…»
Я смутно помню, что, падая, встретилась взглядом с женщиной в золотой шляпке. Ее губы двигались, произнося незнакомое имя: «Марта»… Потом наступила темнота.
Надо мной нависло лицо Генри, его руки двигались, ослабляя шнуровку корсажа, и, плывя между сном и явью, я рассматривала чистые, четкие черты его лица, прямые брови, внимательные глаза, волосы намного темнее, чем у брата, и очень коротко остриженные. Уильям неуверенно топтался сзади. Увидев, что я открыла глаза, он подскочил с нюхательной солью.
– Эффи? Как ты…
Генри повернулся к нему.
– Не стой тут как дурак! – с холодной яростью рявкнул он. – Найди извозчика. Живо! – И Уильям ушел, бросив последний взгляд на меня через плечо. – Этот мальчишка слишком много о тебе думает, – добавил Генри. – И не скрывает этого… – Он вдруг оборвал сам себя. – Ты можешь стоять?
Я кивнула.