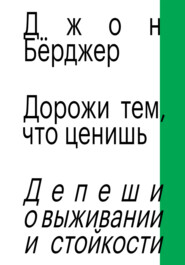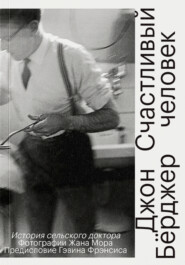По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Портреты (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ему хотелось бы многим предъявить обвинение в равнодушии. Крестьянину, который пашет землю, не замечая падения Икара. Толпе, спешащей поглазеть на Распятие. Испанским солдатам (всего лишь исполняющим приказ), не внемлющим мольбам фламандцев, которых они грабят и режут. Ко всему безразличным слепым. Пьянице, равнодушному ко всему живому. Игрокам, равнодушным к потере драгоценного времени. Богу, равнодушному к смерти.
Но Брейгель потому и не мог поверить в неотвратимость наказания виновных, что сам не знал, кого винить. Да, крестьянин, склонившийся над плугом, прозевал падение Икара, но справедливо ли возлагать на него за это всю ответственность? Неразрешимое противоречие – следствие того, что Брейгель был не в силах преодолеть инерцию собственного мышления. Он слишком рано родился и, обладая совестью, не обладал еще тем знанием, которое подвело бы под нее надежную основу. Все, что ему оставалось, – это задавать вопросы, не особенно рассчитывая получить ответы. Но даже и спрашивать напрямую было опасно, причем не только в политическом смысле: задаваться подобными вопросами означало впадать в смертный грех гордыни. Не случайно страх гордыни преследовал Брейгеля («Вавилонская башня», «Самоубийство Саула», «Падение мятежных ангелов»): он боялся, что по меркам средневекового Бога сам виновен в этом прегрешении, несмотря на всю свою осмотрительность.
Однако противоречия, которые Брейгель не мог разрешить, вынуждали его принять совершенно оригинальный способ мировидения. Он не перекладывал вину на козлов отпущения.
Брейгель не делал резкого различия между виновным и невиновным и воздерживался от морализирования. Он не вывел ни одной фигуры, которая выступала бы в качестве примера дурного или хорошего поведения. Его нравственное чувство раскрывается только в железной определенности, с которой он предъявляет на суд факты. Осудить отдельный поступок, отдельного человека было выше его сил, поскольку он не представлял, каким образом люди в массе своей могли бы вести себя иначе.
Так, не впадая в мизантропию, он был вынужден осуждать всех и каждого за то, что они не смогли стать иными.
Именно поэтому самые обычные явления у Брейгеля трактуются как преступления. Преступление нищего – в том, что он нищий, преступление слепого – в том, что он слепой, преступление солдата – в том, что он воюет, преступление снега – в том, что он замел пути-дороги. Брейгель был любимым художником Брехта. В стихотворении «О покладистости природы» Брехт писал:
Ах, пес приблудный, любви взыскуя,
Порой к сапогу живодера льнет.
И негодяю, который насилует в роще ребенка,
Кивают приветливо вязы тенистой листвой.
И дружелюбная пыль нас просит забыть поскорее,
Убийца, след окровавленный твой.[25 - Перевод М. Ваксмахера.]
Брейгель и Брехт, хотя их разделяли столетия, не могли понять одного и того же: Брейгель – инстинктивно, Брехт – намного яснее сознавая, что люди ищут убежища в собственной беспомощности. Они оба хотели донести до всех простую мысль: не сопротивляться – значит быть равнодушным, забыть или не знать – значит быть равнодушным, а быть равнодушным – значит попустительствовать злу.
Именно поэтому – а не из-за какого-то совпадения или тематического сходства – картины Брейгеля более важны для понимания современной войны или концлагерей, чем почти все, написанное после них.
8. Джованни Беллини
(работал ок. 1459–1516)
Джованни Беллини, родившийся в 1435 году, был первым великим венецианским живописцем. Я хотел бы поговорить о четырех Мадоннах, написанных им на протяжении тридцати пяти лет жизни.
Первая создана в 1470-х годах, когда ее автору было около сорока. Вторая – десятью годами позже, когда ему было за пятьдесят. Третья – еще десятилетие спустя. И последняя – около 1505 года, когда Беллини был уже семидесятилетним старцем.
Возможно, эти четыре картины покажутся кому-то не такими уж и разными. Все они трактуют один сюжет, все выполняют одну и ту же религиозную функцию. В каждой из них Мадонна одета почти одинаково. Но за изменениями, которые прослеживаются в этих полотнах, лежит одна из важнейших инноваций во всей истории искусства. Объект изображения остается прежним. Но авторское отношение к нему, способ его видения претерпевает революционную перемену.
Между первой и последней из этих картин разница больше, чем между двумя любыми произведениями одного художника в истории живописи.
Всю свою жизнь Беллини был зачарован светом. В этом нет ничего удивительного, если мы вспомним, что он работал в Венеции. Разумеется, без света вообще нет живописи. Без света мы ничего не видим. Однако свет, занимавший Беллини, был не тот свет, который уничтожает тьму и позволяет нам отличить одну вещь от другой. Скорее, это тот рассеянный свет, создающий единство всех предметов, на которые он падает. Вот почему, например, комната или пейзаж выглядят совершенно по-разному в одиннадцать утра и в три часа дня. Наверное, точнее будет сказать так: Беллини интересовался дневным светом. Свет в этом смысле предполагает пространство. Это не вспышка и не огонь – это свет дня. И всю свою жизнь художник стремился создать на полотне пространство, которое смогло бы вобрать в себя и удержать то, что мы называем «дневным светом».
На первой картине пространства очень мало. Две фигуры больше напоминают барельеф, выступающий из плоской стены, которая закрывает от зрителя все остальное. День здесь, если так можно выразиться, глубиной меньше полуметра.
На второй художник решается вывести фигуры из замкнутого пространства. Он убирает стену. Впускает дневной свет с двух сторон. Но пока во всем этом заметна его неуверенность. По-прежнему между полосами света – плоский задник-занавес, который загадочным образом свешивается прямо с неба. Кажется, что пространство робко просачивается в картину с обеих сторон.
На третьей задник отодвинут дальше, и Мадонна с младенцем теперь не смотрят нам прямо в лицо. Фигуры немного наклонены и повернуты навстречу друг другу, и этот ракурс, этот наклон уводит взгляд в пейзаж позади них, в светлый день. Однако и здесь фигуры все еще защищены, все еще отгорожены. Дело не только в заднике, но и в выступе, на котором сидит младенец. Этот выступ выполняет роль края сцены, отделяющего нас от актеров и сценического пространства.
А вот на последней картине Беллини действительно достигает желаемого результата – через тридцать лет после первой попытки. Фигуры теперь находятся в открытом поле при полном свете дня. Мы можем обойти их кругом. Вся картина, весь пейзаж столь же просторны, сколь долог день.
Что же, спросите вы, такого сложного в этой победе над пространством – в том, к чему стремился и чего достиг Беллини? Разве законы перспективы не были уже давно известны? Да, были. Но Беллини интересовала не просто иллюзия глубины. Он хотел заполнить все пространство своих картин светом – как заполняют емкость водой. Его не устраивало всего лишь написать близлежащие предметы покрупнее, а удаленные – поменьше. Он хотел найти способ показать, как равномерно падает свет между ними, и создать в каждой картине эквивалент того порядка и того единства, которые свет вносит в природу. Так что в его полотнах велась еще и борьба за создание нового порядка и единства.
На первой картине можно увидеть прямую линию правого контура тела младенца – точным продолжением этой линии служит край накидки на голове Мадонны. В картине множество подобных скрупулезно рассчитанных, продуманных приемов, и все это придает ей единство и порядок. Но поскольку картина плоская, лишена пространства, вся ее композиция создается линией. Посмотрите, например, на руки Девы Марии. Каждый палец выписан тщательно, но по отдельности, так что они напоминают клавиши пианино. И неудивительно: общая схема, которая обеспечивает единство картины, единство целого, основана на противопоставлении плоского света плоской тьме – совсем как на клавиатуре рояля.
На второй картине организующая роль линии еще сохраняется. Правда, ребенок теперь немного выдается вперед, но посмотрите на две полоски неба и пейзажа по сторонам. Они воспринимаются как плоский узор на заднем плане. Почти как зернистая поверхность мраморного парапета в нижней части картины. Но в третьей работе все начинает меняться. Здесь главную роль берут на себя не все организующие линии, а массы пространства. Теперь уже не скажешь, что пальцы Мадонны нарисованы каждый по отдельности, но вы сразу замечаете, что ее рука сложена чашечкой и обнимает руку ребенка и яблоко, точно так же, как – если бы масштаб был другим – она могла бы обнять расположенный позади холм, который вторит форме ее руки. Или поглядите на ее накидку и на то, как она плавно охватывает пространство вокруг головы Мадонны. Точно так же темные деревья кругом обходят и укрывают холм. Ну и наконец, в последней картине Беллини достигает полного единства между фигурами и наполненным светом и воздухом днем. Между сложенными руками Мадонны, касающимися друг друга кончиками пальцев, заключено пространство того же свойства, какое должна заключать в себе башня на холме. Ребенок заполняет ее лоно так же, как солнечный свет неизбежно заполняет пустоту в пейзаже. И вся природа теперь сплочена воедино. Деревья слева – не просто линии на полотне. Они существуют в пейзаже и пространстве. Птица на ветке привлекает наш взгляд, заставляя его скользнуть к верхушкам деревьев, а затем сдвинуться немного правее, – и траектория нашего взгляда точно повторяется в позе склонившейся Мадонны.
Так интерес к дневному свету вел Беллини к победе над пространством, к такому соотнесению человека с природой, какого до него еще не было. И последствия этого открытия действительно выходят далеко за пределы искусства.
Первая картина, почти византийская, еще принадлежит Средним векам, это образ на церковной стене, который отсекает всякое движение и мельтешение мира. К этому образу можно приблизиться только со стороны лица и только для того, чтобы помолиться. Но на последней картине мы видим молодую мать на лугу. Дело не только в том, что у нее нет нимба: к ней можно теперь приблизиться с любой стороны, даже сзади, и это означает, что она является частью природы, на которую тоже можно смотреть отовсюду, задавать вопросы, исследовать. Нет больше фиксированной точки зрения, нет фиксированного центра. Человек, как в античном мире, который тогда открывала для себя эпоха Возрождения, сам стал центром, и потому он волен идти куда хочет.
Между первой и последней картиной Христофор Колумб открыл Америку, Васко да Гама, обогнув Африку, добрался до Индии, а в Падуе, где учился Беллини, Коперник работал над первой теорией, доказавшей, что Земля вращается вокруг Солнца. И пространство, которое Беллини ввел в живопись, было соразмерно новой свободе, завоеванной человечеством. Вот почему разница между четырьмя картинами, написанными на один сюжет, может быть с полным правом названа революционной.
9. Маттиас Грюневальд
(ок. 1470–1528)
Впервые я приехал в Кольмар посмотреть на алтарь Грюневальда зимой 1963 года. Второй раз – ровно десять лет спустя. Я ничего специально не планировал – так уж вышло. В промежутке между двумя датами многое изменилось. Не в Кольмаре, а вообще в мире, и в моей жизни тоже. Драматическая точка поворота пришлась как раз на середину этого десятилетия. В 1968 году надежды, которые мы – кто тайно, кто явно – лелеяли в течение долгого времени, вдруг воплотились в реальность сразу в нескольких местах в мире и обрели имена и названия. И в том же самом году эти надежды были уничтожены, окончательно и бесповоротно. Впрочем, подлинная картина произошедшего стала ясна позже, а в то время многие из нас обманывали себя, отказываясь признать жестокую правду, и даже в начале 1969 года все еще стояли на том, что 1968-й может повториться.
Здесь не место анализировать, что именно изменилось в соотношении мировых политических сил. Достаточно сказать, что была проложена дорога к нормализации, как потом это назвали. Изменилась не только политика, но и тысячи и тысячи судеб, хотя об этом не прочтешь в книгах по истории. (Сравнить с этим можно, пожалуй, только иной по природе, но тоже рубежный 1848 год, и его значение для целого поколения людей запечатлено не в истории, а во флоберовском «Воспитании чувств».) Когда я смотрю на своих друзей – особенно на тех, у кого были (и есть) политические убеждения, – я вижу, насколько русло их судеб изменилось, отклонилось в тот момент от прежнего курса: так бывает и в обычной жизни каждого человека под влиянием какого-то важного события, вроде тяжелой болезни, неожиданного выздоровления, банкротства. И когда мои друзья смотрят на меня, то наверняка обнаруживают нечто сходное.
Нормализация означает, что различные политические системы, управляющие практически всем миром, могут так или иначе взаимодействовать при единственном условии: нигде ничто не должно меняться радикально. Настоящее рассматривается как неопределенно длительная фаза времени, которая обеспечивает непрерывное развитие технического прогресса.
Время больших надежд – как было накануне 1968 года – побуждает человека считать себя стойким борцом, готовым смотреть правде в лицо. Ему кажется, что победа неминуема, если не уклоняться от борьбы и не впадать в сентиментальность. Суровая правда открывает путь к свободе. Этот принцип укореняется в сознании, его принимают как аксиому. Человек живет с открытыми глазами, осознанно делает свой выбор. Надежда – чудодейственная фокусирующая линза. Глаз привыкает к ней. Сквозь нее все видится так ясно!
Живописный алтарь Грюневальда, подобно древнегреческой трагедии или роману XIX века, был задуман как нечто всеобъемлющее, способное охватить всю жизнь и объяснить весь мир. Он написан на соединенных шарнирами деревянных створках-панелях. Когда они закрывались, стоящие у алтаря видели «Распятие», по сторонам которого изображены святой Антоний и святой Себастьян. Когда створки открывались, прихожане видели «Ангельский концерт» и «Рождество», а по бокам «Благовещение» и «Воскресение». Когда створки раскрывались еще раз, появлялись святые и апостолы, а на боковых панелях – сцены из жизни святого Антония. Алтарь был заказан для монастырской больницы в Изенгейме орденом антонитов. Больница принимала жертв чумы и сифилиса. Алтарь должен был помогать больным смиренно переносить страдания.
Во время первого посещения Кольмара я видел ключ ко всему алтарю в «Распятии», а ключ к «Распятию» – в болезни. «Чем дольше я смотрю, тем больше убеждаюсь, что для Грюневальда болезнь есть истинное состояние живущего в этом мире. Болезнь – не прелюдия к смерти, как думает со страхом современный человек, а непреложное условие жизни». Так я писал в 1963 году. Тогда я не учитывал, что алтарь способен разворачиваться. Вооруженный оптикой надежды, я не нуждался в живописных панелях надежды. Я увидел воскресающего Христа «бледным как смерть»; Дева Мария, на мой тогдашний взгляд, принимает благую весть ангела как известие «о неизлечимой болезни»; пеленки младенца Христа – жалкие лохмотья (возможно, заразные), которые потом прикроют его чресла в сцене «Распятия».
Такая интерпретация произведения не была совсем произвольной. В начале XVI века жители многих стран Европы воспринимали свое время как про?клятое. И несомненно, это ощущение присутствует в алтарных картинах – хотя не только оно. Однако в 1963 году я увидел только его, только уныние. Мне не было нужды видеть все остальное.
Десять лет спустя огромное распятое тело по-прежнему превращало в карликов и тех, кто оплакивал его на картине, и зрителей. Но на этот раз я подумал: в европейской традиции множество образов боли и пыток, по большей части садистских. Почему же эта картина, одна из самых пронзительных и полных муки, оказалась исключением? Как она написана?
Она написана сантиметр за сантиметром. Ни один контур, ни одна впадина и ни один подъем внутри контура не отмечен хотя бы краткой вспышкой интенсивности. Картина нерасторжимо связана со страданием. Как ни одна часть тела не может избежать боли, так и картина нигде не может поступиться точностью. Причина боли уже не важна: значение имеет только правдивость образа. Правдивость, рожденная сопереживанием, рожденная любовью.
Любовь дарует невинность. Ей нечего прощать. Человек, которого любят, – не тот, кто переходит улицу или умывается утром. Не тот, кто живет собственной жизнью: такой не способен сохранить невинность.
Кто же он – тот, кого любят? Тайна, и постичь ее дано только любящему сердцу. Достоевский как никто это понимал. Любовь соединяет, но сама пребывает в одиночестве.
Тот, кого любят, продолжает свое существование и тогда, когда от его поступков и эгоцентризма ничего не остается. Любовь узнает своего избранника до всякого сближения, а после видит его таким же. Любовь наделяет человека уникальной ценностью, которая непереводима на язык добродетели.
Такая любовь получает концентрированное воплощение в любви матери к своему ребенку. Страсть – всего лишь одна из ипостасей любви. Но есть и другие. Ребенок находится в процессе становления, он неполон. То есть в любое отдельно взятое мгновение он может быть удивительно полным. Но при переходе от одного мгновения к другому он оказывается зависим, и неполнота становится очевидной. Любовь матери потворствует ребенку. Мать представляет его себе более полным, чем он есть на самом деле. Их желания совмещаются или чередуются, как ноги при ходьбе.
Открытие любимого, уже сформированного и полного, есть начало страсти.
Человек оценивает тех, кого он не любит, по их достижениям. Достижения, которые он считает важными, могут отличаться от тех, которые ценит общество. Тем не менее мы принимаем во внимание достижения тех, кого не любим, как бы заполняя ими некий готовый контур, и, чтобы описать этот контур, используем сравнительные эпитеты по принципу лучше/хуже. Общая «форма» таких людей есть сумма достижений, описанных этими эпитетами.
Но любимого человека мы воспринимаем по-другому. Его контур или форма – не случайная поверхность, а горизонт, за которым лежит весь остальной мир. Любимый распознается не по достижениям, а по глаголам, которые могут его удовлетворить. Потребности любимого могут разительно отличаться от потребностей любящего, но они создают ценность – ценность этой любви.
Для Грюневальда таким глаголом было слово живописать. Писать жизнь Христа.
Сочувствие, доходящее до такой степени, как у Грюневальда, открывает, пожалуй, область истины между объективным и субъективным. Врачам и ученым, изучающим в наше время феноменологию боли, полезно было бы изучить эти картины. Искажение форм и пропорций – увеличенные ступни, бочкообразная грудная клетка, удлиненные руки, растопыренные пальцы – все это можно назвать чувственной анатомией боли.
Я не хочу сказать, что в 1973 году увидел больше, чем за десять лет до этого. Я видел иначе – вот и все. Минувшие десять лет не обязательно предполагают прогресс, во многих смыслах за ними стоит поражение.
Но Брейгель потому и не мог поверить в неотвратимость наказания виновных, что сам не знал, кого винить. Да, крестьянин, склонившийся над плугом, прозевал падение Икара, но справедливо ли возлагать на него за это всю ответственность? Неразрешимое противоречие – следствие того, что Брейгель был не в силах преодолеть инерцию собственного мышления. Он слишком рано родился и, обладая совестью, не обладал еще тем знанием, которое подвело бы под нее надежную основу. Все, что ему оставалось, – это задавать вопросы, не особенно рассчитывая получить ответы. Но даже и спрашивать напрямую было опасно, причем не только в политическом смысле: задаваться подобными вопросами означало впадать в смертный грех гордыни. Не случайно страх гордыни преследовал Брейгеля («Вавилонская башня», «Самоубийство Саула», «Падение мятежных ангелов»): он боялся, что по меркам средневекового Бога сам виновен в этом прегрешении, несмотря на всю свою осмотрительность.
Однако противоречия, которые Брейгель не мог разрешить, вынуждали его принять совершенно оригинальный способ мировидения. Он не перекладывал вину на козлов отпущения.
Брейгель не делал резкого различия между виновным и невиновным и воздерживался от морализирования. Он не вывел ни одной фигуры, которая выступала бы в качестве примера дурного или хорошего поведения. Его нравственное чувство раскрывается только в железной определенности, с которой он предъявляет на суд факты. Осудить отдельный поступок, отдельного человека было выше его сил, поскольку он не представлял, каким образом люди в массе своей могли бы вести себя иначе.
Так, не впадая в мизантропию, он был вынужден осуждать всех и каждого за то, что они не смогли стать иными.
Именно поэтому самые обычные явления у Брейгеля трактуются как преступления. Преступление нищего – в том, что он нищий, преступление слепого – в том, что он слепой, преступление солдата – в том, что он воюет, преступление снега – в том, что он замел пути-дороги. Брейгель был любимым художником Брехта. В стихотворении «О покладистости природы» Брехт писал:
Ах, пес приблудный, любви взыскуя,
Порой к сапогу живодера льнет.
И негодяю, который насилует в роще ребенка,
Кивают приветливо вязы тенистой листвой.
И дружелюбная пыль нас просит забыть поскорее,
Убийца, след окровавленный твой.[25 - Перевод М. Ваксмахера.]
Брейгель и Брехт, хотя их разделяли столетия, не могли понять одного и того же: Брейгель – инстинктивно, Брехт – намного яснее сознавая, что люди ищут убежища в собственной беспомощности. Они оба хотели донести до всех простую мысль: не сопротивляться – значит быть равнодушным, забыть или не знать – значит быть равнодушным, а быть равнодушным – значит попустительствовать злу.
Именно поэтому – а не из-за какого-то совпадения или тематического сходства – картины Брейгеля более важны для понимания современной войны или концлагерей, чем почти все, написанное после них.
8. Джованни Беллини
(работал ок. 1459–1516)
Джованни Беллини, родившийся в 1435 году, был первым великим венецианским живописцем. Я хотел бы поговорить о четырех Мадоннах, написанных им на протяжении тридцати пяти лет жизни.
Первая создана в 1470-х годах, когда ее автору было около сорока. Вторая – десятью годами позже, когда ему было за пятьдесят. Третья – еще десятилетие спустя. И последняя – около 1505 года, когда Беллини был уже семидесятилетним старцем.
Возможно, эти четыре картины покажутся кому-то не такими уж и разными. Все они трактуют один сюжет, все выполняют одну и ту же религиозную функцию. В каждой из них Мадонна одета почти одинаково. Но за изменениями, которые прослеживаются в этих полотнах, лежит одна из важнейших инноваций во всей истории искусства. Объект изображения остается прежним. Но авторское отношение к нему, способ его видения претерпевает революционную перемену.
Между первой и последней из этих картин разница больше, чем между двумя любыми произведениями одного художника в истории живописи.
Всю свою жизнь Беллини был зачарован светом. В этом нет ничего удивительного, если мы вспомним, что он работал в Венеции. Разумеется, без света вообще нет живописи. Без света мы ничего не видим. Однако свет, занимавший Беллини, был не тот свет, который уничтожает тьму и позволяет нам отличить одну вещь от другой. Скорее, это тот рассеянный свет, создающий единство всех предметов, на которые он падает. Вот почему, например, комната или пейзаж выглядят совершенно по-разному в одиннадцать утра и в три часа дня. Наверное, точнее будет сказать так: Беллини интересовался дневным светом. Свет в этом смысле предполагает пространство. Это не вспышка и не огонь – это свет дня. И всю свою жизнь художник стремился создать на полотне пространство, которое смогло бы вобрать в себя и удержать то, что мы называем «дневным светом».
На первой картине пространства очень мало. Две фигуры больше напоминают барельеф, выступающий из плоской стены, которая закрывает от зрителя все остальное. День здесь, если так можно выразиться, глубиной меньше полуметра.
На второй художник решается вывести фигуры из замкнутого пространства. Он убирает стену. Впускает дневной свет с двух сторон. Но пока во всем этом заметна его неуверенность. По-прежнему между полосами света – плоский задник-занавес, который загадочным образом свешивается прямо с неба. Кажется, что пространство робко просачивается в картину с обеих сторон.
На третьей задник отодвинут дальше, и Мадонна с младенцем теперь не смотрят нам прямо в лицо. Фигуры немного наклонены и повернуты навстречу друг другу, и этот ракурс, этот наклон уводит взгляд в пейзаж позади них, в светлый день. Однако и здесь фигуры все еще защищены, все еще отгорожены. Дело не только в заднике, но и в выступе, на котором сидит младенец. Этот выступ выполняет роль края сцены, отделяющего нас от актеров и сценического пространства.
А вот на последней картине Беллини действительно достигает желаемого результата – через тридцать лет после первой попытки. Фигуры теперь находятся в открытом поле при полном свете дня. Мы можем обойти их кругом. Вся картина, весь пейзаж столь же просторны, сколь долог день.
Что же, спросите вы, такого сложного в этой победе над пространством – в том, к чему стремился и чего достиг Беллини? Разве законы перспективы не были уже давно известны? Да, были. Но Беллини интересовала не просто иллюзия глубины. Он хотел заполнить все пространство своих картин светом – как заполняют емкость водой. Его не устраивало всего лишь написать близлежащие предметы покрупнее, а удаленные – поменьше. Он хотел найти способ показать, как равномерно падает свет между ними, и создать в каждой картине эквивалент того порядка и того единства, которые свет вносит в природу. Так что в его полотнах велась еще и борьба за создание нового порядка и единства.
На первой картине можно увидеть прямую линию правого контура тела младенца – точным продолжением этой линии служит край накидки на голове Мадонны. В картине множество подобных скрупулезно рассчитанных, продуманных приемов, и все это придает ей единство и порядок. Но поскольку картина плоская, лишена пространства, вся ее композиция создается линией. Посмотрите, например, на руки Девы Марии. Каждый палец выписан тщательно, но по отдельности, так что они напоминают клавиши пианино. И неудивительно: общая схема, которая обеспечивает единство картины, единство целого, основана на противопоставлении плоского света плоской тьме – совсем как на клавиатуре рояля.
На второй картине организующая роль линии еще сохраняется. Правда, ребенок теперь немного выдается вперед, но посмотрите на две полоски неба и пейзажа по сторонам. Они воспринимаются как плоский узор на заднем плане. Почти как зернистая поверхность мраморного парапета в нижней части картины. Но в третьей работе все начинает меняться. Здесь главную роль берут на себя не все организующие линии, а массы пространства. Теперь уже не скажешь, что пальцы Мадонны нарисованы каждый по отдельности, но вы сразу замечаете, что ее рука сложена чашечкой и обнимает руку ребенка и яблоко, точно так же, как – если бы масштаб был другим – она могла бы обнять расположенный позади холм, который вторит форме ее руки. Или поглядите на ее накидку и на то, как она плавно охватывает пространство вокруг головы Мадонны. Точно так же темные деревья кругом обходят и укрывают холм. Ну и наконец, в последней картине Беллини достигает полного единства между фигурами и наполненным светом и воздухом днем. Между сложенными руками Мадонны, касающимися друг друга кончиками пальцев, заключено пространство того же свойства, какое должна заключать в себе башня на холме. Ребенок заполняет ее лоно так же, как солнечный свет неизбежно заполняет пустоту в пейзаже. И вся природа теперь сплочена воедино. Деревья слева – не просто линии на полотне. Они существуют в пейзаже и пространстве. Птица на ветке привлекает наш взгляд, заставляя его скользнуть к верхушкам деревьев, а затем сдвинуться немного правее, – и траектория нашего взгляда точно повторяется в позе склонившейся Мадонны.
Так интерес к дневному свету вел Беллини к победе над пространством, к такому соотнесению человека с природой, какого до него еще не было. И последствия этого открытия действительно выходят далеко за пределы искусства.
Первая картина, почти византийская, еще принадлежит Средним векам, это образ на церковной стене, который отсекает всякое движение и мельтешение мира. К этому образу можно приблизиться только со стороны лица и только для того, чтобы помолиться. Но на последней картине мы видим молодую мать на лугу. Дело не только в том, что у нее нет нимба: к ней можно теперь приблизиться с любой стороны, даже сзади, и это означает, что она является частью природы, на которую тоже можно смотреть отовсюду, задавать вопросы, исследовать. Нет больше фиксированной точки зрения, нет фиксированного центра. Человек, как в античном мире, который тогда открывала для себя эпоха Возрождения, сам стал центром, и потому он волен идти куда хочет.
Между первой и последней картиной Христофор Колумб открыл Америку, Васко да Гама, обогнув Африку, добрался до Индии, а в Падуе, где учился Беллини, Коперник работал над первой теорией, доказавшей, что Земля вращается вокруг Солнца. И пространство, которое Беллини ввел в живопись, было соразмерно новой свободе, завоеванной человечеством. Вот почему разница между четырьмя картинами, написанными на один сюжет, может быть с полным правом названа революционной.
9. Маттиас Грюневальд
(ок. 1470–1528)
Впервые я приехал в Кольмар посмотреть на алтарь Грюневальда зимой 1963 года. Второй раз – ровно десять лет спустя. Я ничего специально не планировал – так уж вышло. В промежутке между двумя датами многое изменилось. Не в Кольмаре, а вообще в мире, и в моей жизни тоже. Драматическая точка поворота пришлась как раз на середину этого десятилетия. В 1968 году надежды, которые мы – кто тайно, кто явно – лелеяли в течение долгого времени, вдруг воплотились в реальность сразу в нескольких местах в мире и обрели имена и названия. И в том же самом году эти надежды были уничтожены, окончательно и бесповоротно. Впрочем, подлинная картина произошедшего стала ясна позже, а в то время многие из нас обманывали себя, отказываясь признать жестокую правду, и даже в начале 1969 года все еще стояли на том, что 1968-й может повториться.
Здесь не место анализировать, что именно изменилось в соотношении мировых политических сил. Достаточно сказать, что была проложена дорога к нормализации, как потом это назвали. Изменилась не только политика, но и тысячи и тысячи судеб, хотя об этом не прочтешь в книгах по истории. (Сравнить с этим можно, пожалуй, только иной по природе, но тоже рубежный 1848 год, и его значение для целого поколения людей запечатлено не в истории, а во флоберовском «Воспитании чувств».) Когда я смотрю на своих друзей – особенно на тех, у кого были (и есть) политические убеждения, – я вижу, насколько русло их судеб изменилось, отклонилось в тот момент от прежнего курса: так бывает и в обычной жизни каждого человека под влиянием какого-то важного события, вроде тяжелой болезни, неожиданного выздоровления, банкротства. И когда мои друзья смотрят на меня, то наверняка обнаруживают нечто сходное.
Нормализация означает, что различные политические системы, управляющие практически всем миром, могут так или иначе взаимодействовать при единственном условии: нигде ничто не должно меняться радикально. Настоящее рассматривается как неопределенно длительная фаза времени, которая обеспечивает непрерывное развитие технического прогресса.
Время больших надежд – как было накануне 1968 года – побуждает человека считать себя стойким борцом, готовым смотреть правде в лицо. Ему кажется, что победа неминуема, если не уклоняться от борьбы и не впадать в сентиментальность. Суровая правда открывает путь к свободе. Этот принцип укореняется в сознании, его принимают как аксиому. Человек живет с открытыми глазами, осознанно делает свой выбор. Надежда – чудодейственная фокусирующая линза. Глаз привыкает к ней. Сквозь нее все видится так ясно!
Живописный алтарь Грюневальда, подобно древнегреческой трагедии или роману XIX века, был задуман как нечто всеобъемлющее, способное охватить всю жизнь и объяснить весь мир. Он написан на соединенных шарнирами деревянных створках-панелях. Когда они закрывались, стоящие у алтаря видели «Распятие», по сторонам которого изображены святой Антоний и святой Себастьян. Когда створки открывались, прихожане видели «Ангельский концерт» и «Рождество», а по бокам «Благовещение» и «Воскресение». Когда створки раскрывались еще раз, появлялись святые и апостолы, а на боковых панелях – сцены из жизни святого Антония. Алтарь был заказан для монастырской больницы в Изенгейме орденом антонитов. Больница принимала жертв чумы и сифилиса. Алтарь должен был помогать больным смиренно переносить страдания.
Во время первого посещения Кольмара я видел ключ ко всему алтарю в «Распятии», а ключ к «Распятию» – в болезни. «Чем дольше я смотрю, тем больше убеждаюсь, что для Грюневальда болезнь есть истинное состояние живущего в этом мире. Болезнь – не прелюдия к смерти, как думает со страхом современный человек, а непреложное условие жизни». Так я писал в 1963 году. Тогда я не учитывал, что алтарь способен разворачиваться. Вооруженный оптикой надежды, я не нуждался в живописных панелях надежды. Я увидел воскресающего Христа «бледным как смерть»; Дева Мария, на мой тогдашний взгляд, принимает благую весть ангела как известие «о неизлечимой болезни»; пеленки младенца Христа – жалкие лохмотья (возможно, заразные), которые потом прикроют его чресла в сцене «Распятия».
Такая интерпретация произведения не была совсем произвольной. В начале XVI века жители многих стран Европы воспринимали свое время как про?клятое. И несомненно, это ощущение присутствует в алтарных картинах – хотя не только оно. Однако в 1963 году я увидел только его, только уныние. Мне не было нужды видеть все остальное.
Десять лет спустя огромное распятое тело по-прежнему превращало в карликов и тех, кто оплакивал его на картине, и зрителей. Но на этот раз я подумал: в европейской традиции множество образов боли и пыток, по большей части садистских. Почему же эта картина, одна из самых пронзительных и полных муки, оказалась исключением? Как она написана?
Она написана сантиметр за сантиметром. Ни один контур, ни одна впадина и ни один подъем внутри контура не отмечен хотя бы краткой вспышкой интенсивности. Картина нерасторжимо связана со страданием. Как ни одна часть тела не может избежать боли, так и картина нигде не может поступиться точностью. Причина боли уже не важна: значение имеет только правдивость образа. Правдивость, рожденная сопереживанием, рожденная любовью.
Любовь дарует невинность. Ей нечего прощать. Человек, которого любят, – не тот, кто переходит улицу или умывается утром. Не тот, кто живет собственной жизнью: такой не способен сохранить невинность.
Кто же он – тот, кого любят? Тайна, и постичь ее дано только любящему сердцу. Достоевский как никто это понимал. Любовь соединяет, но сама пребывает в одиночестве.
Тот, кого любят, продолжает свое существование и тогда, когда от его поступков и эгоцентризма ничего не остается. Любовь узнает своего избранника до всякого сближения, а после видит его таким же. Любовь наделяет человека уникальной ценностью, которая непереводима на язык добродетели.
Такая любовь получает концентрированное воплощение в любви матери к своему ребенку. Страсть – всего лишь одна из ипостасей любви. Но есть и другие. Ребенок находится в процессе становления, он неполон. То есть в любое отдельно взятое мгновение он может быть удивительно полным. Но при переходе от одного мгновения к другому он оказывается зависим, и неполнота становится очевидной. Любовь матери потворствует ребенку. Мать представляет его себе более полным, чем он есть на самом деле. Их желания совмещаются или чередуются, как ноги при ходьбе.
Открытие любимого, уже сформированного и полного, есть начало страсти.
Человек оценивает тех, кого он не любит, по их достижениям. Достижения, которые он считает важными, могут отличаться от тех, которые ценит общество. Тем не менее мы принимаем во внимание достижения тех, кого не любим, как бы заполняя ими некий готовый контур, и, чтобы описать этот контур, используем сравнительные эпитеты по принципу лучше/хуже. Общая «форма» таких людей есть сумма достижений, описанных этими эпитетами.
Но любимого человека мы воспринимаем по-другому. Его контур или форма – не случайная поверхность, а горизонт, за которым лежит весь остальной мир. Любимый распознается не по достижениям, а по глаголам, которые могут его удовлетворить. Потребности любимого могут разительно отличаться от потребностей любящего, но они создают ценность – ценность этой любви.
Для Грюневальда таким глаголом было слово живописать. Писать жизнь Христа.
Сочувствие, доходящее до такой степени, как у Грюневальда, открывает, пожалуй, область истины между объективным и субъективным. Врачам и ученым, изучающим в наше время феноменологию боли, полезно было бы изучить эти картины. Искажение форм и пропорций – увеличенные ступни, бочкообразная грудная клетка, удлиненные руки, растопыренные пальцы – все это можно назвать чувственной анатомией боли.
Я не хочу сказать, что в 1973 году увидел больше, чем за десять лет до этого. Я видел иначе – вот и все. Минувшие десять лет не обязательно предполагают прогресс, во многих смыслах за ними стоит поражение.
Другие электронные книги автора Джон Бёрджер
Другие аудиокниги автора Джон Бёрджер
Поле




 0
0