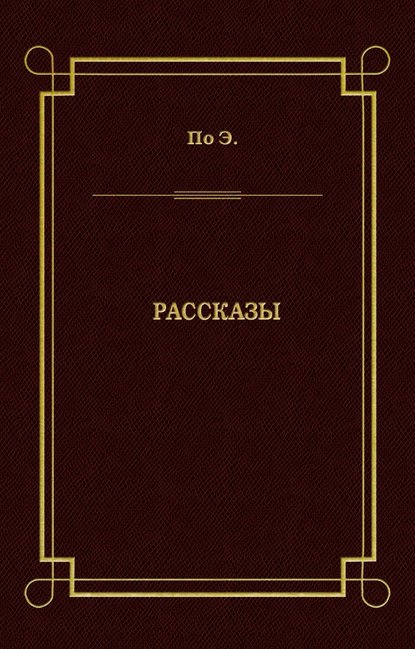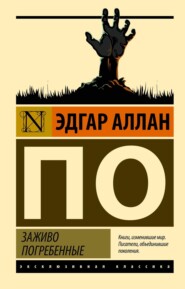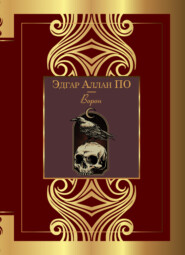По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы напрасно дожидались рассвета, который возвестил бы нам о пришествии шестого дня; этот день для меня не настал, для шведа он не наступил никогда. Мы погрузились с тех пор в непроглядный мрак, так что нам ничего не было видно на расстоянии десяти футов от корабля. Часы проходили, а нас продолжала окутывать беспрерывная ночь, не озаренная даже тем фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили, кроме того, что, хотя буря продолжала неистовствовать, вокруг уже не наблюдалось обычных особенностей буруна, или пены, которая нас до сих пор сопровождала. Кругом были только ужас и непроницаемая тьма и наводящая отчаяние пустыня черноты. Суеверный страх мало-помалу овладел умом старика шведа, и моя собственная душа была охвачена безмолвным изумлением. Мы оставили всякие заботы о корабле как бесполезные и, уцепившись насколько возможно крепко за обломок бизань-мачты, горестно смотрели в безбрежность океана. У нас не было возможности считать время, у нас не было возможности составить какое-нибудь представление о том, где мы находимся. Мы, однако, ясно сознавали, что мы ушли на юг дальше, чем кто-либо из предшествующих мореплавателей, и испытывали крайнее изумление, не встречая обычных препятствий в виде ледяных глыб. Между тем каждое мгновение грозило нам гибелью, каждый исполинский вал стремился поглотить нас. Морское волнение превосходило все представления моей фантазии, и только чудо могло нас спасти от угроз губительного мига. Мой товарищ говорил о легкости нашего груза, напоминал мне о превосходном качестве нашего корабля; но я не мог не чувствовать безнадежности самой надежды и мрачно приготовился к смерти, полагая, что она последует не позже, как через час, ибо с каждым пройденным узлом подъятие черных ужасающих волн становилось все страшнее и чудовищнее. Временами мы задыхались на высоте большей, чем высота полета альбатросов, временами мы чувствовали головокружение от быстроты нашего нисхождения в морскую преисподнюю, где воздух становился недвижным и ни один звук не возмущал дремоту кракена.
Мы находились на дне одной из таких пропастей, когда быстрый крик моего товарища страшно прозвучал в безмолвии ночи. «Смотрите! Смотрите! – вскричал он, выкликая прямо в мои уши. – Всемогущий Боже! Смотрите! Смотрите!» Пока он говорил, я увидел мрачный, пасмурный отблеск красного света, струившегося по стенам обширной бездны, где мы находились, и бросавшего неровное мерцание на нашу палубу. Устремив глаза вверх, я увидел зрелище, заморозившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на самом краю чудовищного обрыва, качался гигантский корабль, быть может, в четыре тысячи тонн. Хотя он находился на вершине вала, более чем в сто раз превосходившего его собственную высоту, видимые его очертания все же оставляли за собой всякий линейный корабль и всякое судно Восточной Индийской компании. Его громадный корпус угрюмо чернелся, не будучи нисколько смягчен каким-либо из обычных украшений. Шеренга медных пушек выдвигалась из открытых люков и отбрасывала от своих полированных поверхностей огни бесчисленных боевых фонарей, которые качались там и сям на снастях. Но что более всего исполнило нас ужасом и изумлением, это то, что он шел на всех парусах по этому сверхъестественному морю, несмотря на этот неукротимый ураган. В первое мгновение виднелись только корабельные скулы, между тем как весь исполин медленно вставал из неясной и чудовищной пучины, находившейся по ту сторону. На один миг – миг напряженного ужаса – он взвился на самую вершину этого головокружительного вала, помедлил, как бы опьяненный собственным взмахом, и дрогнул, и заколебался – и устремился вниз.
Не знаю, откуда у меня взялось самообладание в эту минуту. Отшатнувшись назад, как только мог, я бестрепетно ждал своей гибели. Корабль наш наконец перестал бороться с морем и начал погружаться с носовой стороны в воду. Толчок стремительной водной массы, сбегавшей сверху, поразил его в ту часть сруба, которая уже находилась под водой, и, в неизбежном результате, с непобедимой силой швырнул меня на снасти чужого корабля.
Когда я падал, корабль поднимался на штаги и повертывался на другой галс; замешательство, происшедшее благодаря этому, и было, по-видимому, причиной того, что судовая команда не обратила на меня никакого внимания. Без особых затруднений я прошел, незамеченный, к главному люку, который был полуоткрыт, и вскоре нашел удобный случай скрыться в трюме. Почему я так сделал, затрудняюсь сказать. Быть может, неопределенное чувство страха, овладевшее мной сперва при виде этих мореплавателей, обусловило мое желание скрыться. Я совсем не был расположен доверяться людям, в которых, при самом беглом взгляде, заметил столько черт новизны, чего-то возбуждающего сомнение и предчувствие. Я счел поэтому за лучшее устроить себе в трюме тайник, удалив с этой целью часть передвижных обшивных досок таким образом, что они давали мне достаточное убежище среди огромных ребер корабля.
Не успел я кончить свою работу, как шаги, раздавшиеся в трюме, принудили меня скрыться. Около моего убежища неверными и слабыми шагами прошел какой-то человек. Лица его я не мог различить, но обстоятельства позволили мне заметить общий его вид. На нем лежала несомненная печать дряхлости и преклонности. Колени его дрожали, и все тело колебалось под бременем долгих лет. Обращаясь к самому себе, он бормотал глухим и прерывающимся голосом какие-то слова на языке, которого я понять не мог, и стал копошиться в углу среди беспорядочной груды каких-то необычайного вида инструментов и обветшавших морских карт. Все его манеры представляли собой странную смесь: это была ворчливость вторичного детства и исполненная достоинства величавость бога. В конце концов он отправился на палубу, и я его больше не видал.
Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия, – ощущение, которое не поддается анализу; поучения минувших времен для него недостаточны, и я боюсь, что даже будущее не даст мне к нему никакого ключа. Для ума, подобного моему, последнее соображение является пагубой. Никогда, я знаю, что никогда мне не удастся узнать ничего относительно самой природы моих представлений. И все же нет ничего удивительного, если эти представления неопределенны, ибо они имеют свое начало в источниках совершенно новых. Новое чувство возникло – новая сущность присоединилась к моей душе.
Уже много времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого страшного корабля, и лучи моей судьбы, как я думаю, собрались в одну точку. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, самую природу которых я разгадать не в состоянии, они проходят предо мною, не замечая меня. Скрываться от них – крайнее безумие с моей стороны, ибо они не хотят видеть. Я только что прошел перед самыми глазами штурмана; не так давно я рискнул пробраться в собственную каюту капитана и достал оттуда материал, с помощью которого я пишу теперь и записал все предыдущее. Время от времени я буду продолжать свой дневник. Правда, у меня нет никаких средств передать его миру, но я попытаюсь как-нибудь устроиться. В последнюю минуту я положу манускрипт в бутылку и брошу ее в море.
Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Являются ли такие вещи действием непостижимой случайности? Я рискнул выйти на палубу и, не обратив на себя ничьего внимания, улегся среди груды старых парусов на дне ялика. Размышляя о странностях моей судьбы, я совершенно бессознательно взял находившуюся здесь мазилку для смолы и стал мазать края только что сложенного лиселя, лежавшего около меня на бочонке. Лисель теперь выгнут и красуется на корабле, а случайные мазки сложились в слово «открытие».
За последнее время я сделал много наблюдений относительно строения судна. Хотя оно и хорошо вооружено, оно, как я думаю, не представляет собой военного корабля. Его снасти, конструкция и общее снаряжение являются живым отрицанием военных предприятий. Что корабль собой не представляет, мне легко понять, но что он из себя представляет – это, я боюсь, невозможно сказать. Не знаю, каким образом, но, внимательно рассматривая его необычайную форму и странный характер его мачт, его гигантский рост и чрезмерный запас парусин, его нос, отличающийся строгой простотой, и старинную обветшавшую корму, я чувствую, что в моем уме возникают вспышки смутных ощущений, говорящих мне о знакомых вещах, и с этими неявственными тенями прошлого всегда смешиваются необъяснимые воспоминания о древних чужеземных летописях и давно прошедших веках.
Я внимательно освидетельствовал ребра корабля. Он выстроен из материала, мне неизвестного. В характере дерева есть какие-то поразительные особенности, делающие его, как мне думается, негодным для целей, к которым он был предназначен. Я разумею его крайнюю ноздреватость, причем беру ее независимо от тех червоточин, которые неразрывны с плаванием по этим морям, и независимо от гнилости, которую нужно отнести на счет его возраста. Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком утонченным, но мне хочется сказать, что это дерево имело бы все отличительные особенности испанского дуба, если бы испанский дуб мог быть растянут какими-нибудь неестественными средствами.
Перечитывая предыдущие строки, я невольно припоминаю остроумное изречение одного голландского мореплавателя, старого бывалого моряка. «Это верно, – имел он обыкновение говорить, когда кто-нибудь высказывал сомнение в правде его слов, – это так же верно, как то, что есть море, где самый корабль увеличивается в росте, как живое тело моряков».
Около часа тому назад я дерзнул войти в толпу матросов, находившихся на палубе. Они не обратили на меня никакого внимания, и, хотя я стоял среди них, в самой середине, они, казалось, совершенно не сознавали моего присутствия. Подобно тому старику, которого я впервые увидал в трюме, все они носят на себе печать седой старости. Их слабые колени дрожат; их согбенные плечи свидетельствуют о престарелости; их сморщенная кожа шуршит под ветром; их голоса глухи, неверны и прерывисты; в их глазах искрится слезливость годов; и седые их волосы страшно развеваются под бурей. Вокруг них, на палубе, везде разбросаны математические инструменты самой причудливой архаической формы.
Я упомянул несколько времени тому назад, что лисель был водружен на корабле. С этого времени корабль, как бы насмехаясь над враждебным ветром, продолжает свое страшное шествие к югу, нагромоздив на себя все паруса; он увешан ими с клотов до нижних багров и ежеминутно устремляет свои брамреи в самую чудовищную преисподнюю морских вод, какую только может вообразить себе человеческий ум. Я только что оставил палубу, я не мог там держаться на ногах, хотя судовая команда, по-видимому, не ощущает ни малейших неудобств. Мне представляется чудом из чудес, что вся эта громадная масса нашего корабля не поглощена водою сразу и безвозвратно. Нет сомнения, мы присуждены беспрерывно колебаться на краю вечности, не погружаясь окончательно в ее пучины. С волны на волну, из которых каждая в тысячу раз более чудовищна, чем все гигантские волны, когда-либо виденные мной, мы скользим с быстрой легкостью морской чайки; и исполинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин, но подобно демонам, которым дозволено только угрожать и воспрещено разрушать. То обстоятельство, что мы постоянно ускользаем от гибели, я могу приписать лишь одной естественной причине, способной обусловить такое явление. Я должен предположить, что корабль находится в полосе какого-нибудь сильного потока или могучего подводного буксира.
Я встретился с капитаном лицом к лицу, в его собственной каюте, но, как я ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. Хотя для случайного наблюдателя в его наружности не было ничего, что могло бы свидетельствовать о нем больше или меньше, чем о человеке, однако я не мог не смотреть на него иначе, как с чувством непобедимой почтительности и страха, смешанного с изумлением. Он почти одинакового со мной роста, т. е. около пяти футов и восьми дюймов. Он хорошо сложен, не очень коренаст и вообще ничем особенным не отличается. Но в выражении его лица господствует что-то своеобразное; это – неотрицаемая, поразительная, заставляющая дрогнуть очевидность преклонного возраста, такого глубокого, такого исключительного, что в моей душе возникает чувство – ощущение несказанное. На лбу у него мало морщин, но на нем лежит печать, указывающая на мириады лет. Его седые волосы – летописи прошлого, его беловато-серые глаза – сибиллы будущего. Весь пол каюты был завален странными фолиантами, заключенными в железные переплеты, запыленными научными инструментами и архаическими картами давно забытых времен. Он сидел, склонив свою голову на руки, и беспокойным огнистым взором впивался в бумагу, которую я принял за государственное повеление и на которой, во всяком случае, была подпись монарха. Он бормотал про себя – как это делал первый моряк, которого я видел в трюме, – какие-то глухие ворчливые слова на чужом языке; и, хотя он был со мною рядом, его голос достигал моего слуха как бы на расстоянии мили.
Корабль, вместе со всем, что есть на нем, напоен духом древности. Матросы проскользают туда и сюда, подобно призракам погибших столетий; в их глазах светится беспокойное нетерпеливое выражение; и когда, проходя, я вижу их лица под диким блеском военных фонарей, я чувствую то, чего не чувствовал никогда, хотя всю жизнь свою я изучал мир древностей и впитал в себя тени поверженных колонн Баальбека, и Тадмора, и Персеполиса, пока наконец моя собственная душа не стала руиной.
Когда я смотрю вокруг себя, мне стыдно за свои прежние предчувствия. Если я трепетал при виде бури, которая доныне сопровождала нас, не должен ли я приходить теперь в ужас при виде борьбы океана и ветра, по отношению к которой слова шквал и самум кажутся пошлыми и бесцветными? В непосредственной близости от корабля висит мрак черной ночи и безумствует хаос беспенных вод; но приблизительно на расстоянии одной лиги от нас, с той и с другой стороны, виднеются, неясно и на разном расстоянии, огромные оплоты изо льда, возносящиеся в высь безутешного неба и кажущиеся стенами Вселенной.
Как я предполагал, корабль находится в полосе течения, если только это название может быть применено к могучему морскому приливу, который с ревом и с грохотом, отражаемым белыми льдами, мчится к югу с поспешностью, подобной безумному порыву водопада.
Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию, к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной, и достижение которой есть смерть. Быть может, это течение влечет нас к Южному полюсу. Я должен признаться, что это предположение, по-видимому такое безумное, имеет в свою пользу все вероятия.
Судовая команда бродит по палубе беспокойными неверными шагами; но в выражении этих лиц больше беспокойства надежды, нежели равнодушия отчаяния.
Между тем ветер все еще бьется в нашу корму, и так как развевается целая масса парусов, корабль временами приподнимается из моря! О, ужас ужасов! – лед внезапно открывается справа и слева, и мы с головокружительной быстротой начинаем вращаться по гигантским концентрическим кругам, все кругом и кругом по окраинам исполинского ледяного полукруга, стены которого вверху поглощены мраком и пространством. Но у меня нет времени размышлять о моей участи! Круги быстро суживаются – с бешеным порывом мы погружаемся в тиски водоворота – и среди завываний океана, среди рева и грохота бури корабль содрогается, и – боже мой – он идет ко дну!
Примечание. Рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке» был первоначально опубликован в 1831 г., но лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых изображено, что океан устремляется в Северный полярный водоворот четырьмя потоками, дабы затем быть поглощенным в недрах земли. Сам полюс изображен в виде черной скалы, вздымающейся на чудовищную высоту.
Береника
Dicebant mihi sociales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.
Ebn Zaiat[2 - Мне говорили товарищи, что если я навещу могилу подруги – горе мое облегчится. Ибн Зайат (лат.).]
Несчастье многообразно. Земное горе является в видах бесчисленных. Обнимая обширный горизонт, подобно радуге, блещет оно столь же разнообразными, столь же яркими, столь же ослепительными красками! Обнимая обширный горизонт, подобно радуге! Как мог я красоту сделать мерой безобразия, знаменье мира – подобием скорби! Но как в области нравственной зло является следствием добра, так из радости родится скорбь. Скорбь настоящего дня – или воспоминание о минувшем блаженстве, или мука смертная, рожденная восторгом, который мог быть.
Я хочу рассказать повесть, полную ужаса; я охотно скрыл бы ее вовсе, если бы не была она летописью не столько дел, сколько чувств.
Я крещен Эгеем, а об имени рода своего умолчу. Но в нашей местности нет здания древнее моего угрюмого, серого родового замка. Издревле наш род слыл родом ясновидящих; и многие особенности в замке, в стенной живописи главной залы, в занавесах спален, в резных украшениях оружейной, а главное, в галерее старинных картин, в устройстве книгохранилища и подборе книг – оправдывали эту славу.
Воспоминания моего раннего детства связаны с этой комнатой и с ее томами, о которых я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но и говорить нечего, что я жил раньше, что душа уже существовала в другой оболочке. Вы отрицаете это? Не буду спорить. Веря сам, я не стараюсь уверить других. Но есть воспоминание о воздушных формах, о неземных и глубоких очах, о певучих грустных звуках – воспоминание неизгладимое, изменчивое, непостоянное, смутное и зыбкое, как тень.
И как тень – оно со мной не расстанется, пока будет светить солнце моего разума.
В этой комнате я родился. Неудивительно, что, пробудившись после долгой ночи, расставшись с сумраком того, что казалось небытием, и вступив в волшебное царство светлых видений, в чертог воображения, в суровые владения отшельнической мысли и учености, я глядел вокруг себя глазами изумленными и жадными, проводил детство за книгами, а юношеские годы в мечтах. Но то удивительно, что с годами, когда расцвет мужества застал меня в замке предков моих, источники жизни моей точно иссякли, и полный переворот произошел в природе моего мышления. Явления существенного мира действовали на меня, как призраки и только как призраки, а дикие грезы воображения сделались не только содержанием моей повседневной жизни, но и самой этой жизнью, в ее существе.
Береника была моей двоюродной сестрой, и мы росли вместе в отеческом доме. Но росли не одинаково: я – болезненный и погруженный в меланхолию; она – веселая, легкая, полная избытком жизни. Ей – блуждания по холмам, мне – труды в монашеской келье. Я – поглощенный жизнью сердца своего, душой и телом прикованный к упорным и тягостным помыслам; она – беспечно отдающаяся жизни, не заботясь о тенях на пути своем, о безмолвном полете крылатых часов. Береника! – я произношу имя ее – Береника! – и при этом звуке из серых развалин памяти возникает смутный рой видений! Образ ее восстает предо мною так же ясно, как в былые дни ее безоблачного счастья. О, величавая и сказочная прелесть! О, сильфы[3 - Сильфы – по средневековым поверьям, духи воздуха.] Арнгеймских[4 - Арнгейм – город в Голландии, на правом берегу Рейна. Известен живописностью окружающего ландшафта.] рощ! О, наяда тех ручьев! А потом, потом – всё тайна и ужас, повесть, которая не хочет быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, настигла ее как смерч; на глазах у меня дух перемены веял над нею, захватывая ум ее, привычки, движения и разрушая, неуловимо и ужасно, самое тождество личности ее! Увы! разрушитель приходил, уходил! а жертва, что с ней сталось? Я не узнавал ее, или, по крайней мере, не узнавал в ней Беренику!
В длинной веренице болезней, следовавших за этим роковым и первоначальным недугом, так страшно изменившим телесно и духовно двоюродную сестру мою, заслуживает упоминания одна, самая плачевная и упорная: род падучей, нередко приводившей к столбняку, очень близко напоминавшему подлинную смерть, за которым следовало пробуждение, большей частью внезапное. Тем временем моя собственная болезнь еще быстрее развивалась и наконец приняла характер новой и необычайной мономании, усилившейся не по дням, а по часам – и получившей надо мной непонятную власть. Эта мономания – если можно так назвать ее – состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называются вниманием. По всей вероятности, меня не поймут; и я боюсь, что мне так и не удастся сообщить обыкновенному читателю точное представление о той болезненной напряженности внимания, с которой мои умственные способности (избегая языка научного) увлекались и поглощались созерцанием самых обыкновенных явлений внешнего мира. Размышлять по целым часам над какой-нибудь вздорной фигурой или особенностью шрифта в книге; проводить лучшую часть летнего дня в созерцании причудливой тени на обоях или на полу; следить целую ночь, не спуская глаз, за пламенем лампы или искрами в камине; грезить по целым дням над благоуханием цветка; повторять какое-нибудь самое обыкновенное слово, пока, от частого повторения, оно не перестанет вызывать какую бы то ни было мысль в уме; утрачивать всякое сознание движения или физического существования в совершенном телесном покое, упорном и длительном, – вот некоторые из самых обыкновенных и наименее губительных причуд, вызванных этим состоянием души, быть может, не беспримерным, но, во всяком случае, недоступным исследованию или объяснению. Сделаю, однако, оговорку во избежание недоразумений. Это бесцельное, пристальнейшее и мучительнейшее внимание, возбуждаемое ничтожными предметами, не следует смешивать со способностью забываться в размышлениях, свойственной всем вообще людям, а в особенности тем, кто одарен воображением пламенным. Оно не было, как может казаться с первого взгляда, крайним проявлением той же способности; оно существенно и в самой основе отличалось от нее. Мечтатель или энтузиаст, увлекшись каким-нибудь предметом, большею частью не ничтожным, незаметно теряет его из виду в вихре мыслей и выводов, и в конце этого сна наяву, часто исполненного роскошных видений, убеждается, что incitamentum, или первая причина его размышлений, совершенно забыта и стерта. Мое же внимание всегда привлекал ничтожный предмет, правда, принимавший неестественные размеры в моих болезненных мечтах. Я не делал никаких выводов или делал очень немногие – и они упорно вращались около первоначального предмета. Мысли мои никогда не были отрадными, и при конце моих грез первая причина не только не исчезала, но приобретала неестественное значение, представлявшее главную отличительную черту болезни моей. Словом, у меня действовала главным образом сила внимания, а не способность умозрительная, как у мечтателя.
Мое тогдашнее чтение если не усиливало недуг, то, во всяком случае, своей фантастичностью и непоследовательностью соответствовало этому недугу. Припоминаю, в числе других книг, трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона[5 - Курион Целий Секундус (1503–1569) – итальянский писатель, гуманист. Автор книги «О величии блаженного Царства Божия» (1554).] «De Amplitudine Beati Regni Dei»[6 - «О величии блаженного царства Божия» (лат.).]; великое творение блаж. Августина[7 - Августин Аврелий (прозванный Блаженным; 354 –430) – христианский богослов, Отец Церкви. Епископ г. Гиппон (Северная Африка), родоначальник христианской философии истории (соч. «О граде Божием»); «земному граду» – государству противопоставлял мистически понимаемый «град Божий» – церковь.] «О государстве Божием» и Тертуллиана[8 - Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160–200) – христианский богослов и писатель. Подчеркивая пропасть между библейским Откровением и греческой философией, утверждал веру именно в силу ее несоизмеримости с разумом. Цитируется изречение, взятое из его книги «О пресуществлении Христа».] «De Carne Christi»[9 - «О теле Христовом» (лат.).], парадоксальное изречение которого: «Mortuus est Dеi filius; сrеbidilе еst, quiа inерtum еst; еt sерultus rеsurrехit; сеrtum еst quiа imроssibilе еst»[10 - «Умер Сын Божий, это достойно веры, потому что нелепо; и погребенный воскрес, это достоверно, потому что невозможно» (лат.).] – стоило мне многих недель упорного, но бесплодного размышления.
Таким образом, рассудок мой, равновесие которого постоянно нарушалось самыми пустыми вещами, стал походить на утес, описанный Птоломеем Гефестионом[11 - Птоломей Гефестион – Птолемей Клавдий (ок. 90 – ок. 160), древнегреческий ученый: математик, астроном и географ, живший в Александрии.], утес, который упорно противостоит человеческому насилию и еще более свирепому бешенству волн и ветра и дрожит только от прикосновения цветка, называемого златоцвет[12 - Златоцвет – род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В древности считался цветком смерти.]. И хотя поверхностный человек может подумать, что изменения, порожденные болезнью в духовном существе Береники, часто служили предметом для той болезненной и упорной мечтательности, чью природу я старался уяснить, – но в действительности этого не было. Правда, в минуты просветления, во время перерывов моей болезни, несчастие ее мучило меня, и, принимая глубоко к сердцу гибель этой светлой и прекрасной жизни, я часто и горько размышлял над причинами такой странной и внезапной перемены. Но мысли эти не имели ничего общего с болезнью моей и ничем не отличались от мыслей, которые явились бы у всякого при подобных обстоятельствах. Сообразно своей природе, моя болезненная мечтательность останавливалась на менее важных, но более разительных телесных изменениях, которыми сопровождалась болезнь Береники.
В дни расцвета ее несравненной прелести я, без сомнения, не был влюблен в нее. По болезненной странности моей природы, чувства мои никогда не были чувствами сердца, и страсти мои всегда были отвлеченными. В полусвете раннего утра, в причудливых тенях леса, в тиши моей библиотеки она реяла перед моими глазами, и я видел ее – не живую, дышащую Беренику, а Беренику-тень; не земное, плотское существо, а отвлеченность этого существа; предмет не восхищения, а исследования; не любви, а сложных и бессвязных помыслов. Ныне же, ныне я дрожал в ее присутствии и бледнел от близости ее; и, горько сокрушаясь о смертельном недуге ее, вспоминал, что она любила меня давно и что в недобрый час я предложил ей руку.
Приближался день нашей свадьбы, когда однажды зимою, под вечер, в один из тех необычайно теплых, тихих и туманных дней, которые называются кормилицами прекрасной Альционы[13 - «Юпитер посылает зимою два раза по семи теплых дней, и люди назвали это мягкое теплое время кормилицей прекрасной Альционы(Альциона – в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в зимородка – птицу, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солнцестояния, когда море в течение двух недель бывает совершенно спокойно.)». Симонид(Симонид Кеосский (55 6 – ок. 469 до н. э.) – древнегреческий поэт-лирик.).], я сидел (и сидел, кажется, один) в библиотеке. Но, подняв глаза, увидел пред собою Беренику.
Расстроенное ли воображение мое, или туманный воздух, или обманчивый полусвет сумерек, или серая одежда, ниспадавшая вокруг ее тела, придавали ей такие неясные, зыбкие очертания.
Она молчала, а я… я не мог бы выговорить слова ни за что в мире. Леденящий холод пробежал по телу моему; чувство невыносимой тревоги томило меня; пожирающее любопыт ство переполнило душу мою; и, откинувшись на спинку стула, я несколько времени сидел, не шевелясь, затаив дыхание и не спуская глаз с Береники. Увы, как она исхудала, никаких следов прежнего существа не оставалось хотя бы в одной черте ее облика. Наконец, мои пламенные взоры остановились на ее лице.
Лоб был высокий, бледный и необычайно ясный; прядь волос, когда-то черных, свешивалась над ним, бросая тень на впалые виски, с бесчисленными мелкими локонами, теперь ярко-желтыми и представлявшими своей странностью резкую противоположность печальному выражению лица. Глаза без жизни, без блеска казались лишенными зрачков, и я невольно перевел взгляд на тонкие, искривленные губы. Они разомкнулись; и зубы изменившейся Береники медленно выступили передо мною в улыбке загадочной. Лучше бы мне никогда не видать их или, увидев, умереть!
Звук затворившейся двери заставил меня встрепенуться, и, оглянувшись, я увидел, что моя кузина оставила комнату. Но беспорядочную комнату ума моего не оставил, увы! и не мог быть изгнан из нее бледный и зловещий призрак зубов. Ни единого пятнышка на их поверхности, ни одной тени на эмали, ни одной зазубринки на краях – все это запечатлелось в памяти моей в короткий промежуток улыбки ее. Я видел их теперь даже отчетливее, чем тогда. Зубы! зубы! Они были здесь, и там, и всюду предо мною; длинные, узкие, необычайно белые, окаймленные линией губ, как в ужасный миг появления. Безумье мое превратилось в бешенство, и тщетно боролся я со странным и неодолимым действием его. В бесчисленных предметах внешнего мира я видел только зубы. По ним я тосковал безумно. Все другие явления, все другие чувства исчезли в этом вечном созерцании зубов. Они… они одни носились перед моими духовными очами; на них сосредоточилась вся моя духовная жизнь. Их видел я при всевозможных освещениях, во всевозможных сочетаниях. Я определял их свойства. Различал особенности. Размышлял об их строении. Думал об изменениях в природе их. Содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать. О мадемуазель Салль[14 - Салль Мари (1707–1756) – французская балерина.] говорили, que tous ses pas etaient des sentiment[15 - Что все шаги ее суть чувства (фр.).], а о Беренике я серьезно думал, que tous ses dents etaient des idees. Des idees![16 - Что все ее зубы суть мысли! (фр.)] А, так вот сумасшедшая мысль, смутившая меня! Des idees, – а, так вот почему я безумно стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими могло вернуть мне покой, восстановить мой рассудок.
Так кончился для меня вечер, и наступила тьма и рассеялась; и вновь забрезжил день, и тень следующей ночи сгущалась вокруг, а я все еще сидел недвижно в моей одинокой келье, все еще сидел, погруженный в думы, и призрак зубов по-прежнему реял надо мной с изумительной и отвратительной ясностью. Наконец, крик ужаса и отчаяния прервал мою грезу; за ним последовал гул тревожных голосов вперемежку с тихими стонами скорби или боли. Я встал и, отворив дверь, увидел в соседней комнате девушку-служанку, которая со слезами сообщила мне, что Береника скончалась! Припадок эпилепсии случился рано утром, а теперь, с наступлением ночи, гроб уже готов был принять жильца своего, и все приготовления к погребению были сделаны.
Я сидел в библиотеке, и по-прежнему сидел в ней один. Казалось, что я только что очнулся от смутного и страшного сна. Я знал, что теперь была полночь и что с закатом солнца Беренику похоронили. Но о коротком промежутке времени между этими двумя мгновениями я не имел ясного представления. А между тем в памяти моей хранилось что-то ужасное, – вдвойне ужасное по своей неясности, вдвойне страшное по своей двусмысленности. То была безобразная страница в летописи моего существования, исписанная тусклыми, отвратительными и непонятными воспоминаниями. Я старался разобрать их – напрасно; в ушах моих, точно отголосок прекратившегося звука, без умолку раздавался резкий и пронзительный крик женщины. Я сделал что-то, но что я сделал? Я громко задавал себе этот вопрос, и эхо комнаты шепотом отвечало мне! Что я сделал?
На столе передо мной горела лампа, а подле нее лежал маленький ящик. В нем не было ничего особенного, и я часто видал его раньше, так как он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал сюда, на мой стол и почему я дрожал, глядя на него? Все это оставалось для меня необъяснимым. Случайно мой взгляд упал на развернутую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были странные, но простые слова поэта Эбн Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore lecatas». Почему же, когда я прочел их, волосы поднялись дыбом на моей голове и кровь застыла в жилах?
Кто-то тихонько постучал в дверь, и вошел слуга, бледный, как жилец могилы. Взор его помутился от ужаса, он что-то говорил дрожащим, тихим голосом. Что сказал он? Я слышал отрывочные слова. Он говорил о диких криках, возмутивших тишину ночи, о собравшейся дворне, о поисках в направлении, откуда раздался крик; и голос его стал пронзительно ясен, когда он шептал об оскверненной могиле, об обезображенном теле, еще дышащем, еще трепещущем, еще живом.
Он указывал на мое платье; оно было в грязи и в крови. Я ничего не отвечал, и он тихонько взял меня за руку: на ней были следы человеческих ногтей. Он указал мне на какой-то предмет, стоявший у стены; я взглянул, это был заступ! Я с криком кинулся к столу и схватил ящичек. Но я не мог открыть его; он выскользнул из рук моих, упал, разбился на куски, и из него со звоном выкатились инструменты зубного врача и тридцать два маленьких, белых, точно из слоновой кости, предмета, рассыпавшиеся по полу.
Лигейя
Тут воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и ее силу? Сам Бог – великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость его воли!
Джозеф Гленвилл[17 - Гленвилл Джозеф (1636–1680) – английский священник и философ. Автор трактата «Тщета догматики» (1661).]
Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда, ни даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесенных мною страданий. Или, быть может, я потому не могу теперь вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, ее редкие познания, ее особенная и ясная красота, упоительное красноречие ее сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в мое сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Но, кажется, впервые я встретил ее и часто потом встречал в каком-то большом, старинном, ветшающем городе на Рейне.
Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность ее происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!
Мы находились на дне одной из таких пропастей, когда быстрый крик моего товарища страшно прозвучал в безмолвии ночи. «Смотрите! Смотрите! – вскричал он, выкликая прямо в мои уши. – Всемогущий Боже! Смотрите! Смотрите!» Пока он говорил, я увидел мрачный, пасмурный отблеск красного света, струившегося по стенам обширной бездны, где мы находились, и бросавшего неровное мерцание на нашу палубу. Устремив глаза вверх, я увидел зрелище, заморозившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на самом краю чудовищного обрыва, качался гигантский корабль, быть может, в четыре тысячи тонн. Хотя он находился на вершине вала, более чем в сто раз превосходившего его собственную высоту, видимые его очертания все же оставляли за собой всякий линейный корабль и всякое судно Восточной Индийской компании. Его громадный корпус угрюмо чернелся, не будучи нисколько смягчен каким-либо из обычных украшений. Шеренга медных пушек выдвигалась из открытых люков и отбрасывала от своих полированных поверхностей огни бесчисленных боевых фонарей, которые качались там и сям на снастях. Но что более всего исполнило нас ужасом и изумлением, это то, что он шел на всех парусах по этому сверхъестественному морю, несмотря на этот неукротимый ураган. В первое мгновение виднелись только корабельные скулы, между тем как весь исполин медленно вставал из неясной и чудовищной пучины, находившейся по ту сторону. На один миг – миг напряженного ужаса – он взвился на самую вершину этого головокружительного вала, помедлил, как бы опьяненный собственным взмахом, и дрогнул, и заколебался – и устремился вниз.
Не знаю, откуда у меня взялось самообладание в эту минуту. Отшатнувшись назад, как только мог, я бестрепетно ждал своей гибели. Корабль наш наконец перестал бороться с морем и начал погружаться с носовой стороны в воду. Толчок стремительной водной массы, сбегавшей сверху, поразил его в ту часть сруба, которая уже находилась под водой, и, в неизбежном результате, с непобедимой силой швырнул меня на снасти чужого корабля.
Когда я падал, корабль поднимался на штаги и повертывался на другой галс; замешательство, происшедшее благодаря этому, и было, по-видимому, причиной того, что судовая команда не обратила на меня никакого внимания. Без особых затруднений я прошел, незамеченный, к главному люку, который был полуоткрыт, и вскоре нашел удобный случай скрыться в трюме. Почему я так сделал, затрудняюсь сказать. Быть может, неопределенное чувство страха, овладевшее мной сперва при виде этих мореплавателей, обусловило мое желание скрыться. Я совсем не был расположен доверяться людям, в которых, при самом беглом взгляде, заметил столько черт новизны, чего-то возбуждающего сомнение и предчувствие. Я счел поэтому за лучшее устроить себе в трюме тайник, удалив с этой целью часть передвижных обшивных досок таким образом, что они давали мне достаточное убежище среди огромных ребер корабля.
Не успел я кончить свою работу, как шаги, раздавшиеся в трюме, принудили меня скрыться. Около моего убежища неверными и слабыми шагами прошел какой-то человек. Лица его я не мог различить, но обстоятельства позволили мне заметить общий его вид. На нем лежала несомненная печать дряхлости и преклонности. Колени его дрожали, и все тело колебалось под бременем долгих лет. Обращаясь к самому себе, он бормотал глухим и прерывающимся голосом какие-то слова на языке, которого я понять не мог, и стал копошиться в углу среди беспорядочной груды каких-то необычайного вида инструментов и обветшавших морских карт. Все его манеры представляли собой странную смесь: это была ворчливость вторичного детства и исполненная достоинства величавость бога. В конце концов он отправился на палубу, и я его больше не видал.
Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия, – ощущение, которое не поддается анализу; поучения минувших времен для него недостаточны, и я боюсь, что даже будущее не даст мне к нему никакого ключа. Для ума, подобного моему, последнее соображение является пагубой. Никогда, я знаю, что никогда мне не удастся узнать ничего относительно самой природы моих представлений. И все же нет ничего удивительного, если эти представления неопределенны, ибо они имеют свое начало в источниках совершенно новых. Новое чувство возникло – новая сущность присоединилась к моей душе.
Уже много времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого страшного корабля, и лучи моей судьбы, как я думаю, собрались в одну точку. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, самую природу которых я разгадать не в состоянии, они проходят предо мною, не замечая меня. Скрываться от них – крайнее безумие с моей стороны, ибо они не хотят видеть. Я только что прошел перед самыми глазами штурмана; не так давно я рискнул пробраться в собственную каюту капитана и достал оттуда материал, с помощью которого я пишу теперь и записал все предыдущее. Время от времени я буду продолжать свой дневник. Правда, у меня нет никаких средств передать его миру, но я попытаюсь как-нибудь устроиться. В последнюю минуту я положу манускрипт в бутылку и брошу ее в море.
Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Являются ли такие вещи действием непостижимой случайности? Я рискнул выйти на палубу и, не обратив на себя ничьего внимания, улегся среди груды старых парусов на дне ялика. Размышляя о странностях моей судьбы, я совершенно бессознательно взял находившуюся здесь мазилку для смолы и стал мазать края только что сложенного лиселя, лежавшего около меня на бочонке. Лисель теперь выгнут и красуется на корабле, а случайные мазки сложились в слово «открытие».
За последнее время я сделал много наблюдений относительно строения судна. Хотя оно и хорошо вооружено, оно, как я думаю, не представляет собой военного корабля. Его снасти, конструкция и общее снаряжение являются живым отрицанием военных предприятий. Что корабль собой не представляет, мне легко понять, но что он из себя представляет – это, я боюсь, невозможно сказать. Не знаю, каким образом, но, внимательно рассматривая его необычайную форму и странный характер его мачт, его гигантский рост и чрезмерный запас парусин, его нос, отличающийся строгой простотой, и старинную обветшавшую корму, я чувствую, что в моем уме возникают вспышки смутных ощущений, говорящих мне о знакомых вещах, и с этими неявственными тенями прошлого всегда смешиваются необъяснимые воспоминания о древних чужеземных летописях и давно прошедших веках.
Я внимательно освидетельствовал ребра корабля. Он выстроен из материала, мне неизвестного. В характере дерева есть какие-то поразительные особенности, делающие его, как мне думается, негодным для целей, к которым он был предназначен. Я разумею его крайнюю ноздреватость, причем беру ее независимо от тех червоточин, которые неразрывны с плаванием по этим морям, и независимо от гнилости, которую нужно отнести на счет его возраста. Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком утонченным, но мне хочется сказать, что это дерево имело бы все отличительные особенности испанского дуба, если бы испанский дуб мог быть растянут какими-нибудь неестественными средствами.
Перечитывая предыдущие строки, я невольно припоминаю остроумное изречение одного голландского мореплавателя, старого бывалого моряка. «Это верно, – имел он обыкновение говорить, когда кто-нибудь высказывал сомнение в правде его слов, – это так же верно, как то, что есть море, где самый корабль увеличивается в росте, как живое тело моряков».
Около часа тому назад я дерзнул войти в толпу матросов, находившихся на палубе. Они не обратили на меня никакого внимания, и, хотя я стоял среди них, в самой середине, они, казалось, совершенно не сознавали моего присутствия. Подобно тому старику, которого я впервые увидал в трюме, все они носят на себе печать седой старости. Их слабые колени дрожат; их согбенные плечи свидетельствуют о престарелости; их сморщенная кожа шуршит под ветром; их голоса глухи, неверны и прерывисты; в их глазах искрится слезливость годов; и седые их волосы страшно развеваются под бурей. Вокруг них, на палубе, везде разбросаны математические инструменты самой причудливой архаической формы.
Я упомянул несколько времени тому назад, что лисель был водружен на корабле. С этого времени корабль, как бы насмехаясь над враждебным ветром, продолжает свое страшное шествие к югу, нагромоздив на себя все паруса; он увешан ими с клотов до нижних багров и ежеминутно устремляет свои брамреи в самую чудовищную преисподнюю морских вод, какую только может вообразить себе человеческий ум. Я только что оставил палубу, я не мог там держаться на ногах, хотя судовая команда, по-видимому, не ощущает ни малейших неудобств. Мне представляется чудом из чудес, что вся эта громадная масса нашего корабля не поглощена водою сразу и безвозвратно. Нет сомнения, мы присуждены беспрерывно колебаться на краю вечности, не погружаясь окончательно в ее пучины. С волны на волну, из которых каждая в тысячу раз более чудовищна, чем все гигантские волны, когда-либо виденные мной, мы скользим с быстрой легкостью морской чайки; и исполинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин, но подобно демонам, которым дозволено только угрожать и воспрещено разрушать. То обстоятельство, что мы постоянно ускользаем от гибели, я могу приписать лишь одной естественной причине, способной обусловить такое явление. Я должен предположить, что корабль находится в полосе какого-нибудь сильного потока или могучего подводного буксира.
Я встретился с капитаном лицом к лицу, в его собственной каюте, но, как я ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. Хотя для случайного наблюдателя в его наружности не было ничего, что могло бы свидетельствовать о нем больше или меньше, чем о человеке, однако я не мог не смотреть на него иначе, как с чувством непобедимой почтительности и страха, смешанного с изумлением. Он почти одинакового со мной роста, т. е. около пяти футов и восьми дюймов. Он хорошо сложен, не очень коренаст и вообще ничем особенным не отличается. Но в выражении его лица господствует что-то своеобразное; это – неотрицаемая, поразительная, заставляющая дрогнуть очевидность преклонного возраста, такого глубокого, такого исключительного, что в моей душе возникает чувство – ощущение несказанное. На лбу у него мало морщин, но на нем лежит печать, указывающая на мириады лет. Его седые волосы – летописи прошлого, его беловато-серые глаза – сибиллы будущего. Весь пол каюты был завален странными фолиантами, заключенными в железные переплеты, запыленными научными инструментами и архаическими картами давно забытых времен. Он сидел, склонив свою голову на руки, и беспокойным огнистым взором впивался в бумагу, которую я принял за государственное повеление и на которой, во всяком случае, была подпись монарха. Он бормотал про себя – как это делал первый моряк, которого я видел в трюме, – какие-то глухие ворчливые слова на чужом языке; и, хотя он был со мною рядом, его голос достигал моего слуха как бы на расстоянии мили.
Корабль, вместе со всем, что есть на нем, напоен духом древности. Матросы проскользают туда и сюда, подобно призракам погибших столетий; в их глазах светится беспокойное нетерпеливое выражение; и когда, проходя, я вижу их лица под диким блеском военных фонарей, я чувствую то, чего не чувствовал никогда, хотя всю жизнь свою я изучал мир древностей и впитал в себя тени поверженных колонн Баальбека, и Тадмора, и Персеполиса, пока наконец моя собственная душа не стала руиной.
Когда я смотрю вокруг себя, мне стыдно за свои прежние предчувствия. Если я трепетал при виде бури, которая доныне сопровождала нас, не должен ли я приходить теперь в ужас при виде борьбы океана и ветра, по отношению к которой слова шквал и самум кажутся пошлыми и бесцветными? В непосредственной близости от корабля висит мрак черной ночи и безумствует хаос беспенных вод; но приблизительно на расстоянии одной лиги от нас, с той и с другой стороны, виднеются, неясно и на разном расстоянии, огромные оплоты изо льда, возносящиеся в высь безутешного неба и кажущиеся стенами Вселенной.
Как я предполагал, корабль находится в полосе течения, если только это название может быть применено к могучему морскому приливу, который с ревом и с грохотом, отражаемым белыми льдами, мчится к югу с поспешностью, подобной безумному порыву водопада.
Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию, к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной, и достижение которой есть смерть. Быть может, это течение влечет нас к Южному полюсу. Я должен признаться, что это предположение, по-видимому такое безумное, имеет в свою пользу все вероятия.
Судовая команда бродит по палубе беспокойными неверными шагами; но в выражении этих лиц больше беспокойства надежды, нежели равнодушия отчаяния.
Между тем ветер все еще бьется в нашу корму, и так как развевается целая масса парусов, корабль временами приподнимается из моря! О, ужас ужасов! – лед внезапно открывается справа и слева, и мы с головокружительной быстротой начинаем вращаться по гигантским концентрическим кругам, все кругом и кругом по окраинам исполинского ледяного полукруга, стены которого вверху поглощены мраком и пространством. Но у меня нет времени размышлять о моей участи! Круги быстро суживаются – с бешеным порывом мы погружаемся в тиски водоворота – и среди завываний океана, среди рева и грохота бури корабль содрогается, и – боже мой – он идет ко дну!
Примечание. Рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке» был первоначально опубликован в 1831 г., но лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых изображено, что океан устремляется в Северный полярный водоворот четырьмя потоками, дабы затем быть поглощенным в недрах земли. Сам полюс изображен в виде черной скалы, вздымающейся на чудовищную высоту.
Береника
Dicebant mihi sociales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.
Ebn Zaiat[2 - Мне говорили товарищи, что если я навещу могилу подруги – горе мое облегчится. Ибн Зайат (лат.).]
Несчастье многообразно. Земное горе является в видах бесчисленных. Обнимая обширный горизонт, подобно радуге, блещет оно столь же разнообразными, столь же яркими, столь же ослепительными красками! Обнимая обширный горизонт, подобно радуге! Как мог я красоту сделать мерой безобразия, знаменье мира – подобием скорби! Но как в области нравственной зло является следствием добра, так из радости родится скорбь. Скорбь настоящего дня – или воспоминание о минувшем блаженстве, или мука смертная, рожденная восторгом, который мог быть.
Я хочу рассказать повесть, полную ужаса; я охотно скрыл бы ее вовсе, если бы не была она летописью не столько дел, сколько чувств.
Я крещен Эгеем, а об имени рода своего умолчу. Но в нашей местности нет здания древнее моего угрюмого, серого родового замка. Издревле наш род слыл родом ясновидящих; и многие особенности в замке, в стенной живописи главной залы, в занавесах спален, в резных украшениях оружейной, а главное, в галерее старинных картин, в устройстве книгохранилища и подборе книг – оправдывали эту славу.
Воспоминания моего раннего детства связаны с этой комнатой и с ее томами, о которых я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но и говорить нечего, что я жил раньше, что душа уже существовала в другой оболочке. Вы отрицаете это? Не буду спорить. Веря сам, я не стараюсь уверить других. Но есть воспоминание о воздушных формах, о неземных и глубоких очах, о певучих грустных звуках – воспоминание неизгладимое, изменчивое, непостоянное, смутное и зыбкое, как тень.
И как тень – оно со мной не расстанется, пока будет светить солнце моего разума.
В этой комнате я родился. Неудивительно, что, пробудившись после долгой ночи, расставшись с сумраком того, что казалось небытием, и вступив в волшебное царство светлых видений, в чертог воображения, в суровые владения отшельнической мысли и учености, я глядел вокруг себя глазами изумленными и жадными, проводил детство за книгами, а юношеские годы в мечтах. Но то удивительно, что с годами, когда расцвет мужества застал меня в замке предков моих, источники жизни моей точно иссякли, и полный переворот произошел в природе моего мышления. Явления существенного мира действовали на меня, как призраки и только как призраки, а дикие грезы воображения сделались не только содержанием моей повседневной жизни, но и самой этой жизнью, в ее существе.
Береника была моей двоюродной сестрой, и мы росли вместе в отеческом доме. Но росли не одинаково: я – болезненный и погруженный в меланхолию; она – веселая, легкая, полная избытком жизни. Ей – блуждания по холмам, мне – труды в монашеской келье. Я – поглощенный жизнью сердца своего, душой и телом прикованный к упорным и тягостным помыслам; она – беспечно отдающаяся жизни, не заботясь о тенях на пути своем, о безмолвном полете крылатых часов. Береника! – я произношу имя ее – Береника! – и при этом звуке из серых развалин памяти возникает смутный рой видений! Образ ее восстает предо мною так же ясно, как в былые дни ее безоблачного счастья. О, величавая и сказочная прелесть! О, сильфы[3 - Сильфы – по средневековым поверьям, духи воздуха.] Арнгеймских[4 - Арнгейм – город в Голландии, на правом берегу Рейна. Известен живописностью окружающего ландшафта.] рощ! О, наяда тех ручьев! А потом, потом – всё тайна и ужас, повесть, которая не хочет быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, настигла ее как смерч; на глазах у меня дух перемены веял над нею, захватывая ум ее, привычки, движения и разрушая, неуловимо и ужасно, самое тождество личности ее! Увы! разрушитель приходил, уходил! а жертва, что с ней сталось? Я не узнавал ее, или, по крайней мере, не узнавал в ней Беренику!
В длинной веренице болезней, следовавших за этим роковым и первоначальным недугом, так страшно изменившим телесно и духовно двоюродную сестру мою, заслуживает упоминания одна, самая плачевная и упорная: род падучей, нередко приводившей к столбняку, очень близко напоминавшему подлинную смерть, за которым следовало пробуждение, большей частью внезапное. Тем временем моя собственная болезнь еще быстрее развивалась и наконец приняла характер новой и необычайной мономании, усилившейся не по дням, а по часам – и получившей надо мной непонятную власть. Эта мономания – если можно так назвать ее – состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называются вниманием. По всей вероятности, меня не поймут; и я боюсь, что мне так и не удастся сообщить обыкновенному читателю точное представление о той болезненной напряженности внимания, с которой мои умственные способности (избегая языка научного) увлекались и поглощались созерцанием самых обыкновенных явлений внешнего мира. Размышлять по целым часам над какой-нибудь вздорной фигурой или особенностью шрифта в книге; проводить лучшую часть летнего дня в созерцании причудливой тени на обоях или на полу; следить целую ночь, не спуская глаз, за пламенем лампы или искрами в камине; грезить по целым дням над благоуханием цветка; повторять какое-нибудь самое обыкновенное слово, пока, от частого повторения, оно не перестанет вызывать какую бы то ни было мысль в уме; утрачивать всякое сознание движения или физического существования в совершенном телесном покое, упорном и длительном, – вот некоторые из самых обыкновенных и наименее губительных причуд, вызванных этим состоянием души, быть может, не беспримерным, но, во всяком случае, недоступным исследованию или объяснению. Сделаю, однако, оговорку во избежание недоразумений. Это бесцельное, пристальнейшее и мучительнейшее внимание, возбуждаемое ничтожными предметами, не следует смешивать со способностью забываться в размышлениях, свойственной всем вообще людям, а в особенности тем, кто одарен воображением пламенным. Оно не было, как может казаться с первого взгляда, крайним проявлением той же способности; оно существенно и в самой основе отличалось от нее. Мечтатель или энтузиаст, увлекшись каким-нибудь предметом, большею частью не ничтожным, незаметно теряет его из виду в вихре мыслей и выводов, и в конце этого сна наяву, часто исполненного роскошных видений, убеждается, что incitamentum, или первая причина его размышлений, совершенно забыта и стерта. Мое же внимание всегда привлекал ничтожный предмет, правда, принимавший неестественные размеры в моих болезненных мечтах. Я не делал никаких выводов или делал очень немногие – и они упорно вращались около первоначального предмета. Мысли мои никогда не были отрадными, и при конце моих грез первая причина не только не исчезала, но приобретала неестественное значение, представлявшее главную отличительную черту болезни моей. Словом, у меня действовала главным образом сила внимания, а не способность умозрительная, как у мечтателя.
Мое тогдашнее чтение если не усиливало недуг, то, во всяком случае, своей фантастичностью и непоследовательностью соответствовало этому недугу. Припоминаю, в числе других книг, трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона[5 - Курион Целий Секундус (1503–1569) – итальянский писатель, гуманист. Автор книги «О величии блаженного Царства Божия» (1554).] «De Amplitudine Beati Regni Dei»[6 - «О величии блаженного царства Божия» (лат.).]; великое творение блаж. Августина[7 - Августин Аврелий (прозванный Блаженным; 354 –430) – христианский богослов, Отец Церкви. Епископ г. Гиппон (Северная Африка), родоначальник христианской философии истории (соч. «О граде Божием»); «земному граду» – государству противопоставлял мистически понимаемый «град Божий» – церковь.] «О государстве Божием» и Тертуллиана[8 - Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160–200) – христианский богослов и писатель. Подчеркивая пропасть между библейским Откровением и греческой философией, утверждал веру именно в силу ее несоизмеримости с разумом. Цитируется изречение, взятое из его книги «О пресуществлении Христа».] «De Carne Christi»[9 - «О теле Христовом» (лат.).], парадоксальное изречение которого: «Mortuus est Dеi filius; сrеbidilе еst, quiа inерtum еst; еt sерultus rеsurrехit; сеrtum еst quiа imроssibilе еst»[10 - «Умер Сын Божий, это достойно веры, потому что нелепо; и погребенный воскрес, это достоверно, потому что невозможно» (лат.).] – стоило мне многих недель упорного, но бесплодного размышления.
Таким образом, рассудок мой, равновесие которого постоянно нарушалось самыми пустыми вещами, стал походить на утес, описанный Птоломеем Гефестионом[11 - Птоломей Гефестион – Птолемей Клавдий (ок. 90 – ок. 160), древнегреческий ученый: математик, астроном и географ, живший в Александрии.], утес, который упорно противостоит человеческому насилию и еще более свирепому бешенству волн и ветра и дрожит только от прикосновения цветка, называемого златоцвет[12 - Златоцвет – род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В древности считался цветком смерти.]. И хотя поверхностный человек может подумать, что изменения, порожденные болезнью в духовном существе Береники, часто служили предметом для той болезненной и упорной мечтательности, чью природу я старался уяснить, – но в действительности этого не было. Правда, в минуты просветления, во время перерывов моей болезни, несчастие ее мучило меня, и, принимая глубоко к сердцу гибель этой светлой и прекрасной жизни, я часто и горько размышлял над причинами такой странной и внезапной перемены. Но мысли эти не имели ничего общего с болезнью моей и ничем не отличались от мыслей, которые явились бы у всякого при подобных обстоятельствах. Сообразно своей природе, моя болезненная мечтательность останавливалась на менее важных, но более разительных телесных изменениях, которыми сопровождалась болезнь Береники.
В дни расцвета ее несравненной прелести я, без сомнения, не был влюблен в нее. По болезненной странности моей природы, чувства мои никогда не были чувствами сердца, и страсти мои всегда были отвлеченными. В полусвете раннего утра, в причудливых тенях леса, в тиши моей библиотеки она реяла перед моими глазами, и я видел ее – не живую, дышащую Беренику, а Беренику-тень; не земное, плотское существо, а отвлеченность этого существа; предмет не восхищения, а исследования; не любви, а сложных и бессвязных помыслов. Ныне же, ныне я дрожал в ее присутствии и бледнел от близости ее; и, горько сокрушаясь о смертельном недуге ее, вспоминал, что она любила меня давно и что в недобрый час я предложил ей руку.
Приближался день нашей свадьбы, когда однажды зимою, под вечер, в один из тех необычайно теплых, тихих и туманных дней, которые называются кормилицами прекрасной Альционы[13 - «Юпитер посылает зимою два раза по семи теплых дней, и люди назвали это мягкое теплое время кормилицей прекрасной Альционы(Альциона – в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в зимородка – птицу, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солнцестояния, когда море в течение двух недель бывает совершенно спокойно.)». Симонид(Симонид Кеосский (55 6 – ок. 469 до н. э.) – древнегреческий поэт-лирик.).], я сидел (и сидел, кажется, один) в библиотеке. Но, подняв глаза, увидел пред собою Беренику.
Расстроенное ли воображение мое, или туманный воздух, или обманчивый полусвет сумерек, или серая одежда, ниспадавшая вокруг ее тела, придавали ей такие неясные, зыбкие очертания.
Она молчала, а я… я не мог бы выговорить слова ни за что в мире. Леденящий холод пробежал по телу моему; чувство невыносимой тревоги томило меня; пожирающее любопыт ство переполнило душу мою; и, откинувшись на спинку стула, я несколько времени сидел, не шевелясь, затаив дыхание и не спуская глаз с Береники. Увы, как она исхудала, никаких следов прежнего существа не оставалось хотя бы в одной черте ее облика. Наконец, мои пламенные взоры остановились на ее лице.
Лоб был высокий, бледный и необычайно ясный; прядь волос, когда-то черных, свешивалась над ним, бросая тень на впалые виски, с бесчисленными мелкими локонами, теперь ярко-желтыми и представлявшими своей странностью резкую противоположность печальному выражению лица. Глаза без жизни, без блеска казались лишенными зрачков, и я невольно перевел взгляд на тонкие, искривленные губы. Они разомкнулись; и зубы изменившейся Береники медленно выступили передо мною в улыбке загадочной. Лучше бы мне никогда не видать их или, увидев, умереть!
Звук затворившейся двери заставил меня встрепенуться, и, оглянувшись, я увидел, что моя кузина оставила комнату. Но беспорядочную комнату ума моего не оставил, увы! и не мог быть изгнан из нее бледный и зловещий призрак зубов. Ни единого пятнышка на их поверхности, ни одной тени на эмали, ни одной зазубринки на краях – все это запечатлелось в памяти моей в короткий промежуток улыбки ее. Я видел их теперь даже отчетливее, чем тогда. Зубы! зубы! Они были здесь, и там, и всюду предо мною; длинные, узкие, необычайно белые, окаймленные линией губ, как в ужасный миг появления. Безумье мое превратилось в бешенство, и тщетно боролся я со странным и неодолимым действием его. В бесчисленных предметах внешнего мира я видел только зубы. По ним я тосковал безумно. Все другие явления, все другие чувства исчезли в этом вечном созерцании зубов. Они… они одни носились перед моими духовными очами; на них сосредоточилась вся моя духовная жизнь. Их видел я при всевозможных освещениях, во всевозможных сочетаниях. Я определял их свойства. Различал особенности. Размышлял об их строении. Думал об изменениях в природе их. Содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать. О мадемуазель Салль[14 - Салль Мари (1707–1756) – французская балерина.] говорили, que tous ses pas etaient des sentiment[15 - Что все шаги ее суть чувства (фр.).], а о Беренике я серьезно думал, que tous ses dents etaient des idees. Des idees![16 - Что все ее зубы суть мысли! (фр.)] А, так вот сумасшедшая мысль, смутившая меня! Des idees, – а, так вот почему я безумно стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими могло вернуть мне покой, восстановить мой рассудок.
Так кончился для меня вечер, и наступила тьма и рассеялась; и вновь забрезжил день, и тень следующей ночи сгущалась вокруг, а я все еще сидел недвижно в моей одинокой келье, все еще сидел, погруженный в думы, и призрак зубов по-прежнему реял надо мной с изумительной и отвратительной ясностью. Наконец, крик ужаса и отчаяния прервал мою грезу; за ним последовал гул тревожных голосов вперемежку с тихими стонами скорби или боли. Я встал и, отворив дверь, увидел в соседней комнате девушку-служанку, которая со слезами сообщила мне, что Береника скончалась! Припадок эпилепсии случился рано утром, а теперь, с наступлением ночи, гроб уже готов был принять жильца своего, и все приготовления к погребению были сделаны.
Я сидел в библиотеке, и по-прежнему сидел в ней один. Казалось, что я только что очнулся от смутного и страшного сна. Я знал, что теперь была полночь и что с закатом солнца Беренику похоронили. Но о коротком промежутке времени между этими двумя мгновениями я не имел ясного представления. А между тем в памяти моей хранилось что-то ужасное, – вдвойне ужасное по своей неясности, вдвойне страшное по своей двусмысленности. То была безобразная страница в летописи моего существования, исписанная тусклыми, отвратительными и непонятными воспоминаниями. Я старался разобрать их – напрасно; в ушах моих, точно отголосок прекратившегося звука, без умолку раздавался резкий и пронзительный крик женщины. Я сделал что-то, но что я сделал? Я громко задавал себе этот вопрос, и эхо комнаты шепотом отвечало мне! Что я сделал?
На столе передо мной горела лампа, а подле нее лежал маленький ящик. В нем не было ничего особенного, и я часто видал его раньше, так как он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал сюда, на мой стол и почему я дрожал, глядя на него? Все это оставалось для меня необъяснимым. Случайно мой взгляд упал на развернутую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были странные, но простые слова поэта Эбн Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore lecatas». Почему же, когда я прочел их, волосы поднялись дыбом на моей голове и кровь застыла в жилах?
Кто-то тихонько постучал в дверь, и вошел слуга, бледный, как жилец могилы. Взор его помутился от ужаса, он что-то говорил дрожащим, тихим голосом. Что сказал он? Я слышал отрывочные слова. Он говорил о диких криках, возмутивших тишину ночи, о собравшейся дворне, о поисках в направлении, откуда раздался крик; и голос его стал пронзительно ясен, когда он шептал об оскверненной могиле, об обезображенном теле, еще дышащем, еще трепещущем, еще живом.
Он указывал на мое платье; оно было в грязи и в крови. Я ничего не отвечал, и он тихонько взял меня за руку: на ней были следы человеческих ногтей. Он указал мне на какой-то предмет, стоявший у стены; я взглянул, это был заступ! Я с криком кинулся к столу и схватил ящичек. Но я не мог открыть его; он выскользнул из рук моих, упал, разбился на куски, и из него со звоном выкатились инструменты зубного врача и тридцать два маленьких, белых, точно из слоновой кости, предмета, рассыпавшиеся по полу.
Лигейя
Тут воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и ее силу? Сам Бог – великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость его воли!
Джозеф Гленвилл[17 - Гленвилл Джозеф (1636–1680) – английский священник и философ. Автор трактата «Тщета догматики» (1661).]
Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда, ни даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесенных мною страданий. Или, быть может, я потому не могу теперь вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, ее редкие познания, ее особенная и ясная красота, упоительное красноречие ее сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в мое сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Но, кажется, впервые я встретил ее и часто потом встречал в каком-то большом, старинном, ветшающем городе на Рейне.
Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность ее происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!