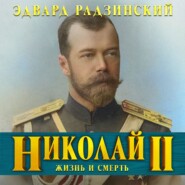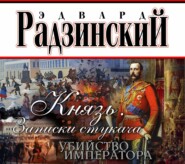По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
104 страницы про любовь
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну и что же ты не читаешь?
В ход опять пошла батарея – Режиссер зябко потер руки над воображаемым костром.
– Короче: я все время думал, почему у тебя она погибла?
В комнату заглянул Сережа.
– Мы работаем! – бешено заорал Режиссер. Сережа исчез.
– Понимаешь, смерть, – это уже было доверительное шептанье. – Я пытался даже переставить эпизоды; всунуть ее гибель в начало, перед первой сценой на экска… экс-ка-ла-торе, проклятое слово. Я все делал. И тут я пришел к выводу, сейчас ты меня убьешь. – И Режиссер прокричал: – Она не погибла! Только сразу не отрицай!
Он молчал. И Режиссер, все еще не решаясь на него посмотреть, заговорил скороговоркой:
– Она осталась жива. Финал другой. Мне рассказли недавно эпизод. Фамилии не называем. Она изменила ему, а он ее любил, любил по-страшному. – У Режиссера в глазах были слезы, он легко возбуждался. – И когда он все узнал, ворвался к ней домой и ударил ее. И при этом любил! Смертельно! И вот во время драки у нее задирается юбка. И когда он видит. Страсть! Бешеная! На грани безумия. В этом правда! Жестокая правда! Старик, какой эпизод! Они катаются по полу и… А потом опять лупят друг друга. А потом – опять. Дерутся и еб…ся! Бац! Бац!.. Какой эпизод! Вот что такое – «на сливочном масле!» Но я предлагаю другой финал – помнишь, они у тебя ссорятся перед финалом? И вот в результате бешеной ссоры они…
– Трахаются.
– Священная неясность, чувак! Два тела, точнее, тени-силуэты тел, и они не в постели, а в небе, они летят, как у Шагала, над домами, над миром! И только обнаженные руки, женская и мужская, тянутся друг к другу – но тщетно. В этом смысл того, что ты написал! А твоя катастрофа в финале – это по-детски банально! – режиссер развивал наступление. – И потому когда маразматик Соловейчик после читки задал вопрос: «Почему она погибла?» – я не мог ему ответить!
– Почему она погибла.
– Я не понимаю смысл этой смерти – это всего лишь сентиментальный Карамзин! А мне дай сливочное масло! Миры подавай! Не пойму – не могу снимать! Что ты молчишь?
Почему она погибла? И когда она погибла?
А тогда было только начало. Были просто солнечные дни, и ему нравилось, как она идет своей танцующей походкой, и как все оборачиваются ей вслед, и как она по-птичьи порывиста и радостно красива.
– Я не опоздала?
Она никогда не опаздывала. В крайнем случае, добиралась на микроавтобусах, на грузовичках, даже на поливальных машинах! Если в назначенный час у метро останавливалась какая-нибудь нелепая машина – это была она.
– Можешь меня чмокнуть в щечку. Нет-нет, чемоданчик не трогай. Я сама. Я потом как-нибудь нарочно устану для женственности и попрошу тебя понести. Что ты улыбаешься?
– Я не улыбаюсь.
– Нет, ты улыбаешься. У меня смешной вид, да? Просто у девушки в руках – два места: сумочка и пальтишко. Как я вышагиваю с тобой важно, ха-ха-ха! Нет-нет, чемоданчик не трогай!
Она боялась любой его помощи.
– Это не нужно девушке. Чтобы не мягчать. А то не заметишь и опять влопаешься в привязанность. А потом отвыкать трудно. Лучше подбадривать себя разными глупыми, грубыми словечками – опять же, чтобы не мягчать. А то хорошо мне – я плачу, плохо – реву, слезы у меня близко расположены, думаю я себе.
«Думаю я себе» – одно из выражений, которыми она себя «подбадривала». Другое – «ужасно».
По дороге ее посещали самые внезапные мысли, и тогда она вдруг вцеплялась в его руку и произносила, расширив зеленые глаза:
– Ужасно!
Но добиться от нее, что именно «ужасно», было невозможно. Она шла и молча шевелила губами – это она так беседовала сама с собой. А через несколько дней вдруг говорила:
– Знаешь, мне приснилось в ту ночь, что тебе стало плохо-плохо и ты остался совсем один, какой-то разорившийся, никому не нужный, «изгой», как говорит бабушка Вера Николаевна. И я тебя так жалею, ну до слез, а помочь почему-то не могу, не пускают меня к тебе. Представляешь, мы с тобой шли тогда – и я все это вдруг так отчетливо увидела!
Но все это она говорила ему потом.
В комнату весело ввалились все те же: Женщина с никаким лицом и радостный Сережа.
– Время, Федор Федорович!
Режиссер принял величественный, таинственный вид – такими, должно быть, бывают женщины перед родами.
– Пора в павильон! Со мной пойдешь или здесь над финалом подумаешь?
– Над финалом я думать не буду. Финал будет прежний.
– Парень, так не пойдет. Я прошу тебя о минимуме – другие вообще ничего не просят. Они просто не разговаривают с авторами, они их переделывают, – Режиссер распалял себя. – А я прошу! Я объясняю, почему меня жмет! Но ты…
Когда напечатали его повесть, некая критическая дама, существо некрасивое, естественно, умное и злое, сказала, яростно улыбаясь:
– Милая повесть. Можно, конечно, писать и получше, но нынче это необязательно. Восхитительна главная героиня – она святая. Это своего рода новаторство. Последние удачные жития святых были написаны в пятнадцатом веке.
Он горячился. Ответил что-то обидное. Зачем? Она была не виновата. Она никогда не любила. И ее не любили… И оттого она была так яростно деловита и с такой страстью занималась уймой важных и серьезных вещей, которые в конечном счете оказываются такими неважными и несерьезными.
А она – любила. И поэтому повесть имела успех. Ему повезло с ней. Ему попалась прекрасная она. Это самое важное, если ты стараешься писать правду. А он тогда старался.
– Если хочешь знать правду – надо переписать полсценария! – кричал Режиссер, уже стоя в дверях. Чтобы весь коридор слышал, как он управляется с автором. И как он несчастен. – Скажи что-нибудь! Роди!
– Пошел к черту.
– Пошел сам! Я не буду снимать! Снимай сам это дерьмо! Говенный святочный рассказ! И справедливо об этом писали!
– Зачем ты тогда взялся снимать?
– Потому что нечего было снимать! Понимаешь: не-че-го! А хочется! А нечего! А надо! «Ам-ам» делать надо!
– Федор Федорович, в павильоне заждались, – нежно сказал Сережа. Он любил скандалы.
– Я прошу тебя, парень, – сказал Режиссер покорно и тихо, – постарайся меня понять. И не надо со мной ругаться! А то тебе что – отряхнулся и пошел, а мне снимать! Посиди, подумай, чувак. И приходи.
– Мы в седьмом павильоне, – сказал Сережа.
И все они пропали за дверью.
Эту историю он считал святой для себя. Он обещал себе не разрешать никому прикасаться к ней. И когда зазвонили телефоны с киностудий (это было ему приятно, этого он ожидал), он с достоинством отказывался. Чем больше он отказывался, тем больше разжигались страсти – таков был закон. Прошло несколько лет или несколько месяцев, как ему показалось (нет, по календарю все-таки несколько лет), и он забыл свое обещание и согласился. К тому времени он многое забыл из своих обещаний.
Дверь отворилась, и вошел Сережа. А может, и не Сережа. Может, двойник или тройник.
– Ну, как вы? – спросил лже-Сережа.
– Ничего.
В ход опять пошла батарея – Режиссер зябко потер руки над воображаемым костром.
– Короче: я все время думал, почему у тебя она погибла?
В комнату заглянул Сережа.
– Мы работаем! – бешено заорал Режиссер. Сережа исчез.
– Понимаешь, смерть, – это уже было доверительное шептанье. – Я пытался даже переставить эпизоды; всунуть ее гибель в начало, перед первой сценой на экска… экс-ка-ла-торе, проклятое слово. Я все делал. И тут я пришел к выводу, сейчас ты меня убьешь. – И Режиссер прокричал: – Она не погибла! Только сразу не отрицай!
Он молчал. И Режиссер, все еще не решаясь на него посмотреть, заговорил скороговоркой:
– Она осталась жива. Финал другой. Мне рассказли недавно эпизод. Фамилии не называем. Она изменила ему, а он ее любил, любил по-страшному. – У Режиссера в глазах были слезы, он легко возбуждался. – И когда он все узнал, ворвался к ней домой и ударил ее. И при этом любил! Смертельно! И вот во время драки у нее задирается юбка. И когда он видит. Страсть! Бешеная! На грани безумия. В этом правда! Жестокая правда! Старик, какой эпизод! Они катаются по полу и… А потом опять лупят друг друга. А потом – опять. Дерутся и еб…ся! Бац! Бац!.. Какой эпизод! Вот что такое – «на сливочном масле!» Но я предлагаю другой финал – помнишь, они у тебя ссорятся перед финалом? И вот в результате бешеной ссоры они…
– Трахаются.
– Священная неясность, чувак! Два тела, точнее, тени-силуэты тел, и они не в постели, а в небе, они летят, как у Шагала, над домами, над миром! И только обнаженные руки, женская и мужская, тянутся друг к другу – но тщетно. В этом смысл того, что ты написал! А твоя катастрофа в финале – это по-детски банально! – режиссер развивал наступление. – И потому когда маразматик Соловейчик после читки задал вопрос: «Почему она погибла?» – я не мог ему ответить!
– Почему она погибла.
– Я не понимаю смысл этой смерти – это всего лишь сентиментальный Карамзин! А мне дай сливочное масло! Миры подавай! Не пойму – не могу снимать! Что ты молчишь?
Почему она погибла? И когда она погибла?
А тогда было только начало. Были просто солнечные дни, и ему нравилось, как она идет своей танцующей походкой, и как все оборачиваются ей вслед, и как она по-птичьи порывиста и радостно красива.
– Я не опоздала?
Она никогда не опаздывала. В крайнем случае, добиралась на микроавтобусах, на грузовичках, даже на поливальных машинах! Если в назначенный час у метро останавливалась какая-нибудь нелепая машина – это была она.
– Можешь меня чмокнуть в щечку. Нет-нет, чемоданчик не трогай. Я сама. Я потом как-нибудь нарочно устану для женственности и попрошу тебя понести. Что ты улыбаешься?
– Я не улыбаюсь.
– Нет, ты улыбаешься. У меня смешной вид, да? Просто у девушки в руках – два места: сумочка и пальтишко. Как я вышагиваю с тобой важно, ха-ха-ха! Нет-нет, чемоданчик не трогай!
Она боялась любой его помощи.
– Это не нужно девушке. Чтобы не мягчать. А то не заметишь и опять влопаешься в привязанность. А потом отвыкать трудно. Лучше подбадривать себя разными глупыми, грубыми словечками – опять же, чтобы не мягчать. А то хорошо мне – я плачу, плохо – реву, слезы у меня близко расположены, думаю я себе.
«Думаю я себе» – одно из выражений, которыми она себя «подбадривала». Другое – «ужасно».
По дороге ее посещали самые внезапные мысли, и тогда она вдруг вцеплялась в его руку и произносила, расширив зеленые глаза:
– Ужасно!
Но добиться от нее, что именно «ужасно», было невозможно. Она шла и молча шевелила губами – это она так беседовала сама с собой. А через несколько дней вдруг говорила:
– Знаешь, мне приснилось в ту ночь, что тебе стало плохо-плохо и ты остался совсем один, какой-то разорившийся, никому не нужный, «изгой», как говорит бабушка Вера Николаевна. И я тебя так жалею, ну до слез, а помочь почему-то не могу, не пускают меня к тебе. Представляешь, мы с тобой шли тогда – и я все это вдруг так отчетливо увидела!
Но все это она говорила ему потом.
В комнату весело ввалились все те же: Женщина с никаким лицом и радостный Сережа.
– Время, Федор Федорович!
Режиссер принял величественный, таинственный вид – такими, должно быть, бывают женщины перед родами.
– Пора в павильон! Со мной пойдешь или здесь над финалом подумаешь?
– Над финалом я думать не буду. Финал будет прежний.
– Парень, так не пойдет. Я прошу тебя о минимуме – другие вообще ничего не просят. Они просто не разговаривают с авторами, они их переделывают, – Режиссер распалял себя. – А я прошу! Я объясняю, почему меня жмет! Но ты…
Когда напечатали его повесть, некая критическая дама, существо некрасивое, естественно, умное и злое, сказала, яростно улыбаясь:
– Милая повесть. Можно, конечно, писать и получше, но нынче это необязательно. Восхитительна главная героиня – она святая. Это своего рода новаторство. Последние удачные жития святых были написаны в пятнадцатом веке.
Он горячился. Ответил что-то обидное. Зачем? Она была не виновата. Она никогда не любила. И ее не любили… И оттого она была так яростно деловита и с такой страстью занималась уймой важных и серьезных вещей, которые в конечном счете оказываются такими неважными и несерьезными.
А она – любила. И поэтому повесть имела успех. Ему повезло с ней. Ему попалась прекрасная она. Это самое важное, если ты стараешься писать правду. А он тогда старался.
– Если хочешь знать правду – надо переписать полсценария! – кричал Режиссер, уже стоя в дверях. Чтобы весь коридор слышал, как он управляется с автором. И как он несчастен. – Скажи что-нибудь! Роди!
– Пошел к черту.
– Пошел сам! Я не буду снимать! Снимай сам это дерьмо! Говенный святочный рассказ! И справедливо об этом писали!
– Зачем ты тогда взялся снимать?
– Потому что нечего было снимать! Понимаешь: не-че-го! А хочется! А нечего! А надо! «Ам-ам» делать надо!
– Федор Федорович, в павильоне заждались, – нежно сказал Сережа. Он любил скандалы.
– Я прошу тебя, парень, – сказал Режиссер покорно и тихо, – постарайся меня понять. И не надо со мной ругаться! А то тебе что – отряхнулся и пошел, а мне снимать! Посиди, подумай, чувак. И приходи.
– Мы в седьмом павильоне, – сказал Сережа.
И все они пропали за дверью.
Эту историю он считал святой для себя. Он обещал себе не разрешать никому прикасаться к ней. И когда зазвонили телефоны с киностудий (это было ему приятно, этого он ожидал), он с достоинством отказывался. Чем больше он отказывался, тем больше разжигались страсти – таков был закон. Прошло несколько лет или несколько месяцев, как ему показалось (нет, по календарю все-таки несколько лет), и он забыл свое обещание и согласился. К тому времени он многое забыл из своих обещаний.
Дверь отворилась, и вошел Сережа. А может, и не Сережа. Может, двойник или тройник.
– Ну, как вы? – спросил лже-Сережа.
– Ничего.