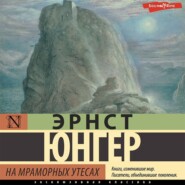По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На мраморных утесах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сразу после прибытия Лампуза взяла на себя наше хозяйство. Работа у нее спорилась, да и в посадках у нее была легкая рука. В то время как мы с братом Ото сажали растения со всем тщанием, она бросала семена неглубоко и позволяла сорнякам расти, как им заблагорассудится. Но, несмотря на это, она умудрялась, особо не утруждаясь, собирать урожай сам-три зерна и плодов. Часто я замечал, как она с насмешливой улыбкой поглядывала на наши грядки с овальными фарфоровыми табличками, на которых брат Ото каллиграфическим почерком выводил названия семейств и сортов высаженных нами растений. При этом она хищно обнажала огромный, как кабаний клык, резец – единственный, остававшийся у нее во рту зуб.
Я, подражая Эрио, называл ее «баба», но даже несмотря на это, она говорила со мной только о хозяйстве, да и то каким-то шутовским тоном, как это часто делают экономки. Имя Сильвии мы не упоминали никогда. Тем не менее мне было неловко, когда Лоретта, на следующий вечер после той ночи на валу, зашла меня навестить. Старуха не потеряла присутствия духа и, весело улыбаясь, быстро подала вино, жаркое и сладкий пирог.
В отношении Эрио я питал естественную любовь кровного отца и духовную привязанность отца приемного. Нам нравился его спокойный, внимательный ум. Как все дети, он старательно подражал занятиям взрослых, которых видел в своем мирке. Эрио с самых ранних лет обратился к растениям. Мы часто видели его подолгу сидящим на террасе и наблюдающим лилии, готовые вот-вот распуститься, и как только они раскрывались, он спешил в Библиотеку, к брату Ото, дабы порадовать его этой новостью. С той же охотой он поднимался рано поутру и становился перед мраморной чашей, где мы выращивали водяную розу из Зипангу, чьи чашелистики с нежным звуком лопались от первых лучей восходящего солнца. В Гербарии я тоже поставил для Эрио маленький стульчик – он часто сиживал там, глядя, как я работаю. Когда я ощущал его близость, я чувствовал необыкновенную бодрость, как если бы все вещи вокруг преображались под воздействием глубинного, радостного пламени жизни, горевшего в маленьком тельце. Казалось, будто даже животные искали его общества: встречая Эрио в саду, я часто видел, как вокруг него буквально вились красные жуки, которых местный народ называет петушками Фреи; они бегали по его рукам и облепляли волосы. Странно было и то, что копьеголовые гадюки, по зову Лампузы окружавшие котелок светящимися клубками, оказавшись рядом с Эрио, образовывали фигуру лучистого круга. Первым заметил это брат Ото.
Так и вышло, что наша жизнь немного отклонилась от задуманных нами планов. Но мы скоро заметили, что это отклонение пошло на пользу нашим трудам.
6
Согласно нашему плану, мы решили основательно, с чистого листа, заняться растениями и поэтому начали c испытанного веками метода – приведения духа в порядок через дыхание и питание. Как и все создания земные, растения тоже жаждут говорить с нами, но требуется очень ясный ум, чтобы понимать их язык. Хотя в вегетации, цветении и увядании кроется хитрость, избежать которой не в силах ни одна тварь, нетрудно все же догадаться, какое неизменное начало заключено в оболочку видимости. Искусство так изощрить свой взор брат Ото назвал «отсасыванием времени» – правда, он полагал, что чистая пустота по сию сторону смерти все равно остается недостижимой.
Втянувшись в работу, мы скоро заметили, что наша тема – почти вопреки нашей воле – расширилась. Может быть, все дело в чистом воздухе обители, задавшем новое направление нашим мыслям, подобно тому, как в атмосфере чистого кислорода пламя становится жарче и ярче. Всего через несколько недель нашего пребывания здесь у меня возникло такое впечатление, что изменились все предметы, и перемену эту воспринимал я почти как недостаток, поскольку не мог их описать, а язык, которым я владел, перестал меня удовлетворять.
Однажды утром, когда я смотрел с террасы на Бухту, воды ее показались мне глубже и светлее, словно я впервые обозрел ее незамутненным безмятежным взором. В то же мгновение я почувствовал, почти болезненно, как Слово отделилось от Явления – так отрывается тетива от слишком сильно натянутого лука. Я прозрел частичку радужной вуали этого мира, и с этого часа язык перестал повиноваться мне с прежней привычной легкостью. Но в те же мгновения мною овладело новое бодрствование. Как дети, выходя из темного помещения на свет, поначалу двигаются на ощупь, так и я пытался найти новые слова и образы, чтобы охватить разумом новый блеск вещей, блеск, ослеплявший меня. Никогда прежде не догадывался я, что язык может причинять такие неимоверные муки, но, несмотря на это, мне не хотелось возвращения прежней, естественной и беспристрастной жизни. Если мы вообразим, что в один прекрасный день сможем взлететь, то даже неуклюжий и опасный прыжок будет нам дороже, чем надежность проторенной дороги. Тем и объясняется головокружение, какое я испытывал от моих занятий.
На новом неизведанном пути легко утратить чувство меры, и это счастье, что на дороге этой сопутствовал мне брат Ото, что именно он осмотрительно шагал впереди. Нередко, когда удавалось мне проникнуть в суть какого-то слова, я с пером в руке спешил вниз, к брату Ото, а он часто поднимался ко мне в Гербарий с такой же вестью. Нашим любимым занятием было творить образы – мы называли их моделями. Мы легким размером записывали на клочках бумаги три-четыре предложения. В этих ритмичных фразах придавали мы форму осколкам мозаики мира, как оправляют камни в металл. В этих моделях отправной точкой были растения, но мы не останавливались на них и шли дальше. Таким способом описывали мы предметы и превращения – все, от песчинки до мраморного утеса и от неуловимой секунды до времени года. Вечером мы аккуратно складывали эти листочки, перечитывали, а затем сжигали их в камине.
Очень скоро ощутили мы, как жизнь стала нам опорой, придав нам новую, надежную устойчивость. Слово – царь и волшебник одновременно. Мы следовали возвышенному примеру Линнея, который вступил в хаос животного и растительного царств с маршальским жезлом слова. И куда чудеснее всех царств, когда-либо завоеванных мечом, его сохранившееся в веках царство и власть над луговыми цветами и легионами некогда безымянных червей.
Так явилось и нам понимание, что и в стихиях господствует порядок. И человек ощущает влечение подражать своим слабым духом творению, как испытывают птицы инстинктивное влечение к строительству гнезд. Высшим вознаграждением наших усилий стало понимание того, что мера и правило навечно вкраплены в случайности и сумятицу этого земного мира. В нашем восхождении приближаемся мы к тайне, погребенной в мировой пыли. Так с каждым отвоеванным у горной высоты шагом убывает и съеживается случайный рисунок горизонта, и когда мы поднимаемся достаточно высоко, то вдруг обнаруживаем, что там, где мы стоим, нас окружает чистейшее кольцо, венчающее нас с вечностью.
То, что мы делали, оставалось, конечно, ученичеством и копированием. Но тем не менее мы ощущали радость, как ощущает ее каждый, кто не позволяет взять себя в плен обыденности. Земля Бухты перестала ослеплять нас и выступала теперь перед нами more geometrico[4 - Геометрическим способом (лат.).]. Дни неслись все быстрее, как несутся воды, падающие с высоты плотин. Иногда, когда задувал западный ветер, мы ощущали прилив наслаждения чистой, незамутненной радостью.
Но, самое главное, мы понемногу избавлялись от ужасавшего нас страха, который, словно смрадные болотные испарения, затуманивает разум. Мы не оставляли свой труд и продолжали работать, когда в нашей области властью завладел Старший Лесничий и по всей стране стал расползаться страх.
7
Старшего Лесничего мы давно знали как Старого Властителя Мавритании. Мы часто видели его на сходках, а порой проводили с ним вечера за картами и кутежом. Он принадлежал к числу тех персонажей, которых мавританцы считают важными господами и одновременно забавными фигурами – так смотрят в кавалерийском полку на старого полковника запаса, который временами наезжает в часть из своего поместья. Он запечатлелся в памяти, пожалуй, лишь потому, что его зеленый, украшенный золотыми листьями падуба фрак невольно привлекал всеобщее внимание.
Он был чудовищно, неправдоподобно богат, и на празднествах, которые он устраивал в ратуше, царили непомерное изобилие и роскошь. По старинному обыкновению, на этих пирах плотно ели и неумеренно пили, а дубовая столешница игрового стола прогибалась под тяжестью золота. Славились также и азиатские игрища, которые устраивал он для ревностных приверженцев на своих укромных виллах. Я часто находил возможность наблюдать его вблизи, и тогда меня касалось дыхание древней власти, веяние его лесов. В те времена и косность всего его существа не воспринималась мною как помеха, ибо все мавританцы с течением времени проникаются таким же автоматическим характером. Эта черта особенно ярко проступала в его взгляде. В глазах Старшего Лесничего, особенно когда он смеялся, появлялся блеск внушающей неописуемый ужас благосклонности. Глаза его, как у многих старых пьяниц, были подернуты красноватым налетом, но одновременно в них читалась хитрость и несокрушимая сила – да, сила державной независимости. В то время близость его была нам приятна – мы были исполнены мужества и нас числили среди могущественных мира сего.
Позднее я слышал, как брат Ото говорил о наших мавританских временах, что заблуждение только тогда превращается в порок, когда упорно продолжают держаться этого заблуждения. Эти слова представлялись мне еще более правдивыми, когда я думал о положении, в каком мы находились, когда этот орден привлек нас к себе. Существуют гибельные эпохи, когда стирается форма, предписанная сокровенному устроению жизни. Оказавшись в такой эпохе, мы начинаем шататься из стороны в сторону, как существа, утратившие чувство равновесия. Из смутных радостей впадаем мы в столь же смутные горести, а в зеркале осознания потерь, которое всегда нас оживляет, будущее и прошлое кажутся более манящими, чем настоящее. Так и парим мы в ушедших временах или в отдаленных утопиях, пока настоящий миг утекает как песок.
Как только осознали мы этот порок, мы исполнились стремления избавиться от него. Мы ощутили томление по настоящей, действенной жизни и были готовы ринуться в лед, огонь и эфир, лишь бы освободиться от мертвящей тоски. Как всегда, когда сомнение сочетается с избыточностью, мы обратились к насилию – и разве оно не есть вечный маятник, движущий вперед стрелки, будь то днем или среди ночи? Так и мы начали грезить о власти и превосходстве, равно как и о формах, которые сходятся в смертельной схватке жизни – будь то на погибель или на торжество. И мы с мрачной радостью учились травлению, когда кислоту льют на темное зеркало отшлифованного металла. При таких наклонностях наше сближение с мавританцами стало неизбежным. Мы были вовлечены в это дело Капитаном, который покончил с крупным восстанием в Иберийских провинциях.
Тот, кто знаком с историей тайных орденов, знает, как трудно оценить их истинную численность и влияние. Равным образом известна и плодотворность, с какой они организовывали свои ответвления и колонии; решавшие проследить за ними очень скоро терялись в запутанном лабиринте. То же касалось и мавританцев. Новичку особенно странным казалось то, что в помещениях ордена представители смертельно ненавидевших друг друга групп могли мирно беседовать друг с другом. К целям мавританцев можно причислить и искусное ведение мирских дел. Они требовали, чтобы власть осуществлялась бесстрастно, на божественный манер, и, соответственно, их школы выпускали ясные, вольные и неизменно грозные умы. Неважно, занимались ли они подстрекательством к мятежу или установлением порядка, – там, где они побеждали, они побеждали как мавританцы, и гордый девиз этого ордена «Semper victrix»[5 - «Всегда одерживающий победу» (лат.).] относился не к его членам, а к его главе и доктрине. В гуще времени и его безостановочного течения орден стоял несокрушимо, и в его резиденциях и дворцах царили основательность и величественная простота.
Но не наслаждение покоем заставило нас примкнуть к ним. Когда человек теряет точку опоры, им начинает править страх, вихрь которого ослепляет. Среди мавританцев, однако, царило безмятежное спокойствие, как в центре циклона. Падая в пропасть, человек видит окружающее с предельной степенью отчетливости, как в увеличительном стекле. Именно такой взгляд, только без примеси страха, приобретался в атмосфере Мавритании, которая в основе своей была напоена злом. Именно тогда, когда начинал преобладать страх, прибывала способность к холодному мышлению и духовному отчуждению. На фоне катастроф царило приподнятое настроение; люди шутили над собой, как шутят арендаторы игорного дома по поводу разорившихся клиентов.
Тогда стало мне отчетливо ясно, что паника, чья тень всегда ложилась на наши большие города, находит противовес в отважном мужестве немногих, которые, словно орлы, парят над ничтожными земными страданиями. Однажды, когда мы выпивали с Капитаном, он задумчиво посмотрел в запотевший бокал как в стекло, раскрывающее прошлое, и мечтательно произнес: «Самым сладостным был для меня тот бокал зекта, что поднесли нам к стенобитным машинам в ту ночь, когда мы сожгли до тла Сагунт». И мы подумали: лучше погибнуть вот с этим, нежели жить с теми, кто от страха зарывается в пыль.
Но я отвлекся. У мавританцев можно было научиться игре, которая могла взбодрить ничем уже не связанный дух, смертельно уставший от самоиронии. У них же мир переплавился в карту, в том виде, в каком ее рисуют для любителей – с помощью циркулей и прочих блестящих инструментов; брать их в руки – одно удовольствие. Отсюда странным казалось, что и в этом светлом, лишенном тени и абстрактнейшем из пространств можно вдруг наткнуться на такие фигуры, как Старший Лесничий. Однако всякий раз, когда свободный дух завоевывает господство, то и аборигены тянутся к нему, как тянутся змеи к открытому огню. Они – старые знатоки власти, они чуют приближение новой эры, воздвигающей тирана, который с начала времен живет в их сердцах. Так возникают в великом ордене тайные ходы и подземелья, где неминуемо заблудится любой историк. Так начинается тайная борьба, разгорающаяся в самом средоточии власти. Борьба между образами и мыслями, борьба между идолами и духом.
В таких раздорах лишь немногим дано понять, откуда берет начало земное коварство. Это озарение снизошло и на меня, когда меня в поисках без вести пропавшего Фортунио занесло в охотничьи угодья Старшего Лесничего. С той поры я познал границы, положенные мужеству, и стал избегать темной опушки лесов, которые один древний муж любил называть своим «Тевтобургским лесом»; он вообще был великим мастером хитроумно разыгрывать честность и порядочность.
8
В поисках Фортунио проник я на северную опушку этих лесов, в то время как наша обитель находилась неподалеку от их южной оконечности, граничащей с Бургундией. По нашем возвращении обнаружили мы, что от старых порядков в Бухте осталась лишь призрачная тень. До того, начиная почти со времен Карла Великого, они всегда оставались в неприкосновенности – чужеземные владыки приходили и уходили, но всегда оставался народ, растивший виноградную лозу, повинуясь обычаю и закону. Богатство и поистине изысканная красота тамошней земли очень скоро оказывали смягчающее влияние на любую власть, какой бы крутой она ни была поначалу. Так действует красота на власть.
Однако война у Плоскогорья, которую вели так, словно воевали с турками, ударила глубже. Ударила, как мороз, разрушающий сердцевину ствола, после чего дерево начинает медленно умирать. Так и жизнь у Бухты сначала продолжала свой бег по привычному кругу. Она шла по-старому, но прежней уже не была. Когда мы стояли на террасе и глядели на цветущий венок садов, до нас временами доносилось дыхание глубоко скрытой усталости и анархии. И именно тогда до боли тронула нас красота этой земли. Так перед заходом солнца краски жизни начинают сверкать ярче и прекраснее.
В эти первые времена мы почти ничего не слышали о Старшем Лесничем. Но странно было ощущать его приближение к нам в той же мере, в какой нарастало ослабление привычного порядка, а реальность понемногу отступала. Сначала стали появляться неясные слухи, как появляются темные толки об эпидемиях, разразившихся в дальних гаванях. Потом распространились сообщения о нашествиях и насилиях – эти сведения передавались из уст в уста, и в конце концов творившиеся злодеяния стали неприкрытыми и очевидными. Как в горах густой туман предвещает непогоду, приходу Старшего Лесничего предшествовало густое облако страха. Страх скрывал его, как дымовая завеса, и я убежден, что его силу стоило искать в этом страхе, а не в нем самом. Он мог действовать только там, где дела уже и так шли вкривь и вкось – да и леса благоприятствовали нападению на страну.
Забравшись на вершины мраморных утесов, можно было от края до края обозреть область, на каковую он стремился распространить свою власть. Для того чтобы достичь зубцов, нам приходилось взбираться по узкой лестнице, прорубленной в скале возле хижины Лампузы. Омытые дождями ступени вели на выступающую вперед площадку, откуда открывался вид на всю округу. Здесь проводили мы многие солнечные часы, когда утесы лучились пестрым многоцветьем, ибо там, где сквозь расщелины ослепительно белых скал просачивалась вода, виднелись красные и блекло-светлые вкрапления. Исполинским гобеленом с тяжелых глыб свешивался темный плющ, а во влажных трещинах сверкали серебристые листья многолетнего лунника.
Поднимаясь, мы задевали ногами усики ежевики и пугали жемчужных ящериц, которые, поблескивая зелеными чешуйками, убегали на зубцы. Там, где густо нависал травянистый покров, изобиловавший синей горечавкой, из скалы вырастали друзы, окаймленные горным хрусталем, а в самой пещере сонно моргали сычи. Там же гнездились и быстрые ржаво-красные соколы; мы проходили так близко от их выводков, что отчетливо видели отверстия в их клювах, подернутых, словно голубым воском, нежной кожицей.
Здесь, на окруженной зубцами вершине, воздух был свежее, чем внизу, в котловине, где в знойном мареве подрагивали виноградники. Временами жара поднимала вверх потоки воздуха, которые мелодично, словно орган, звучали в расселинах, неся с собой едва уловимые ароматы роз, миндаля и мелиссы. Со скалы глубоко внизу мы видели крышу нашей обители. На юге, по ту сторону Бухты, защищенная ледниковым поясом, высилась свободная горная страна Плоскогорья. Частенько ее пики и вершины скрывались в тумане, поднимавшемся от воды, но, когда воздух очищался, мы могли различить высокие кедры, которые высоко вздымались над обточенной ветрами крупной галькой. В такие дни ощущали мы приближение фёна и на ночь тушили огонь в печи.
Иногда задерживали мы взгляд на островах Бухты, которые в шутку называли Гесперидами; на их берегах темнели стройные кипарисы. На этих островах в самые жестокие зимы не бывает ни мороза, ни снега; фиги и апельсины зреют на вольном воздухе, а розы цветут круглый год. Во время цветения миндаля и абрикосов люди Бухты плавают по ней на весельных лодках, которые скользят по синей глади, как светлые древесные листья. Напротив, осенью в Бухту выходят на солидных судах, чтобы полакомиться рыбой святого Петра, которая в лунные ночи выныривает из глубины на поверхность и в изобилии наполняет сети. Рыбаки ловят эту рыбу в полном молчании, ибо верят, что даже тихое слово спугнет ее, а ругательство и подавно испортит весь лов. На лов жители островов выходят, веселясь, запасаясь вином и хлебом, виноградники же на островах скудны. Там нет осенних прохладных ночей, когда на винограде выпадает роса, а его огонь возвышает дух предчувствием гибели.
Стоит посмотреть на Бухту во время этого празднества, чтобы почувствовать, что такое жизнь. Ранним утром оттуда доносится шум – отчетливый и изящный, как видят предметы при взгляде с обратной стороны подзорной трубы. Мы слышали звон колоколов и гром мортир, которым встречали украшенные венками суда; потом раздавалось пение благочестивых толп, стремившихся поглазеть на чудесные картины, слышали тонкий писк флейт свадебного поезда. Слышали мы и гомон галок, круживших вокруг флюгеров, крики петухов, кукованье кукушек, звуки рожков, на которых играли охотники – они раздавались от охотничьей процессии, выходившей из городских ворот. Так чудесно все это звучало, так шутовски, что казалось, будто весь мир соткан из лоскутов дурацкого наряда – но пьянило это зрелище не хуже доброго вина по утрам.
Глубоко внизу Бухту окаймлял венец маленьких городков со стенами и башнями римских времен; над городками возвышались серые от древности соборы и меровингские замки. Между городками лежали богатые деревни, над коньками крыш их домов кружили стаи голубей, виднелись там и позеленевшие от мха мельницы, куда местные жители осенью водили ослов, нагруженных мешками с солодом. И снова крепости, гнездящиеся на вершинах скал, и монастыри, огни на стенах которых ярко отражались в поверхности прудов с зеркальными карпами.
Когда мы смотрели с высоты на города и видели, как заботится человек о крове, о радости, о хлебе насущном и молитве, время свертывалось и съеживалось перед нашим взором. И словно из разверстых гробниц невидимо выходили мертвецы. Они всегда близки нам, когда направляем мы свой исполненный любви взор на издревле возделанный край; мы видим, как в камне и бороздах пашен живет их наследие, как властвует верный дух предков над полями и лугами.
За спиной у нас, на севере, пролегала граница Кампании; она отделялась от Бухты мраморными утесами, словно крепостным валом. Весной этот луговой пояс раскидывался, словно возвышенный цветочный ковер, по которому привольно и широко бродили стада коров, словно плывя по пестрой пене. В полдень они отдыхали в болотистых тенистых низинах с ольховыми рощами и зарослями дрожащих осин, которые виднелись на обширном пространстве, как лиственные острова, из которых часто поднимался к небу дым пастушеских костров. Видны были также многочисленные дворы с хлевами и ригами, высокими журавлями колодцев, откуда брали воду для скота.
Летом здесь было очень жарко и туманно, а осенью, во время спаривания змей, эта полоса земли представляла собой выжженную солнцем полупустынную степь. Противоположным краем эта земля соприкасалась с заболоченной местностью, в глуши которой не было никаких признаков человеческого жилья. Там и сям виднелись лишь грубые хижины из тростника – убежища охотников на уток, а на ольхах укрывались в листве охотничьи засады, выглядевшие как вороньи гнезда. Здесь уже господствовал и правил Старший Лесничий, и очень скоро на этих землях начал подниматься корабельный лес. От его опушек длинными дугами протягивалась в луга новая лесная поросль, которую в народе прозвали рогами.
Таково было пространство, видимое вокруг мраморных утесов. С их высоты мы взирали на жизнь, складную и связную, как виноградники, приносившие драгоценные плоды. Видели мы и ее границы: горы, в которых нашла приют высокая, но скудная свобода варварских народов, на севере же простирались болота и темные земли, откуда угрожал кровавый тиран.
Очень часто, стоя вдвоем на гребне скал, раздумывали мы над тем, сколько всего нужно для того, что вырастить зерно и испечь хлеб, и сколько всего надо, чтобы дух в безопасности расправил крылья.
9
В хорошие времена никто не обращал особого внимания на распри, время от времени случавшиеся в Кампании, так как подобное происходит во всех степных странах, населенных пастухами. Каждую весну происходили стычки из-за еще не клейменного скота, а потом драки за водопои, когда наступал сезон засухи. Огромные быки с кольцами в носу, снившиеся в страшных снах женщинам Бухты, вторгались в чужие стада и гнали их к мраморным утесам, у подножья которых часто находили побелевшие от солнца рога и ребра.
Но, самое главное, был этот пастушеский народ диким и необузданным. Свое положение наследовали они с незапамятных времен от отца к сыну, и когда эти оборванцы садились в круг около своих костров, сжимая в руках оружие, то при виде этих детей природы становилось отчетливо ясно, как отличаются они от народа, растившего виноград на склонах. Эти люди жили, как во времена, не знавшие ни жилища, ни плуга, ни ткацкого станка, когда устраивали временные пристанища на путях выпаса стад. Этому же соответствовали их обычаи и чувство чести и справедливости, покоившееся на праве мести. Каждый смертельный удар зажигал долгое пламя мщения, и бывали случаи клановых и семейных распрей, причина которых давно изгладилась в памяти враждующих, но распри эти, год за годом, собирали свою кровавую дань. Преступления, совершавшиеся в Кампании, юристы Бухты называли грубыми, бессмысленными деяниями, подрывавшими самое понятие о праве; пастухов не призывали на форум, наоборот, комиссии посылали к ним. В других округах правосудие вершили на своих обширных дворах арендаторы магнатов и владельцы ленов. Помимо этого, были еще и вольные пастухи, очень состоятельные – такие как батаки и беловары.
Я, подражая Эрио, называл ее «баба», но даже несмотря на это, она говорила со мной только о хозяйстве, да и то каким-то шутовским тоном, как это часто делают экономки. Имя Сильвии мы не упоминали никогда. Тем не менее мне было неловко, когда Лоретта, на следующий вечер после той ночи на валу, зашла меня навестить. Старуха не потеряла присутствия духа и, весело улыбаясь, быстро подала вино, жаркое и сладкий пирог.
В отношении Эрио я питал естественную любовь кровного отца и духовную привязанность отца приемного. Нам нравился его спокойный, внимательный ум. Как все дети, он старательно подражал занятиям взрослых, которых видел в своем мирке. Эрио с самых ранних лет обратился к растениям. Мы часто видели его подолгу сидящим на террасе и наблюдающим лилии, готовые вот-вот распуститься, и как только они раскрывались, он спешил в Библиотеку, к брату Ото, дабы порадовать его этой новостью. С той же охотой он поднимался рано поутру и становился перед мраморной чашей, где мы выращивали водяную розу из Зипангу, чьи чашелистики с нежным звуком лопались от первых лучей восходящего солнца. В Гербарии я тоже поставил для Эрио маленький стульчик – он часто сиживал там, глядя, как я работаю. Когда я ощущал его близость, я чувствовал необыкновенную бодрость, как если бы все вещи вокруг преображались под воздействием глубинного, радостного пламени жизни, горевшего в маленьком тельце. Казалось, будто даже животные искали его общества: встречая Эрио в саду, я часто видел, как вокруг него буквально вились красные жуки, которых местный народ называет петушками Фреи; они бегали по его рукам и облепляли волосы. Странно было и то, что копьеголовые гадюки, по зову Лампузы окружавшие котелок светящимися клубками, оказавшись рядом с Эрио, образовывали фигуру лучистого круга. Первым заметил это брат Ото.
Так и вышло, что наша жизнь немного отклонилась от задуманных нами планов. Но мы скоро заметили, что это отклонение пошло на пользу нашим трудам.
6
Согласно нашему плану, мы решили основательно, с чистого листа, заняться растениями и поэтому начали c испытанного веками метода – приведения духа в порядок через дыхание и питание. Как и все создания земные, растения тоже жаждут говорить с нами, но требуется очень ясный ум, чтобы понимать их язык. Хотя в вегетации, цветении и увядании кроется хитрость, избежать которой не в силах ни одна тварь, нетрудно все же догадаться, какое неизменное начало заключено в оболочку видимости. Искусство так изощрить свой взор брат Ото назвал «отсасыванием времени» – правда, он полагал, что чистая пустота по сию сторону смерти все равно остается недостижимой.
Втянувшись в работу, мы скоро заметили, что наша тема – почти вопреки нашей воле – расширилась. Может быть, все дело в чистом воздухе обители, задавшем новое направление нашим мыслям, подобно тому, как в атмосфере чистого кислорода пламя становится жарче и ярче. Всего через несколько недель нашего пребывания здесь у меня возникло такое впечатление, что изменились все предметы, и перемену эту воспринимал я почти как недостаток, поскольку не мог их описать, а язык, которым я владел, перестал меня удовлетворять.
Однажды утром, когда я смотрел с террасы на Бухту, воды ее показались мне глубже и светлее, словно я впервые обозрел ее незамутненным безмятежным взором. В то же мгновение я почувствовал, почти болезненно, как Слово отделилось от Явления – так отрывается тетива от слишком сильно натянутого лука. Я прозрел частичку радужной вуали этого мира, и с этого часа язык перестал повиноваться мне с прежней привычной легкостью. Но в те же мгновения мною овладело новое бодрствование. Как дети, выходя из темного помещения на свет, поначалу двигаются на ощупь, так и я пытался найти новые слова и образы, чтобы охватить разумом новый блеск вещей, блеск, ослеплявший меня. Никогда прежде не догадывался я, что язык может причинять такие неимоверные муки, но, несмотря на это, мне не хотелось возвращения прежней, естественной и беспристрастной жизни. Если мы вообразим, что в один прекрасный день сможем взлететь, то даже неуклюжий и опасный прыжок будет нам дороже, чем надежность проторенной дороги. Тем и объясняется головокружение, какое я испытывал от моих занятий.
На новом неизведанном пути легко утратить чувство меры, и это счастье, что на дороге этой сопутствовал мне брат Ото, что именно он осмотрительно шагал впереди. Нередко, когда удавалось мне проникнуть в суть какого-то слова, я с пером в руке спешил вниз, к брату Ото, а он часто поднимался ко мне в Гербарий с такой же вестью. Нашим любимым занятием было творить образы – мы называли их моделями. Мы легким размером записывали на клочках бумаги три-четыре предложения. В этих ритмичных фразах придавали мы форму осколкам мозаики мира, как оправляют камни в металл. В этих моделях отправной точкой были растения, но мы не останавливались на них и шли дальше. Таким способом описывали мы предметы и превращения – все, от песчинки до мраморного утеса и от неуловимой секунды до времени года. Вечером мы аккуратно складывали эти листочки, перечитывали, а затем сжигали их в камине.
Очень скоро ощутили мы, как жизнь стала нам опорой, придав нам новую, надежную устойчивость. Слово – царь и волшебник одновременно. Мы следовали возвышенному примеру Линнея, который вступил в хаос животного и растительного царств с маршальским жезлом слова. И куда чудеснее всех царств, когда-либо завоеванных мечом, его сохранившееся в веках царство и власть над луговыми цветами и легионами некогда безымянных червей.
Так явилось и нам понимание, что и в стихиях господствует порядок. И человек ощущает влечение подражать своим слабым духом творению, как испытывают птицы инстинктивное влечение к строительству гнезд. Высшим вознаграждением наших усилий стало понимание того, что мера и правило навечно вкраплены в случайности и сумятицу этого земного мира. В нашем восхождении приближаемся мы к тайне, погребенной в мировой пыли. Так с каждым отвоеванным у горной высоты шагом убывает и съеживается случайный рисунок горизонта, и когда мы поднимаемся достаточно высоко, то вдруг обнаруживаем, что там, где мы стоим, нас окружает чистейшее кольцо, венчающее нас с вечностью.
То, что мы делали, оставалось, конечно, ученичеством и копированием. Но тем не менее мы ощущали радость, как ощущает ее каждый, кто не позволяет взять себя в плен обыденности. Земля Бухты перестала ослеплять нас и выступала теперь перед нами more geometrico[4 - Геометрическим способом (лат.).]. Дни неслись все быстрее, как несутся воды, падающие с высоты плотин. Иногда, когда задувал западный ветер, мы ощущали прилив наслаждения чистой, незамутненной радостью.
Но, самое главное, мы понемногу избавлялись от ужасавшего нас страха, который, словно смрадные болотные испарения, затуманивает разум. Мы не оставляли свой труд и продолжали работать, когда в нашей области властью завладел Старший Лесничий и по всей стране стал расползаться страх.
7
Старшего Лесничего мы давно знали как Старого Властителя Мавритании. Мы часто видели его на сходках, а порой проводили с ним вечера за картами и кутежом. Он принадлежал к числу тех персонажей, которых мавританцы считают важными господами и одновременно забавными фигурами – так смотрят в кавалерийском полку на старого полковника запаса, который временами наезжает в часть из своего поместья. Он запечатлелся в памяти, пожалуй, лишь потому, что его зеленый, украшенный золотыми листьями падуба фрак невольно привлекал всеобщее внимание.
Он был чудовищно, неправдоподобно богат, и на празднествах, которые он устраивал в ратуше, царили непомерное изобилие и роскошь. По старинному обыкновению, на этих пирах плотно ели и неумеренно пили, а дубовая столешница игрового стола прогибалась под тяжестью золота. Славились также и азиатские игрища, которые устраивал он для ревностных приверженцев на своих укромных виллах. Я часто находил возможность наблюдать его вблизи, и тогда меня касалось дыхание древней власти, веяние его лесов. В те времена и косность всего его существа не воспринималась мною как помеха, ибо все мавританцы с течением времени проникаются таким же автоматическим характером. Эта черта особенно ярко проступала в его взгляде. В глазах Старшего Лесничего, особенно когда он смеялся, появлялся блеск внушающей неописуемый ужас благосклонности. Глаза его, как у многих старых пьяниц, были подернуты красноватым налетом, но одновременно в них читалась хитрость и несокрушимая сила – да, сила державной независимости. В то время близость его была нам приятна – мы были исполнены мужества и нас числили среди могущественных мира сего.
Позднее я слышал, как брат Ото говорил о наших мавританских временах, что заблуждение только тогда превращается в порок, когда упорно продолжают держаться этого заблуждения. Эти слова представлялись мне еще более правдивыми, когда я думал о положении, в каком мы находились, когда этот орден привлек нас к себе. Существуют гибельные эпохи, когда стирается форма, предписанная сокровенному устроению жизни. Оказавшись в такой эпохе, мы начинаем шататься из стороны в сторону, как существа, утратившие чувство равновесия. Из смутных радостей впадаем мы в столь же смутные горести, а в зеркале осознания потерь, которое всегда нас оживляет, будущее и прошлое кажутся более манящими, чем настоящее. Так и парим мы в ушедших временах или в отдаленных утопиях, пока настоящий миг утекает как песок.
Как только осознали мы этот порок, мы исполнились стремления избавиться от него. Мы ощутили томление по настоящей, действенной жизни и были готовы ринуться в лед, огонь и эфир, лишь бы освободиться от мертвящей тоски. Как всегда, когда сомнение сочетается с избыточностью, мы обратились к насилию – и разве оно не есть вечный маятник, движущий вперед стрелки, будь то днем или среди ночи? Так и мы начали грезить о власти и превосходстве, равно как и о формах, которые сходятся в смертельной схватке жизни – будь то на погибель или на торжество. И мы с мрачной радостью учились травлению, когда кислоту льют на темное зеркало отшлифованного металла. При таких наклонностях наше сближение с мавританцами стало неизбежным. Мы были вовлечены в это дело Капитаном, который покончил с крупным восстанием в Иберийских провинциях.
Тот, кто знаком с историей тайных орденов, знает, как трудно оценить их истинную численность и влияние. Равным образом известна и плодотворность, с какой они организовывали свои ответвления и колонии; решавшие проследить за ними очень скоро терялись в запутанном лабиринте. То же касалось и мавританцев. Новичку особенно странным казалось то, что в помещениях ордена представители смертельно ненавидевших друг друга групп могли мирно беседовать друг с другом. К целям мавританцев можно причислить и искусное ведение мирских дел. Они требовали, чтобы власть осуществлялась бесстрастно, на божественный манер, и, соответственно, их школы выпускали ясные, вольные и неизменно грозные умы. Неважно, занимались ли они подстрекательством к мятежу или установлением порядка, – там, где они побеждали, они побеждали как мавританцы, и гордый девиз этого ордена «Semper victrix»[5 - «Всегда одерживающий победу» (лат.).] относился не к его членам, а к его главе и доктрине. В гуще времени и его безостановочного течения орден стоял несокрушимо, и в его резиденциях и дворцах царили основательность и величественная простота.
Но не наслаждение покоем заставило нас примкнуть к ним. Когда человек теряет точку опоры, им начинает править страх, вихрь которого ослепляет. Среди мавританцев, однако, царило безмятежное спокойствие, как в центре циклона. Падая в пропасть, человек видит окружающее с предельной степенью отчетливости, как в увеличительном стекле. Именно такой взгляд, только без примеси страха, приобретался в атмосфере Мавритании, которая в основе своей была напоена злом. Именно тогда, когда начинал преобладать страх, прибывала способность к холодному мышлению и духовному отчуждению. На фоне катастроф царило приподнятое настроение; люди шутили над собой, как шутят арендаторы игорного дома по поводу разорившихся клиентов.
Тогда стало мне отчетливо ясно, что паника, чья тень всегда ложилась на наши большие города, находит противовес в отважном мужестве немногих, которые, словно орлы, парят над ничтожными земными страданиями. Однажды, когда мы выпивали с Капитаном, он задумчиво посмотрел в запотевший бокал как в стекло, раскрывающее прошлое, и мечтательно произнес: «Самым сладостным был для меня тот бокал зекта, что поднесли нам к стенобитным машинам в ту ночь, когда мы сожгли до тла Сагунт». И мы подумали: лучше погибнуть вот с этим, нежели жить с теми, кто от страха зарывается в пыль.
Но я отвлекся. У мавританцев можно было научиться игре, которая могла взбодрить ничем уже не связанный дух, смертельно уставший от самоиронии. У них же мир переплавился в карту, в том виде, в каком ее рисуют для любителей – с помощью циркулей и прочих блестящих инструментов; брать их в руки – одно удовольствие. Отсюда странным казалось, что и в этом светлом, лишенном тени и абстрактнейшем из пространств можно вдруг наткнуться на такие фигуры, как Старший Лесничий. Однако всякий раз, когда свободный дух завоевывает господство, то и аборигены тянутся к нему, как тянутся змеи к открытому огню. Они – старые знатоки власти, они чуют приближение новой эры, воздвигающей тирана, который с начала времен живет в их сердцах. Так возникают в великом ордене тайные ходы и подземелья, где неминуемо заблудится любой историк. Так начинается тайная борьба, разгорающаяся в самом средоточии власти. Борьба между образами и мыслями, борьба между идолами и духом.
В таких раздорах лишь немногим дано понять, откуда берет начало земное коварство. Это озарение снизошло и на меня, когда меня в поисках без вести пропавшего Фортунио занесло в охотничьи угодья Старшего Лесничего. С той поры я познал границы, положенные мужеству, и стал избегать темной опушки лесов, которые один древний муж любил называть своим «Тевтобургским лесом»; он вообще был великим мастером хитроумно разыгрывать честность и порядочность.
8
В поисках Фортунио проник я на северную опушку этих лесов, в то время как наша обитель находилась неподалеку от их южной оконечности, граничащей с Бургундией. По нашем возвращении обнаружили мы, что от старых порядков в Бухте осталась лишь призрачная тень. До того, начиная почти со времен Карла Великого, они всегда оставались в неприкосновенности – чужеземные владыки приходили и уходили, но всегда оставался народ, растивший виноградную лозу, повинуясь обычаю и закону. Богатство и поистине изысканная красота тамошней земли очень скоро оказывали смягчающее влияние на любую власть, какой бы крутой она ни была поначалу. Так действует красота на власть.
Однако война у Плоскогорья, которую вели так, словно воевали с турками, ударила глубже. Ударила, как мороз, разрушающий сердцевину ствола, после чего дерево начинает медленно умирать. Так и жизнь у Бухты сначала продолжала свой бег по привычному кругу. Она шла по-старому, но прежней уже не была. Когда мы стояли на террасе и глядели на цветущий венок садов, до нас временами доносилось дыхание глубоко скрытой усталости и анархии. И именно тогда до боли тронула нас красота этой земли. Так перед заходом солнца краски жизни начинают сверкать ярче и прекраснее.
В эти первые времена мы почти ничего не слышали о Старшем Лесничем. Но странно было ощущать его приближение к нам в той же мере, в какой нарастало ослабление привычного порядка, а реальность понемногу отступала. Сначала стали появляться неясные слухи, как появляются темные толки об эпидемиях, разразившихся в дальних гаванях. Потом распространились сообщения о нашествиях и насилиях – эти сведения передавались из уст в уста, и в конце концов творившиеся злодеяния стали неприкрытыми и очевидными. Как в горах густой туман предвещает непогоду, приходу Старшего Лесничего предшествовало густое облако страха. Страх скрывал его, как дымовая завеса, и я убежден, что его силу стоило искать в этом страхе, а не в нем самом. Он мог действовать только там, где дела уже и так шли вкривь и вкось – да и леса благоприятствовали нападению на страну.
Забравшись на вершины мраморных утесов, можно было от края до края обозреть область, на каковую он стремился распространить свою власть. Для того чтобы достичь зубцов, нам приходилось взбираться по узкой лестнице, прорубленной в скале возле хижины Лампузы. Омытые дождями ступени вели на выступающую вперед площадку, откуда открывался вид на всю округу. Здесь проводили мы многие солнечные часы, когда утесы лучились пестрым многоцветьем, ибо там, где сквозь расщелины ослепительно белых скал просачивалась вода, виднелись красные и блекло-светлые вкрапления. Исполинским гобеленом с тяжелых глыб свешивался темный плющ, а во влажных трещинах сверкали серебристые листья многолетнего лунника.
Поднимаясь, мы задевали ногами усики ежевики и пугали жемчужных ящериц, которые, поблескивая зелеными чешуйками, убегали на зубцы. Там, где густо нависал травянистый покров, изобиловавший синей горечавкой, из скалы вырастали друзы, окаймленные горным хрусталем, а в самой пещере сонно моргали сычи. Там же гнездились и быстрые ржаво-красные соколы; мы проходили так близко от их выводков, что отчетливо видели отверстия в их клювах, подернутых, словно голубым воском, нежной кожицей.
Здесь, на окруженной зубцами вершине, воздух был свежее, чем внизу, в котловине, где в знойном мареве подрагивали виноградники. Временами жара поднимала вверх потоки воздуха, которые мелодично, словно орган, звучали в расселинах, неся с собой едва уловимые ароматы роз, миндаля и мелиссы. Со скалы глубоко внизу мы видели крышу нашей обители. На юге, по ту сторону Бухты, защищенная ледниковым поясом, высилась свободная горная страна Плоскогорья. Частенько ее пики и вершины скрывались в тумане, поднимавшемся от воды, но, когда воздух очищался, мы могли различить высокие кедры, которые высоко вздымались над обточенной ветрами крупной галькой. В такие дни ощущали мы приближение фёна и на ночь тушили огонь в печи.
Иногда задерживали мы взгляд на островах Бухты, которые в шутку называли Гесперидами; на их берегах темнели стройные кипарисы. На этих островах в самые жестокие зимы не бывает ни мороза, ни снега; фиги и апельсины зреют на вольном воздухе, а розы цветут круглый год. Во время цветения миндаля и абрикосов люди Бухты плавают по ней на весельных лодках, которые скользят по синей глади, как светлые древесные листья. Напротив, осенью в Бухту выходят на солидных судах, чтобы полакомиться рыбой святого Петра, которая в лунные ночи выныривает из глубины на поверхность и в изобилии наполняет сети. Рыбаки ловят эту рыбу в полном молчании, ибо верят, что даже тихое слово спугнет ее, а ругательство и подавно испортит весь лов. На лов жители островов выходят, веселясь, запасаясь вином и хлебом, виноградники же на островах скудны. Там нет осенних прохладных ночей, когда на винограде выпадает роса, а его огонь возвышает дух предчувствием гибели.
Стоит посмотреть на Бухту во время этого празднества, чтобы почувствовать, что такое жизнь. Ранним утром оттуда доносится шум – отчетливый и изящный, как видят предметы при взгляде с обратной стороны подзорной трубы. Мы слышали звон колоколов и гром мортир, которым встречали украшенные венками суда; потом раздавалось пение благочестивых толп, стремившихся поглазеть на чудесные картины, слышали тонкий писк флейт свадебного поезда. Слышали мы и гомон галок, круживших вокруг флюгеров, крики петухов, кукованье кукушек, звуки рожков, на которых играли охотники – они раздавались от охотничьей процессии, выходившей из городских ворот. Так чудесно все это звучало, так шутовски, что казалось, будто весь мир соткан из лоскутов дурацкого наряда – но пьянило это зрелище не хуже доброго вина по утрам.
Глубоко внизу Бухту окаймлял венец маленьких городков со стенами и башнями римских времен; над городками возвышались серые от древности соборы и меровингские замки. Между городками лежали богатые деревни, над коньками крыш их домов кружили стаи голубей, виднелись там и позеленевшие от мха мельницы, куда местные жители осенью водили ослов, нагруженных мешками с солодом. И снова крепости, гнездящиеся на вершинах скал, и монастыри, огни на стенах которых ярко отражались в поверхности прудов с зеркальными карпами.
Когда мы смотрели с высоты на города и видели, как заботится человек о крове, о радости, о хлебе насущном и молитве, время свертывалось и съеживалось перед нашим взором. И словно из разверстых гробниц невидимо выходили мертвецы. Они всегда близки нам, когда направляем мы свой исполненный любви взор на издревле возделанный край; мы видим, как в камне и бороздах пашен живет их наследие, как властвует верный дух предков над полями и лугами.
За спиной у нас, на севере, пролегала граница Кампании; она отделялась от Бухты мраморными утесами, словно крепостным валом. Весной этот луговой пояс раскидывался, словно возвышенный цветочный ковер, по которому привольно и широко бродили стада коров, словно плывя по пестрой пене. В полдень они отдыхали в болотистых тенистых низинах с ольховыми рощами и зарослями дрожащих осин, которые виднелись на обширном пространстве, как лиственные острова, из которых часто поднимался к небу дым пастушеских костров. Видны были также многочисленные дворы с хлевами и ригами, высокими журавлями колодцев, откуда брали воду для скота.
Летом здесь было очень жарко и туманно, а осенью, во время спаривания змей, эта полоса земли представляла собой выжженную солнцем полупустынную степь. Противоположным краем эта земля соприкасалась с заболоченной местностью, в глуши которой не было никаких признаков человеческого жилья. Там и сям виднелись лишь грубые хижины из тростника – убежища охотников на уток, а на ольхах укрывались в листве охотничьи засады, выглядевшие как вороньи гнезда. Здесь уже господствовал и правил Старший Лесничий, и очень скоро на этих землях начал подниматься корабельный лес. От его опушек длинными дугами протягивалась в луга новая лесная поросль, которую в народе прозвали рогами.
Таково было пространство, видимое вокруг мраморных утесов. С их высоты мы взирали на жизнь, складную и связную, как виноградники, приносившие драгоценные плоды. Видели мы и ее границы: горы, в которых нашла приют высокая, но скудная свобода варварских народов, на севере же простирались болота и темные земли, откуда угрожал кровавый тиран.
Очень часто, стоя вдвоем на гребне скал, раздумывали мы над тем, сколько всего нужно для того, что вырастить зерно и испечь хлеб, и сколько всего надо, чтобы дух в безопасности расправил крылья.
9
В хорошие времена никто не обращал особого внимания на распри, время от времени случавшиеся в Кампании, так как подобное происходит во всех степных странах, населенных пастухами. Каждую весну происходили стычки из-за еще не клейменного скота, а потом драки за водопои, когда наступал сезон засухи. Огромные быки с кольцами в носу, снившиеся в страшных снах женщинам Бухты, вторгались в чужие стада и гнали их к мраморным утесам, у подножья которых часто находили побелевшие от солнца рога и ребра.
Но, самое главное, был этот пастушеский народ диким и необузданным. Свое положение наследовали они с незапамятных времен от отца к сыну, и когда эти оборванцы садились в круг около своих костров, сжимая в руках оружие, то при виде этих детей природы становилось отчетливо ясно, как отличаются они от народа, растившего виноград на склонах. Эти люди жили, как во времена, не знавшие ни жилища, ни плуга, ни ткацкого станка, когда устраивали временные пристанища на путях выпаса стад. Этому же соответствовали их обычаи и чувство чести и справедливости, покоившееся на праве мести. Каждый смертельный удар зажигал долгое пламя мщения, и бывали случаи клановых и семейных распрей, причина которых давно изгладилась в памяти враждующих, но распри эти, год за годом, собирали свою кровавую дань. Преступления, совершавшиеся в Кампании, юристы Бухты называли грубыми, бессмысленными деяниями, подрывавшими самое понятие о праве; пастухов не призывали на форум, наоборот, комиссии посылали к ним. В других округах правосудие вершили на своих обширных дворах арендаторы магнатов и владельцы ленов. Помимо этого, были еще и вольные пастухи, очень состоятельные – такие как батаки и беловары.