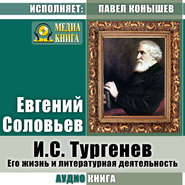По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прежняя государственность была безжалостна. Она, как Кальвин, объявляла, что для нее не существует людей, а только поступки. В Женеве ребенок, провинившийся в богохульстве, подвергался суровому наказанию. У нас дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшим за то, что он думал иначе, чем следует, ввела бесконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человека; и горе тому, кто отступал от правила: наказание постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была везде: в канцеляриях и департаментах, в казармах и семьях. От крестьянина она требовала только труда (во имя чего, кстати заметить, многие помещики брали на себя руководительство половым отбором), от солдата – только службы, от чиновника – только исполнительности, от детей – только повиновения.
19 февраля нанесло страшный удар этой строгой, суровой системе. Манифест говорил, что человек может жить и для себя. Он давал крестьянину свое поле, свой труд, возможность лично устраивать свое благосостояние. Он разрешал ему любить по-своему, жаловаться от себя, заниматься чем хочет. Он давал ему самоуправление. Начались другие реформы – судебные, административные, военные. Общество дружно подхватило их и само ввело реформу в семье. Дети заявили, что они хотят жить по-своему и для себя. Родителям пришлось согласиться.
Все это делалось во имя личной свободы человека и было осуществлением одной части интеллигентных мечтаний. Но манифест пошел дальше: он не только освободил крестьян – он освободил их с землею.
Говоря об этом, Достоевский впадает в лиризм. Он считает освобождение крестьян с землею великим фактом XIX века и началом новой эры. Не увлекаясь до такой степени, можно, по нашему мнению, сказать, что это событие – следствие того положительного, реального течения русской мысли, которое сформировало шестидесятые годы и само окончательно сложилось в это время.
Я уже говорил, что сороковые годы необходимо рассматривать как период перелома в интеллигентном миросозерцании. Тогда отрешились от романтизма и от метафизических воззрений, тогда перешли к изучению политической экономии и естественных наук, тогда же резко изменилось само понятие свободы. Прежде, под влиянием Шиллера, Шеллинга, Гегеля, ее понимали главным образом как свободу мысли, свободу сознания. «Свобода внутри вас» – это говорилось, доказывалось, возводилось в догмат. Раз ты освободил себя в мысли, ты свободен и больше тебе желать нечего. Фраза Гегеля:
«Иметь сто гульденов и думать, что ты их имеешь, – то же самое» – не возбуждала ни насмешек, ни недоумевающего пожимания плечами. Это был один из догматов зарвавшейся философской мысли, совершенно оторванной от действительности. И вдруг сенсимонизм, романы Жорж Санд, политическая экономия и естественные науки. Люди мучительно задумались над тем, что же такое свобода, которой они так страстно желали. Оказалось, что «иметь» и «думать» – не то же самое; что свобода сама по себе звук пустой; что, находясь внутри человека как самосознание, она должна опираться на что-нибудь внешнее; что нет права без возможности пользоваться им; нет свободы без возможности реализировать ее.
Это отчетливо доказал 1848 год. Конституции, которые лелеялись так долго, которые встречались с такими рукоплесканиями, летели в пропасть одна за другой, сопровождаемые свистом, шиканьем, проклятиями. А как хорошо расписаны были в них права человека, какие великолепные гарантии придуманы были юристами, как красиво звучали параграфы о свободных республиках, всеобщей подаче голосов, обязанностях правительств радеть прежде всего об общем благе, благе народов и подданных. И вдруг все рухнуло. Оказалось, что все это был один лишь мираж, декорации, которые исчезли немедленно, как только жизнь вступила в свои права. Правами и свободой воспользовались только те, кто имел эту возможность, а неимущие? Те по-прежнему влачили жалкое существование, не понимая, почему конституции так пышно распространяются о том, что они полноправны.
Итак, свобода не только в правах, в хартиях, в сознании. Ей нужна опора. Наш век ясно говорит, какая опора нужна ей. Это – экономический базис.
Манифест 19 февраля разрешил и этот вопрос, и разрешил его в смысле положительной философии и реального мышления. Он наделил свободного крестьянина землей. И это было на самом деле великим завоеванием жизни; быть может и правда, что это начало новой исторической эры.
Не все поняли указанную сторону манифеста. Но те, кто понял, приветствовали его еще больше, потому что
достигнутое было отчасти результатом и их трудов. Они работали над разрушением романтизма и идеализма, они всю жизнь проповедовали положительную философию, естествознание, политическую экономию, реализм.
В первом ряду среди этих деятелей стоит А. Герцен. Главная заслуга в том, что интеллигентная мысль сороковых годов получила новое направление, принадлежит ему.
Глава I. Детство, отрочество, юность
Александр Иванович Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года, за несколько месяцев до нашествия Наполеона. Он был внебрачным сыном родовитого русского барича Ивана Алексеевича Яковлева и молодой немки Луизы Ивановны Гааг, которую Яковлев увез из Штутгарта. Более странную обстановку, чем та, которая окружала Герцена в детские годы, трудно себе и представить. И старое барство, и русское самодурство, и немецкая кротость, и безалаберность крепостничества, и европейские замашки соединились вместе возле его колыбели сначала, возле его комнатки потом, чтобы создать один из самых разносторонних умов, которые только знает наше прошлое.
Его отец, Иван Алексеевич, вернувшись в Москву из-за границы, где он, скучая и зевая, провел целый год, нанял вместе с братом своим, сенатором Львом Алексеевичем, большой дом на Тверском бульваре. Решено было устроиться на заграничный манер – просто и недорого; но, как бы в насмешку над собственным проектом, братья немедленно завели целый батальон дворовой прислуги, евшей, пившей и скучавшей без всякой работы, пока какой-то изобретательный форейтор Филатка не задумал устраивать где-то на задворках петушиных боев. Цель жизни для дворни нашлась. Господам отыскать ее оказалось гораздо труднее, совершенно невозможно даже. К счастью, средства были громадные, крестьяне аккуратно вносили оброк, и хотя старосты воровали не менее аккуратно, все же оставалось слишком даже достаточно. Поэтому братья имели полную возможность устроиться каждый по-своему.
Старший – Лев Алексеевич, дядя Герцена – был по характеру человек добрый, любивший рассеяние. Он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, несмотря даже на то, что все события 1789–1815 годов не только прошли подле, но и непосредственно касались его. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвилю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он находился в Париже во время коронования Наполеона… Словом, он был свидетелем всех огромных происшествий последнего времени, но как-то странно: не так, как следует. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где не было двора; не зная законов и русского судопроизводства, он попал в Сенат и сделался членом опекунского совета; все должности исполнял с рвением, которое только вредило, и с честностью, которой никто не замечал. Но он был неунывающий человек, вечно в хлопотах и разъездах. Застать его дома было совершенно немыслимо. Он заезжал к себе лишь для того, чтобы переодеться, справиться о здоровье племянника Шушки,[1 - Шушка – домашнее имя Герцена.] переменить лошадей и опять мчаться куда-нибудь по самому неотложному делу. Утром он ехал в Сенат, два раза в неделю на заседание в совет, столько же в больницу, в институт. Вечером навещал тетку-княжну или сестер, или являлся на французский спектакль, часто в средине пьесы, и уезжал, не дождавшись конца… Скучать ему было некогда: он всегда был занят, рассеян; он все ехал куда-нибудь, и жизнь его катилась легко; до 75-ти лет он был здоров, как молодой человек, являлся на все большие балы и обеды, на все торжественные собрания и годовые акты, все равно какие: агрономические, медицинские, страхового от огня общества, естествоиспытателей, археологов, – словом, куда угодно. Добродушная улыбка не сходила с его лица, оживленная речь не прекращалась ни на минуту: он постоянно рассказывал новости. Племянника баловал страшно.
Таков дядя – богатый, знатный, пустой, но милейший и добрейший человек, кость от кости и плоть от плоти когда-то веселой, добродушной, богатой Москвы. Не то был отец – Иван Алексеевич.
«Нельзя, – рассказывает о нем сам Герцен, – представить больше противоположного вечно движущемуся сангвиническому Сенатору, как его брата. Иван Алексеевич, вечно капризный, почти никогда не выходил со двора и ненавидел весь официальный мир. У него было тоже восемь лошадей (прескверных), но его конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч. Он держал их отчасти для того, чтобы два кучера и два форейтора имели какое-нибудь занятие, сверх хождения за „Московскими ведомостями“ и петушиных боев.
Иван Алексеевич редко бывал в хорошем расположении духа и постоянно был всем недоволен; человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил; светский человек accompli,[2 - совершенный (фр.).] он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение от всех. Откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его? Разве он унес в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил, или это было просто следствие встречи двух культур до того противоположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей развитию праздности. Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтобы выйти в «окно» гильотины. Наш век не производит больше этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызывало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада – русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме».
Все esprits forts,[3 - вольнодумцы (фр.).] волокиты с седыми волосами, неудачники родовой знати, ворчавшие постоянно на быстрые успехи по службе выходцев вроде Сперанского или Аракчеева и находившиеся в оппозиции, которая так же была нужна им, как обед в Английском клубе, принадлежали к этому кругу «московских законодателей», как их называли тогда. В них сильна была еще память о екатерининском времени с его безумною роскошью, фейерверками из государственных ассигнаций, величавыми одами Державина, торжественным настроением жизни, и они были недовольны тем, что все вокруг них становится уже, расчетливее, прижимистее, что место вельможи занял чиновник, покорный, исполнительный, вообще – человек «себе на уме». «Нет, прежнего не вернешь, – говорили они, – то ли в наше время». Для развлечения устраивали они «клубные» революции: сначала чествовали Багратиона, зная, что он не угоден при дворе, потом бранили Сперанского, отворачивались от Аракчеева.
Среди них Иван Алексеевич пользовался большим весом. Родовитость его была несомненна. Он вел свое происхождение от выходца из Пруссии, короля Вейдевута; состояние его, несмотря на безалабернейшее в мире управление поместьями, считалось сотнями тысяч; свою оппозицию всему официальному, пришлому он выказывал постоянно. В юности он служил в Измайловском полку, дослужился до капитана, бросил службу при восшествии на престол Павла Петровича, опасаясь, вероятно, неожиданной поездки в Сибирь, несколько лет разъезжал по Европе из одного города в другой, скучая и зевая, и наконец возвратился в Россию, чтобы скучать и зевать, но уже на одном месте и уже на всю жизнь. На самом деле это был странный человек.
Людей он презирал откровенно, открыто, всех. Никогда не рассчитывал ни на кого и ни к кому не обращался со значительной просьбой, – он и сам ни для кого ничего не делал. В сношениях с посторонними требовал одного – сохранения приличий; les apparences, les convenances[4 - видимость приличия (фр.).] составляли его нравственную религию. Он многое прощал или, лучше сказать, пропускал сквозь пальцы, но нарушение форм и приличий выводило его из себя: тут он терял всякую терпимость, малейшее снисхождение и сострадание. Он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное и если не делает, то или не имеет нужды, или случай не подходит. В нарушении же форм он видел личную обиду, неуважение к нему или «мещанское воспитание», которое, по его мнению, отлучало человека от всякого людского общества. «В жизни, – говорил он, – всего важнее l'esprit de conduite,[5 - умение вести себя (фр.).] важнее превыспреннего ума и всякого учения. Везде уметь найтись, нигде не соваться вперед, со всеми чрезвычайная вежливость и ни с кем фамильярности». Он не любил никакой откровенности и называл ее не иначе, как ami-cochon'ством, всякое чувство казалось ему сентиментальностью, и он постоянно представлял из себя человека, стоявшего выше всех этих мелочей…
Не особенно крепкого здоровья, не могший поэтому ни кутить, ни распутничать, Иван Алексеевич вдался в другую крайность: он счел или притворился, что счел себя безнадежно больным. Его любимым чтением были медицинские книги, по крайней мере раскрытый лечебник всегда лежал на его письменном столе. Он беспрестанно лечился. Кроме домового доктора, к нему ездили два или три медика, и он делал по крайней мере три консилиума в год.
Это лечение забавляло и развлекало его. Кроме того, он с наслаждением пользовался всеми привилегиями безнадежно больного человека: принимал гостей в халате на белых мерлушках, говорил всем дерзости, выводил из терпения даже своего добродушнейшего из смертных брата-сенатора, никогда не отвечал на визиты и делал неприятности всем и каждому. Холодная беспощадная ирония, ирония человека, инстинктивно чувствующего, что его жизнь прошла ни к чему, в особенности отличала его. Взгляните на его лицо. Оно если не красиво, то родовито и внушительно. Длинный нос, круглые навыкат глаза с мутным, холодным выражением, которые как бы дали зарок nihil admirari (никогда и ничему не удивляться) и, что бы ни случилось, смотреть на все своим мутным, холодным, затаенно-насмешливым взглядом; тонкие губы, никогда не улыбавшиеся, общее ледяное выражение, говорящее о непомерном самолюбии, о самом настойчивом эгоизме, – таков Иван Алексеевич на своем портрете. К чему ирония, над чем смеяться? – он не спрашивал себя об этом. В своей замкнутости ему приятно и удобно, как раковине в скорлупе. Это броня, защита от жизни, которая, очевидно, чем-то обидела его, чего-то не дала ему, и он, капризный, избалованный барин, ушел в себя, забросил куда-то ключ от своего сердца и знать ничего не хотел, кроме своих «конвенансов» и «аппарансов». Он любил одного только сына своего Шушку – маленького Герцена – и терпеть не мог другого, также внебрачного – Егора Ивановича. Что определяло его любовь и антипатию, сказать трудно, но чувство было искреннее, не без доли самоотречения, как увидим ниже, и тем более странное, что возлюбленный сын достался ему совершенно неожиданно.
Но как бы то ни было, Иван Алексеевич сразу и навсегда привязался к ребенку. Когда его спросили, какую дать фамилию новорожденному, он сказал – «Herzen» («Сын любви»). Он звал его не иначе, как Шушка, вплоть до того времени, пока у Герцена не появился свой собственный маленький Шушка.
Оберегая ребенка от простуды, он не выпускал его из комнаты целую зиму, а если дозволял прокатиться, то сверх шубы и теплой шали закутывал платками и шарфами. Предостерегая от расстройства желудка, держал на строгой диете. При малейшем насморке или кашле поднимались такие хлопоты и тревоги, что, глядя на них, ребенок воображал себя сильно больным и принимался блажить до того, что всех выводил из терпения. Сейчас являлся доктор, прописывал лекарства, которые давал ему по часам и непременно с точностью до одной секунды сам Иван Алексеевич. Если Шушка, закутанный в меха, одеяла и шарфы и лежа притом в страшно натопленной комнате, принимался колобродить и метаться, Иван Алексеевич садился подле него и старался его развлечь, давая ему ломать дорогие игрушки, – что, кстати сказать, Герцен в здоровом состоянии духа очень любил делать, – а если это не помогало, брал его на руки и ходил с ним по комнате, пока ребенок не успокаивался. Замечательно, между прочим, что чем больше беспокоил его сын, чем больше он капризничал, тем это больше нравилось Ивану Алексеевичу: в неудержимых капризах Шушки он как бы любовался собственной своей природой.
Кроме отца, ребенка баловали все окружающие без исключения. Заезжая раз пять в день домой, чтобы рассказать последнюю новость, Сенатор непременно привозил какую-нибудь дорогую игрушку и, полюбовавшись на то, как Шушка, обуреваемый жаждой исследования, немедленно же приводил ее в груду обломков, опять исчезал на неизбежное заседание. Его камердинер Кало, настоящий тип старого слуги, отказавшийся даже от любимой девушки, когда узнал, что барин женатого держать при себе не будет, ухаживал за ребенком, как преданная нянька, и тешил его, напрягая при этом всю свою изобретательность. Шушка целые дни проводил в его комнате, куда скрывался от глаз отца или от излишнего ухаживания своих настоящих нянюшек, двух добрейших старух, вечно вязавших чулки, вечно ворчавших, – докучал ему, шалил; Кало выносил все, вырезывал своему любимцу разные чудеса из картонной бумаги или вытачивал из дерева забавные безделушки. По вечерам приносил из библиотеки книги с картинками и терпеливо показывал их. Шушка любовался, а особенно понравившеесянемедленно вырывал и, скомкавши, бросал на пол.
Луиза Ивановна, мать, нежила сына меньше других, но не запрещала кричать, шуметь и шалить целые дни. Главные свои подвиги он и производил именно на ее половине, потому что отца все же побаивался. Он был так жив и резв, что пять минут не мог оставаться на одном месте без шума. Колотил, стучал, ломал – только трещали дорогие игрушки. По целым часам барабанил в барабан, расхаживая по комнате и не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Иногда останавливался у двери, начинал прыгать через порог с одной стороны на другую и пел на всю комнату краковяк. Для этой операции почему-то надевал всегда халатик из мерлушек и подпоясывался зеленым шелковым поясом отца с серебряной пряжкой. Раз он так надоел матери шумом и трескотней, что она стала строго останавливать его. Это было так неожиданно, что ребенок, пристально посмотревши на нее, вскрикнул: «Прощайте, умираю!» – бросился на пол, сложил руки крестом, закрыл глаза и долго оставался неподвижным, как ни уговаривали его подняться. «Я умер», – повторял он и отчаянно дрыгал ногами при малейшем прикосновении. К этому средству он стал прибегать при всяком замечании, и не подозревая, какой жестокий афронт готовит ему судьба. Однажды, когда он, заявивши о своей смерти, растянулся на полу, Луиза Ивановна закричала: «Подите сюда кто-нибудь! Саша умер: вынесите его и похороните…» Ребенок в одно мгновение вскочил на ноги: «Как, меня хоронить? Нет! Я умер, но пойду». С этими словами он исчез в соседней комнате и больше умирать не собирался.
Стоило только не попадаться на глаза отцу, который не мог утерпеть, чтобы при встрече не прочитать нотации, – и ребенок был совершенно свободен. Он носился по всему дому, был своим человеком в девичьей, в комнате Кало, на половине матери. Возможность делать все, что угодно, не стесняясь, рано внушила ему мысль, что он центр мироздания.
Он рос один, не зная товарищества. Иногда, впрочем, к нему привозили его родственницу, Татьяну Петровну Пассек, тогда маленькую девочку, и они вскоре стали друзьями, на том, разумеется, условии, чтобы меньший друг, то есть Шушка, мог командовать и распоряжаться по своему усмотрению. Но постоянное одиночество не развило в нем ни меланхолии, ни созерцательности. Не «тихий нрав достался ему в наследство», а гордая, упрямая, энергичная, безмерно себялюбивая натура, живой подвижной характер, не выносивший ничего однообразного, даже в привязанностях.
Родственники Ивана Алексеевича, кроме Сенатора, видя безмерную избалованность Шушки, предрекали, что в нем не будет пути, а, основываясь на его тщедушности, ожидали, что чахотка скоро унесет его на тот свет, что по ряду соображений, связанных с наследством, было для них желательно.
Действительно, Герцен в детстве был ребенок худой, бледный, с редкими, длинными белокурыми волосами, с большими темно-серыми глазами, в которых порой блестела искра веселости и рано засветился ум. Несмотря на свою чрезмерную живость, он редко улыбался; шалил и шумел и даже ломал игрушки совершенно серьезно, как бы делая дело. Часто, бросив игрушки, он останавливал взгляд на одном предмете и точно вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположение к себе родных со стороны своего отца, несмотря на их наружное внимание, он и сам их не любил и старался избегать их присутствия. Родные, между прочим, не могли простить Ивану Алексеевичу, что он держит при себе незаконного сына и «немку», но сказать это в глаза, разумеется, не смели. Они знали, каким холодным взглядом обдал бы их при этом старый мизантроп и как сказал бы он своим ровным, без повышений и понижений, голосом: «Ах, матушка (или батюшка), если тебе не нравится, как я живу, то кто же просит тебя бывать у меня?…» Если бы ему слишком сильно надоедали, старик был бы способен, пожалуй, нарушив все «конвенансы» и «аппарансы», повенчаться с Луизой Ивановной – шаг, от которого он удерживался всю жизнь из-за какого-то барского упрямства. Быть может даже, ему просто нравилась эта открытая незаконная связь в пику и назло всем…
В Герцене рано появилась та особенная складка ума, которой впоследствии он был обязан значительной долей своей литературной известности. В воспоминаниях Пассек находим любопытную в этом отношении страницу.
«Раз, – говорит она, – когда Саше было лет одиннадцать или двенадцать, собралось у Ивана Алексеевича человек десять почетных посетителей, в том числе был и Сенатор; все они уселись в зале около круглого стола, за которым Луиза Ивановна разливала чай; мы с Сашей поместились в этой же комнате за особым небольшим столом и, разложивши на нем огромную книгу в богатом переплете, с дворянскими гербами и родословными, стали ее рассматривать. Кто-то из посетителей, обратись к нам, спросил, какая это у нас книга. Саша, не задумавшись, ответил: „Зоология“. Я засмеялась, некоторые из гостей, из угождения Ивану Алексеевичу, одобрительно улыбнулись его остроте; но Иван Алексеевич не улыбнулся, а когда гости разъехались, задал нам такую гонку, что мы долго не забывали „Зоологию“. Меня распек, зачем поощряю Шушку к дерзостям, забавляясь его неуместными остротами, а его – как смел непочтительно выразиться о русском дворянстве, служившем отечеству, и заключил свою нотацию, обращаясь уже к одному Саше, словами:
– Ты не думай, любезный, чтобы я высоко ставил превыспренний ум и остроумие; не воображай, что очень утешит меня, если мне скажут вдруг: «Ваш Шушка сочинил „Чорт в тележке“; я на это отвечу: „Скажите Вере, чтобы вымыла его в корыте“.
Мы покатились со смеху.
Старик сделал вид, что не заметил этого, подошел к круглому столу, под которым спокойно лежал Макбет, крикнул человека и велел ему вывести собаку на двор. Потом, обратясь к нам, сказал: «В жизни esprit de conduite важнее превыспреннего ума и всякого учения…»
Старик читал нотации и был доволен. Откуда, как не от него, получил Герцен свой ум всегда настороже, свою беспощадную иронию? В этой подмене: «зоология» вместо «генеалогия», – заключается прообраз будущих всесокрушающих острот. В ребенке старик видел и узнавал самого себя: достойный представитель его рода являлся на смену уходившим на покой старикам, и представителем был его любимец Шушка, в котором энергия и способности били ключом. Другое время и другая обстановка, и Иван Алексеевич употребил бы, вероятно, свой тяжелый досуг на какие-нибудь злостные мемуары, где досталось бы по заслугам каждому. Но он не терпел русского языка и только брюзжал на нем: думал же и говорил всегда по-французски. Русская литература занимала его столько же; русских книг он не читал никогда и только раз, услышав, что сам государь интересуется «Историей» Карамзина, раскрыл первый том, перевернул несколько страниц, зевнул и положил книгу на место, чтобы больше не дотрагиваться до нее никогда.
Теперь еще несколько строк об обстановке детских лет Герцена.
«Прозевав несколько лет за границей, Иван Алексеевич и Сенатор хотели устроить жизнь на иностранный манер – без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь на иностранный манер не устраивалась, оттого ли, что не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками. Хозяйство было общее, имение нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж дома, все условия беспорядка были налицо. Пока Сенатор жил вместе с Иваном Алексеевичем, общей прислуги было человек до шестидесяти, кроме ребятишек, которых приучали к праздности, лени, лганью…»
И вот здесь, среди беспорядка, капризов, лени, лганья, праздности, обилия за чужой счет, прошли детские годы. Казалось бы, какие воспоминания могли оставить они, кроме самых безобразных и нелепых? А между тем сам Герцен помянул их добрым словом и рассказал о них нам с плохо скрытой любовью. Повинны в этом такие люди, как Кало, не знавшие, чем и как угодить возлюбленному барчуку, как нянюшка Вера Артамоновна, готовая сто раз повторять рассказ о двенадцатом годе, о том, как французы их всех ограбили; повинно самое детство – последнее убежище для воспоминаний, когда все уже потеряно и дальше нет ничего. Старые баре в этом отношении счастливее нас: они могут вспомянуть добром хотя бы свое детство.
«У Яковлевых, – рассказывает Пассек, – спать меня клали в комнате Луизы Ивановны, на небольшом диване; тут же стояла и кроватка Саши, обтянутая со всех сторон парусиной. Когда Вера Артамоновна, надевши на него ночную сорочку, укладывала его в кровать, тогда приходил Иван Алексеевич, держа во рту коротенькую трубочку, и, покуривши слегка в комнате, он смотрел, как обметывали на живую нитку по постели Саши покрывавшую его простыню, чтобы он ночью, раскинувшись, не простудился. Когда эта операция была окончена, Иван Алексеевич покрывал его белым байковым одеялом и, перекрестивши, уходил в свое отделение, осмотревши наперед, все ли в комнате в порядке. Так как Саше под приметанной простыней нельзя было ни вскакивать на постели, ни прыгать с нее, ни бегать, ни ломать игрушек, то, по удалении Ивана Алексеевича, у нас начинались продолжительные разговоры, предметы которых большею частью вертелись на одном и том же: на страшном, поражающем воображение до того, что самим становилось жутко. Любимым рассказом Саши были ужасы, слышанные им от m-me Прово о масонах, при ложе которых ее муж занимал когда-то какую-то должность, и о французской революции, во время которой едва не повесили на фонаре ее почтенного сожителя. „Раз, – начинал обыкновенно Саша, смирно лежа зашитый в постели, – m-me Прово попала в комнату, где собирались масоны, когда там никого не было, и перепугалась так, что чуть не умерла со страха. Комната была вся обтянута черным сукном, посредине стоял стол, на столе крест, на кресте два кинжала, на них мертвая голова. На стенах висели портреты всех масонов в свете, и если в который-нибудь из портретов выстреливали, то где бы ни был тот человек, чей портрет был прострелен, тот в ту же минуту падал и умирал“. Слушая это, я дрожала от страха, и мне всюду мерещились и черная комната, и кинжалы, и портреты. „А вот еще, – говаривал Саша, – была во Франции революция, все шумели, кричали; кто не шумел и не кричал, тем рубили головы, народ бегал по улицам, все бил, ломал, потом прибежали во дворец и там все рубили и ломали, да надели себе на головы красные колпаки, запели песни и пошли вешать людей на фонарях, хотели повесить и m-eur Прово, – насилу спасла его Лизавета Ивановна…“
Рассказав эту малую историю французской революции, Шушка мирно засыпал в своей кроватке. И в самом деле, что могло беспокоить его? В доме он был маленьким владетельным принцем, все поклонялись ему, все слушались, все развивало в нем тот безмерный эгоизм, к которому он и так был склонен и по наследственности, и по громадности своих дарований. Правда, его окружало крепостничество, но не мог же ребенок постигнуть сути его. К тому же чего-нибудь особенно безобразно резкого он не видел, и не детство воспитало в нем ненависть к кабале, а другие, более поздние впечатления.
«Ни Сенатор, – рассказывает он, – ни Иван Алексеевич особенно не теснили дворовых, т. е. не теснили физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и поэтому нередко несправедлив, но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Иван Алексеевич докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно шпынял и учил, что для русского человека хуже побоев, – но ведь в таком положении находилась и вся семья».
Телесные наказания были почти неизвестны. Два-три случая, когда прибегли к посредству частного дома, были до того необыкновенны, что о них вся дворня говорила целый месяц. Часто отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей; лучше хотели отправиться на конюшню, чем в полк. Увидя однажды плачущего рекрута, маленький Герцен подбежал к нему и спросил:
– Ведь ты не хочешь идти в солдаты?
– Не хочу…
– Как же тебя посылают, если ты не хочешь?
В этом вопросе, если хотите, программа всей будущей философии Герцена…
Бывали порою и прямо безобразные случаи, но безобразие их едва ли было доступно детскому пониманию. Я все же упомяну о них, потому что их смысл, их идейное содержание послужило впоследствии темой для полного драматизма рассказа «Сорока-воровка».