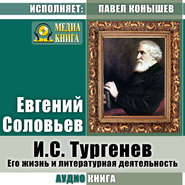По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иоанн Грозный. Его жизнь и государственная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Письмо заключалось хвалою доблести Стефановой, предсказанием близкой гибели всего царского дома и словами: “кладу перст на уста, изумляюся и плачу!..”
Заметим, что это – последнее смелое и честное слово, услышанное Иоанном. Оно могло дойти до него только от изгнанника, потому что Россия молчала. Царь делал что хотел, и доказательством этому – духовный собор 1588 года, когда по его настоянию немалая часть монастырских имений отошла в казну; доказательством этому – бесчисленные, все продолжавшиеся казни. Несмотря на бедствия России, он вел обычный образ жизни и, достигши 50-летнего возраста, в седьмой уже раз женился на Марии Нагой, теша свое сладострастие. Пиры и придворные празднества развлекали его и давали ему возможность рассеивать свое мрачное настроение. А оно должно было быть ужасным. Баторий не хотел слушать никаких переговоров о мире, не шел ни на какие компромиссы. Новая уступчивость Иоанна вызывала лишь новые требования. Баторий, кроме всей Ливонии, хотел еще городов северных, Смоленска, Пензы, даже Новгорода, хотел еще взять с России 400 тысяч венгерских золотых и прислал гонца в Москву за решительным ответом. Иоанн, наконец, рассердился и отправил ему письмо, где с обычной своей мелочностью упрекал Батория за то, что он “выбранный”, а не Богом поставленный Государь. Вот что писал он:
“Мы, смиренный Государь всея России, Божиею, а не человеческою многомятежною волею… Когда Польша и Литва имели также Венценосцев наследственных, законных, они ужасались кровопролития: ныне нет у вас Христианства! Ни Ольгерд, ни Витовт не нарушали перемирия; а ты, заключив его в Москве, кинулся на Россию с нашими злодеями, Курбским и другими; взял Полоцк изменою, и торжественным Манифестом обольщаешь народ мой, да изменит Царю, совести и Богу! Воюешь не мечом, а предательством, и с каким лютым зверством! Воины твои режут мертвых… Наши Послы едут к тебе с мирным словом, а ты жжешь Луки каленымиядрами (изобретением новым, бесчеловечным); они говорят с тобою о дружбе и любви, а ты губишь, истребляешь! Как Христианин, я не мог бы отдать тебе Ливонию; но будешь ли доволен ею? Слышу, что ты клялся Вельможам присоединить к Литве все завоевания моего отца и деда. Как нам согласиться? Хочу мира, хочешь убийства; уступаю, требуешь более, и неслыханного; требуешь от меня золота за то, что ты беззаконно, бессовестно разоряешь мою землю!.. Муж кровей! вспомни Бога!”
Странно слышать такие упреки от Иоанна, если это на самом деле были упреки, а не упражнение в красноречии! Он искал уже посредников, обращался к императору, папе… Но у него недостает героизма встать во главе войска и дать решительную битву. Как все московские государи, он больше дипломат, чем воин. Иоанна выручил героизм псковитян. Псков отражал все приступы Батория и не сдавался, несмотря на все упрямство короля. Волей-неволей пришлось заключить перемирие. “Так, – говорит Карамзин, – кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна, который в любопытных ее происшествиях оказал всю слабость души своей, униженной тиранством! В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва ли не бесчестный даже, и если сохранили еще прежние свои границы, то честь этого принадлежит Пскову”.
Раздражительность и мрачность, так давно уже появившиеся в характере Грозного, достигли апогея после неудач Ливонской войны. Иоанн дошел до того, что в припадке гнева убил старшего своего сына – момент его жизни, так дивно изображенный на знаменитой картине Репина. Ближайшего повода к убийству мы не знаем. Одни говорят, что царевич настаивал на продолжении войны с Баторием и этим вывел из себя Грозного. Другие говорят другое. Несомненен самый факт, что царь сильно ударил сына жезлом в висок и уложил его почти на месте: промучавшись несколько дней, царевич скончался.
Тоска и уныние воцарились во дворце.
Иоанн снял с себя все знаки своего достоинства, “бился о гроб и землю с пронзительным воплем”, несколько ночей не спал, вскакивал с постели, валялся среди комнаты, рыдал и стонал. Он не хотел никого видеть и отказывался принимать пищу.
У него зародилась даже мысль отречься от престола.
Созвавши бояр, он сказал им торжественно, что ему, так жестоко наказанному Богом, остается лишь кончить дни свои в монастырском уединении, что меньший сын его Феодор не способен управлять Россией и не мог бы царствовать долго, что бояре должны избрать государя достойного, которому он немедленно вручит державу и сдаст царство.
Так как подобная сцена разыгрывалась не первый уже раз, и бояре не знали, испытывает ли Грозный их преданность или действительно задумывает оставить царство, то, естественно, они единогласно просили царя остаться на троне.
Иоанн как бы нехотя согласился, но удалил с глаз своих все, что напоминало ему о прежнем величии, богатстве и пышности, перестал носить корону и скипетр, надел на себя траурную одежду. “Я нашел Царя, – пишет иезуит Посеевин, посетивший Грозного в это время, – в глубоком унынии. Его пышный некогда двор казался смиренной обителью иноков, говоря черным цветом одежды о мрачности души Иоанна”.
Но исчезли ли казни и пытки? Нет. Только по ночам страшная гостья, совесть, все чаще стала наведываться к царю. Тени убитых и казненных им являлись к нему и требовали отчета. Он доходил до галлюцинаций, не мог спать один в комнате, бродил как тень по обширным палатам дворца своего. Заря разгоняла призраки.
Начинались новые пиры, новые пытки.
Упомянув о войне и перемирии со Швецией (1582 – 1583), о завоевании Сибири, о бунтах казанских народностей и оставив в стороне эти факты, которые найдем в любом учебнике, мы можем перейти к описанию последних дней жизни Иоанна.
Они были мрачны.
Иоанн не любил Марию и ничуть не дорожил ею. Он взял ее себе в седьмые жены больше для поддержания достоинства, чем для чего-нибудь другого. И зачем, собственно, нужна была ему эта “мягкая”, плаксивая и добродушная женщина? Иметь на него какого бы то ни было влияния она не могла, а вспышка сладострастия исчезла так же быстро, как и появилась. Но Мария была беременна, и Иоанн знал это. Однако как раз во время первой беременности жены он заводит переговоры с английской королевой Елизаветою о новом браке на какой-нибудь ее родственнице. Новый брак должен был заключиться по расчету, и, отправляя в Лондон дворянина Писемского с поручением устроить брак, царь прежде всего требует, чтобы посол условился о тесном государственном союзе между Англией и Россией. Невеста была намечена, именно тридцатилетняя племянница королевы – Мария Гастингс. Выдвигая, однако, на первый план свои политические устремления, Иоанн не забывает и похотливых видов, во имя которых он строго-настрого наказывает Писемскому самолично убедиться, высока ли тридцатилетняя мисс, дородна ли, бела ли? Иной, впрочем, царица по представлению того времени и быть не могла. Предвидя со стороны Елизаветы возражения, что “он уже женат”, Иоанн приказал объяснить: “правда, но настоящая жена его не Царевна, не Княжна Владетельная, ему неугодна и будет оставлена для племянницы Государевой”. Как сильно хотелось Иоанну породниться с английским королевским домом, видно, между прочим, из того пункта набросанного брачного контракта, в котором царь говорит, что “наследником Государства будет царевич Феодор, а сыновьям княжны Английской дадутся особые частные владения или уделы, как издревле водилось в России”. Иоанн, очевидно, изменяет традициям московских князей и жертвует даже целостью и единством государства, которые он всегда с такою жестокостью защищал. Посольства Писемского подробно описывать мне незачем. Остановлюсь на самом характерном.
Преследуя свои торговые интересы, английские министры не только ничего не имели против союза с Россией, но и очень радовались ему, а при заключении его заботились исключительно о том, чтобы побольше выторговать на пользу и благо своих купцов. Иоанн, по заявлению Писемского, “издавна жалуя англичан как своих людей, намерен торжественным договором утвердить дружбу с Елизаветою, дабы иметь с ней одних приятелей и неприятелей, вместе воевать и мириться, что королева может ему содействовать если не оружием, то деньгами, что он, не имея ничего заветного для Англии из произведений российских, требует от нее снаряда огнестрельного, доспехов, серы, нефти, меди, олова, свинцу и всего нужного для войны”. Этого хотел Иоанн, не менее хотел он и женитьбы на Марии Гастингс, она окажется в должной степени дородной и белой. Писемскому устроили свидание с принцессой, и он рассматривал ее во всех подробностях, насколько, разумеется, допускал скромный костюм ее. Впечатление, произведенное Марией на посла, было, по-видимому, в ее пользу. Елизавета желала брака: дело улаживалось и расстроилось лишь потому, что невеста, услышав “о свирепости венценосного жениха, убедила королеву избавить ее от этой чести”. Сватовство к Марии не удалось. Не удался и союз с Англией – эта любимая мечта последних дней жизни Иоанна. Смерть его приближалась, неожиданная как для него самого, так и для окружающих.
Вплоть до зимы 1584 года Иоанн крепился и чувствовал себя почти здоровым. Его могучий организм выносил разврат и пьянство, выносил и муки самолюбия, обиженного неудачами войны. Царь, перешагнув за пятидесятилетний возраст, ни в чем не думал менять обычного своего времяпрепровождения. Как и раньше, развлекался он казнями, как и раньше, служил он своему сладострастию. Дух его не угомонился; то же обострившееся, даже тревожное беспокойство не давало спать ему по ночам, заставляя бродить целыми часами по мрачным комнатам дворца.
Зимою 1584 года между церквами Иоанна Великого и Благовещения появилась комета с крестообразным небесным знамением. Царь, узнав об этом, вышел на красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружавшим: “Вот знамение смерти моей”. Предчувствие не обмануло его. Желая рассеять тревогу, он созвал в свой дворец астрологов, мнимых волхвов, разыскав их и в России, Лапландии, в общей сложности до 60-ти человек, ежедневно посылал к ним Бельского толковать с ними о комете и скоро опасно занемог: вся внутренность его стала гнить, а тело – пухнуть. Астрологи предсказали ему смерть на 18 марта; Иоанн приказал им молчать об этом, угрожая в случае нескромности сожжением. Февраль он перемогся еще, в марте ему уже пришлось отказаться от приема литовского посла. Тогда же он приказал составить завещание и объявил Феодора наследником, назначив на помощь ему совет из бояр. Что-то доброе промелькнуло в его сердце в эту торжественную минуту…
“Он изъявил благодарность всем Боярам и Воеводам; называл их своими друзьями и сподвижниками в завоевании Царств неверных, в победах, одержанных над Ливонскими Рыцарями, над Ханом и Султаном; убеждал Феодора царствовать благочестиво, с любовию и милостию; советовал ему и пяти главным Вельможам удаляться от войны с Христианскими Державами; говорил о несчастных следствиях войны Литовской и Шведской; жалел об истощении России; предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, даже пленников, Литовских и Немецких. Казалось, что он, готовясь оставить трон и свет, хотел примириться с совестью, с человечеством, с Богом – отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла, и желал спасти юного сына от своих гибельных заблуждений”.
Но это только “казалось”, только “промелькнуло”. Даже смерть, так ясно заявлявшая о своем приближении трупным запахом разлагавшегося, хотя еще живого царя, не могла справиться с его неукротимой натурой. Рассказывают, что невестка, супруга Феодора, подошла к его постели, и должна была убежать с омерзением от любострастного бесстыдства Иоанна! Продолжались и казни.
17 марта Иоанну стало лучше, и он, уже воспрянув духом, назначил день для приема посла. Мало того, он заявил Бельскому: “Объяви казнь лжецам астрологам: ныне по их басням я должен умереть, но я чувствую себя гораздо бодрее”. Бодрость оказалась, однако, последней судорогой уходившей жизни. Пробывши несколько часов в ванне, царь лег на кровать, потом встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постели, сам расставил шашки, приглашая Бельского играть с ним. Вдруг он упал, чтобы больше не подниматься.
Глава V. Литература об Иоанне Грозном
Мало в русской истории личностей, которые привлекали к себе такое дружное внимание со стороны людей самых различных профессий, как личность царя и великого князя московского Иоанна IV Васильевича Грозного. Ею занимались специалисты-историки, публицисты, драматурги, поэты, беллетристы, художники и скульпторы. Еще недавно И. Репин написал свою знаменитую картину, где изобразил царя в момент убиения им старшего сына. На виду у всех одна из лучших статуй Антокольского – “Иван Грозный”; драма Островского “Василиса Мелентьева” хотя не часто, но все же дается на императорской сцене. Есть, значит, в личности Грозного что-то притягательное, способное возбуждать художественное воображение у лиц самых различных наклонностей и темпераментов. Ради Грозного Костомаров бросил даже тон и форму историка и перешел на беллетристику, в результате чего и появился всем известный, хотя и неудачный “Кудеяр”. А сколько полемики возбуждал Грозный – это даже перечислить трудно. Что же, знаем ли мы его в конце концов, или нет? Казалось бы, странно даже ставить такой вопрос. Работы таких историков, как Карамзин, Полевой, Костомаров, Кавелин, Соловьев, Бестужев-Рюмин, находятся перед нами, но, как пошутил кто-то, “Грозного все же нет, а есть Грозный костомаровский, соловьевский и т.д.”. Рассматривая характеристики Грозного, говорит Н. К. Михайловский, совершенно независимо от большей или меньшей степени мастерства, с которой они написаны, вы поражаетесь их разнообразием: одни и те же внешние черты, одни и те же рамки и при всем том совершенно-таки разные лица – то “падший ангел”, то просто злодей, то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья, без руля и без ветрил, то личность, недосягаемо высоко стоявшая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая всем лучшим стремлениям своего века. Несколько раз, именно после появлений характеристик Аксакова и Соловьева, компетентные люди провозглашали, что “отныне конец разногласиям в оценке личности и деятельности Грозного”. Однако другие, не менее компетентные люди, немедленно же восставали против таких победных возгласов и выставляли веские опровержения и ограничения. В результате – сумбур, в большей или меньшей степени блестящий и остроумный, но все же приводящий внимательного читателя в самое искреннее недоумение.
Будет полезно напомнить главнейшие характеристики Грозного, так как в каждой из них заключается доза истины.
Начнем с князя Щербатова. Это историк XVIII века. “Иван Грозный, – говорит он, – именитый в земных владыках, но разумом, узаконениями, честолюбием, завоеваниями, потерями, гордостью в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является”. В этих словах прекрасно указана сложность натуры Грозного, казнившего после молитвы и молившегося после казни. Щербатов ставит царя высоко, видит в нем “великий и проницательный разум”, называет узаконения “мудрыми”, но рядом с этим отмечает другую черту – “низость сердца”. Эту низость сердца Иоанн сдерживал в себе в юности, но, утвердившись на престоле и утеряв первую супругу Анастасию, дал ей свободу, и перед нами – все ужасы второй половины его царствования.
Честнее (в научном смысле слова, разумеется) других историков отнесся к Грозному Карамзин. Не пускаясь в мудрствования лукавые, оградив свои выводы стройным рядом окопов из всех доступных ему документов, – Карамзин в тех местах, где он не понимал, прямо и откровенно сознавался в этом. В общем характеристика его сводится к следующему.
Рожденный с пылкою душою, редким умом, особенною силою воли, он не имел “мудрого пестуна”, а попал в руки развратителей. Такое воспитание привело к нему пороки, встречавшие со стороны окружающих лишь низкое поощрение. Так рос и вырос Иоанн IV и, достигши возмужалости, женился. Мало что предвещало в нем мудрого царя, и брак на добродетельной Анастасии нисколько не урезонил его: продолжались прежние буйства и прежнее нерадение в делах государственных. Настал, однако, 1547 год. Страшный погром истребил большую часть Москвы, измученная страданиями чернь взбунтовалась, перебила царских родственников. “В сие ужасное время, когда Иоанн трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новгорода… Сильвестр потряс душу и сердце, овладел воображением юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком”. Начинается счастливый период его царствования, ознаменованный речью на Лобном месте, изданием “Судебника” и т. д. Но “счастье непродолжительно”. В 1560 году умерла Анастасия, а вместе с нею исчезла и добродетель Иоаннова. “Здесь, – говорит Карамзин, – конец счастливых дней Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели”. Он превращается в тирана, и порою Карамзин не находит даже слов, чтобы заклеймить его жестокости. В “тиранстве” Грозный пребывает до самой смерти.
Несомненно, что для Карамзина Грозный – неразрешимая психологическая задача, странная смесь добра и зла, тиран, поражающий его то своею жестокостью, то малодушием, то проницательностью, то полным затмением мысли. Полной и стройной характеристики Карамзин не дал; различные формы, через которые проходит личность Иоанна, охарактеризованы им великолепно, но органически эти формы не связаны между собою: переходы от распутства к добродетели и обратно не выяснены, случайны и даже чудесны. Но все же для изучения Грозного Карамзин сделал более чем кто-нибудь другой, и его искреннее “не понимаю” равняется многим блестящим характеристикам. Не понимать многого из жизни и деятельности приходится и теперь, – в чем прямо и непосредственно виновата русская история как наука.
Полевой выдвигает на сцену фактор наследственности: “Соображая жизнь, дела, слова Иоанна, – говорит он, – видим, что сын Василия и внук Иоанна III имел все недостатки отца и деда (вспыльчивость, жестокость, трусливость и пр.), уступая последнему в самобытности характера и обширном уме, не имея нежности душевной, свойственной последнему. Вспомним жестокость, суровость Иоанна III, склонность к забавам и неголюбие Василия. В Иоанне IV соединилось то и другое. И такой характер был испорчен несчастным воспитанием, приучившим его к двум противоположностям: своеволию и самовластию и в то же время к послушанию людям, превосходящим его умом, дарованием, хитростью, умевшим искусно завладеть им. Так, в юности своей Иоанн подчинялся Глинским, казня Шуйских; покровительствовал впоследствии клевретам своим, казня доблестных советников; унижался перед Баторием, терзая Магнуса и Ливонию. Привыкая повиноваться, он готов был страшно мстить своему повелителю, когда сознавал свою зависимость. Самая любовь его к Анастасии не походила ли более на привычку повиноваться воле человека, которого достоинства умел он оценить… После смерти Анастасии, разрыва с Сильвестром и Адашевым и свидания с Вассианом – иноком, рекомендовавшим ему не держать возле себя советников умнее себя, поступки Иоанна постепенно становились самовластительнее, мало-помалу отвыкал он от послушания советам других, противился предприятию правителей против Крыма и вопреки всем увещаниям начал Ливонскую войну. Он уверился в себе, перестал верить им. Оставалось ударить роковому часу перелома и душой Иоанна овладеть пороку и страстям. Настал сей час, и тогда все погибло в одно мгновение: счастие, слава Иоанна, Адашева и Сильвестра. Но следы сего находим далеко прежде”. Полевой смотрит на Иоанна прежде всего как на человека слабого, несамостоятельного.
Апология Грозного, как это ни странно, началась лишь со времени Белинского. “Таков Иоанн, – пишет последний, – это была душа энергическая, глубокая, титаническая. Стоит только пробежать в уме жизнь его, чтобы убедиться в этом”. И дальше: Иоанн был падший ангел, который и в падении своем по временам обнаруживает и силу характера железного, и “силу ума высокого”. На оценку Белинского положиться очень трудно, совершенно даже невозможно: наш знаменитый критик мало был знаком с историей и личное, иногда минутное настроение слишком много значило в его рецензиях и характеристиках.
Кавелин пошел еще дальше. Белинский удивляется силе Иоанна, Кавелин – его государственной мудрости и чуть ли не впервые сравнивает Иоанна с Петром: “Оба, – говорит Кавелин, – равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими и достойнейшими ее представителями. Но Иоанн сознавал ее как поэт, Петр – как человек по преимуществу практический. У первого преобладает воображение, у второго – воля. Время и условия, при которых они действовали, положили еще большее различие между этими двумя государями. Одаренный натурой энергической, страстной, поэтической, менее реальной чем преемник его мыслей, Иоанн изнемог, наконец, под бременем тупой, полупатриархальной, тогда уже бессмысленной среды, в которой суждено было ему жить и действовать, борясь с ней на смерть много лет, и, не видя результатов, не находя отзыва, он утерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучением: он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что был велик”. Кавелин доходит до оправдания опричнины.
Не знаю, что видит читатель во фразах Кавелина, но я в них ничего не вижу, кроме громких слов. Любопытно, однако, что, собственно, заставило Кавелина так ласково и почтительно отнестись к Грозному? “Кто знает, – говорит Кавелин, – любовь Грозного к простому народу, угнетенному и раздавленному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он старался облегчить его участь, тот не скажет, что опричнина – зло. Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможество: на место рода, кровного начала, поставить в государственном управлении начало личного достоинства”. Что Иоанн выдвигал на сцену мизинных людей – это несомненно. Но чтобы такова была программа его царствования, сомневаться в этом не только можно, но и должно. Особенно любопытно, что Кавелин во всем винит среду, которая-де и погубила Иоанна. Насколько эта среда была лучше при Петре после всех ужасов XVII века? Подобного сравнения Кавелин, однако, не делает, отчего вся его аргументация повисает в воздухе. Неужели среда с Адашевым, Курбским, митрополитом Филиппом, людьми, известными всенародно, собиравшимися на земских соборах, была так губительна? Неужели она не руководила Иоанном, не восставала против жестокостей его, не указывала верного пути? Но что Иоанн презирал и ненавидел среду, в которой он жил, – в этом г-н Кавелин прав, и это мы запомним.
В VI томе своей знаменитой “Истории” Соловьев выставляет Грозного представителем чистой государственной идеи. Признавая, что Грозный был испорчен воспитанием, Соловьев старается, однако, по возможности, обелить и возвысить его: “Голова ребенка, – говорит историк, – была постоянно занята мыслью о борьбе с боярами, о своих правах, о бесправии врагов, о том, как дать силу своим правам, доказать бесправие противников, обвинить их. Пытливый ум ребенка требовал пищи: он с жадностью прочел все, что мог прочесть, изучал церковную историю, римскую историю, русские летописи, творения св. отцов. Но во всем, что ни читал, он искал доказательств в свою пользу; занятый постоянно борьбой, искал средств выйти победителем из этой борьбы, искал везде, преимущественно в Священном Писании, и доказательств своей власти против беззаконных мер, отнимавших ее у него. Испорченный в детстве, он прежде всего проявил свои права жестокою казнью Шуйского. Мало того, желая разъединить боярство и народ, союз которых выразился в бунте черни против Глинских, он созвал знаменитый собор, на котором объявил бояр как собственными врагами, так и врагами государства”. Признавая влияние Сильвестра, Соловьев отводит ему второстепенную роль, стараясь выгородить самостоятельность царя, который отличался “сильной не по летам степенью развития ума и воли”. Издание “Судебника”, “Стоглава”, Казанский поход – все это, по крайней мере инициативу всего этого, Соловьев приписывает Иоанну. Почему же последний вдруг так резко изменился? – Он изверился в преданности советников, а также и в их проницательности. Когда он замышлял поход на Ливонию или требовал похода на Крым, и бояре противились тому и другому, не понимая его замыслов, предвосхитивших замыслы Петра, – это доказало ему их непроницательность; во время болезни, так как многие из рады отказались присягнуть сыну его Димитрию, – они, по мнению Иоанна, доказали неискренность своей привязанности. Душа царя омрачилась. Начались казни. Но и эти казни все же служили цели, поставленной себе Иоанном. Цель эта заключалась в том, чтобы дать торжество государству и государственному началу, сломить и уничтожить вольный боярский и дружинный дух, искоренить последние следы местной независимости или даже самую тень ее.
По Соловьеву, Грозный является перед нами исторической личностью, предшественником Петра в своих замыслах сблизиться с Европой, человеком проницательного ума и сильной воли, которого, однако, не оценили и не поняли среда и приближенные. Жестокость объясняется как результат дурного воспитания; несмотря на нее, заслуги Грозного громадны. Строй дружинной удельной Руси дал в царствование Грозного последнюю отчаянную битву крепнувшей монархической власти, и эта последняя победила. Грозный создал единое, нераздельное государство, родовое начало было уничтожено, все были объявлены слугами государства.
Соловьеву отвечали Погодин и Аксаков.
Погодин считает планы Грозного неоригинальными. Он шел лишь по дороге, указанной его дедом, который сделал гораздо больше; Грозный затем стремился не к торжеству монархии, а слепого, личного произвола. Вообще же о мерах Иоанна Погодин отзывается так: “Что есть в них высокого, благородного, прозорливого, государственного? Злодей, зверь, говорун-начетчик с подьяческим умом и только. Надо же ведь, чтобы такое существо, как Иоанн, потерявшее образ человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославителей!”
Аксаков охарактеризовал личность Грозного в высшей степени оригинально: бояре, по Аксакову, даже и не боролись с царем, а противопоставляли ему одно терпение. Все жестокости истекали из личных особенностей натуры царя. Что же это была за натура? Иоанн IV был природа художественная, художественная в жизни. Образы являлись ему и увлекали своей внешней красотой; он художественно понимал добро, красоту его, понимал красоту раскаяния, красоту доблести, и, наконец, самые ужасы влекли его к себе своею страшной картинностью. Но одно чувство художественности, не утвержденное на строгом и суровом нравственном чувстве, есть величайшая опасность для души человека. С одной стороны, оно не допускает человека испытать ни одного чувства правдиво, ибо человек, наслаждаясь красотою чувства, им испытываемого, или дела, им совершаемого, не относится к ним цельно и непосредственно: он любуется ими, он любит красоту, а не самое дело. Вот отчего и в истории, и в частной жизни встречаем мы такие явления, что человек, например, плачет умильными слезами, слыша рассказ о кротости и великодушии, а в то же время мучает и терзает ближнего; и он не обманывает: эти слезы непритворны, но он тронут как художник – с художественной стороны, а одно это еще ничего не значит и на действительность это не имеет влияния. Человек довольствуется здесь одним благоуханием добра, а добро для него сама по себе вещь слишком грубая, тяжелая и черствая. Это человек безнравственный на деле, но понимающий красоту добра и приходящий от нее в умиление. Дело, самое добро ему не нужно и не под силу, он чувствует только, как оно изящно, хорошо, и довольствуется этим. Такое состояние почти безнадежно. Ибо тот, кто не понимает добра и не чувствует, может понять, почувствовать и преобразиться нравственно. Тот же, кто чувствует добро, но только художественно, кто наслаждается его благоуханием, а дело самое откладывает, тот едва ли может исправиться. Но есть другая сторона художественного чувства, в свою очередь губящая человека. Художественное чувство может отыскать красоту в самом диком и низком явлении. Аксаков, впрочем, оговаривается, что, конечно, не одна эта художественность определяла поступки Иоанна IV, что были в его душе и другие двигатели, но художественность играла все-таки большую роль. Жестокий уже в детстве, Иоанн подавлял свою страстную натуру при Сильвестре и Адашеве, хотя никогда не был орудием в их руках, а затем он избавился от своих советников, сбросив с себя нравственную узду стыда. Звание царя слилось в его понятии с произволом, и этот произвол явил полное отсутствие воли в человеке, ибо отсутствие воли и необузданная воля – это все равно.
Не считаю нужным останавливаться на взглядах Костомарова, который в данном случае явился продолжателем Карамзина. Его характеристика, однако, строже и выдержаннее и, если можно так выразиться, еще более уничижительна. Грозный – труслив, малодушен; всякий, кому не лень, руководит им; никаких государственных замыслов и программ в его голове нет, есть лишь прихоти и капризы безумной, жестокой натуры, любящей театральные эффекты и т. д. Пропускаю и мнение Бестужева-Рюмина, как близко примыкающее к мнению С. Соловьева.
Итак, не прав ли Щербатов, говоря, что “Грозный в столь разных видах представляется, что часто не умным человеком является!” И так не только в жизни, но и в литературе, где ряд таких остроумнейших характеристик мало выясняет дело, а иногда просто запутывает его.
Читатель, полагаю, заметил, что главные пререкания между историками сосредоточились возле двух крутых вопросов: “Была ли у Иоанна самостоятельная воля и можно ли считать его деятельность проникнутой государственной идеей?” Очевидно, что характеристика Грозного может быть дана лишь после того, как оба эти вопроса будут досконально разрешены. Но рассчитывать, что это может быть сделано сейчас же, невозможно и неосновательно. Что, например, знаем мы о Сильвестре, Адашеве и избранной раде? Кое-что мы, разумеется, знаем, но это “кое-что” незначительно. Одинаково трудно определить, к чему сводилось влияние Анастасии и каким образом влияние это действовало в том же направлении, как и избранной рады, хотя царица недолюбливала ее и даже враждовала с нею. По поводу боярских притязаний в XVI веке еще и теперь идут серьезнейшие пререкания; одни эти притязания отрицают, другие преувеличивают их до такой степени, что русское боярство оказывается чуть ли не английской аристократией! Если же мы так плохо знаем историю той эпохи, среди которой жил и действовал Грозный, то, на время, по крайней мере, мы принуждены отказываться от претензий на полную и истинную его характеристику. Но если такая характеристика является идеалом, то все, что содействует ей, все, что открывает в характере Грозного новые незамеченные еще стороны, заслуживает полного внимания.
Позволю себе поэтому привести характеристику Н.К. Михайловского, очень оригинальную и делающую несомненно большой шаг вперед в интересующем нас вопросе.
“Один из предков Иоанна IV, великий князь Василий Дмитриевич, хорошо выразил программу всех владык московских в словах, сказанных им митрополиту Киприану: “Вы поставлены к миру и любви учити, мне же имение собирати и возноситися”. Иоанн IV лишь придал особенную, правово-безумную цветистость этой программе. В нем действительно билась отмеченная К. Аксаковым художественная жилка, отвлеченно художественная, лишенная всякой нравственной основы, и часто “имения собирати и возноситися” ему было мало. Нужны были еще блеск, картинность, художественное упоение величия. Но главным определяющим фактором жизни и деятельности Грозного была все-таки не художественность натуры, а несчастное сочетание крайней слабости воли и сознания с непомерной властью, недаром пугавшею современников”. И дальше: русский психиатр, который пожелал бы заняться, нашел бы прежде всего в его, по-видимому, врожденной кровожадности (еще ребенком он занимался мучительством животных), в несомненном слабоумии его брата Юрия, в жестокости его старшего, убитого им, сына Иоанна, в скудоумии его другого сына Федора – намек на отягченную психопатическую наследственность. Затем хотя историки-апологеты ищут и находят оправдание подозрительности Иоанна в поведении и настроении бояр, но некоторые его выдумки в этом отношении отмечены уже несомненно печатью безумия. Таково, например, его намерение бежать в Англию, для чего он даже вступал в специальные переговоры с королевою Елизаветою, жалуясь на измены и заговоры, не дающие ему спокойно жить в России. Таково его завещание 1579 года. Только что разгромив Новгород и Псков, совершив казни в Москве, Грозный пишет в завещании: “Изгнан я от бояр ради их самовольства, от своего достояния и скитаюсь по странам”. Это не простая ложь, это явная мания преследования. Вообще в целом ряде поступков Иоанна IV, в которых историки-апологеты старательно разыскивают следы великих государственных планов, – специалист-психиатр, я уверен, найдет лишь следы расстроенного духа.
Дальше г-н Михайловский говорит о том, что слабая голова Иоанна не выдержала величия власти и помрачилась. Ход психологического развития Грозного он характеризует таким образом: “Грозный был великим князем, хотя и номинальным, с трех лет. Бояре, правда, делали что хотели, но и ему предоставляли делать что он хочет, поощряя его, по-видимому, от природы дурные наклонности и тем окончательно расслабляя его и так уже слабую волю. Митрополиту Макарию, Сильвестру, избранной раде удалось погнуть эту слабую волю в добрую сторону, внушив Ивану высокое понятие об обязанностях христианского государя – предоставив его несомненным ораторским дарованиям блестящее поприще на Лобном месте перед боярами, на Стоглавом соборе, под Казанью. Иоанн тешился этой ролью; Русь крепла, росла, но вместе с тем росла и непомерная гордость Иоанна. Вознесенный удачами, лестью, собственными аппетитами превыше всех земнородных, сравниваемый то с Августом, то с Константином Великим, Иоанн в один несчастный для России день понял, что не он был инициатором совершившихся высоких дел, что он совершил их по указке попа Сильвестра и “собаки-Адашева” с братией. Понятны страшные взрывы его гнева. Конечно, он тотчас же попал под другие влияния. Эти влияния уже не звали его к великим делам, но не мешали ему лично возноситься над несчастной Русью. В его развинченной душе не осталось ничего, кроме идеи, и даже не идеи, а ощущения всемогущества, которому он приносил в жертву все. Каждая мелькнувшая в голове мысль или внушенная каким-нибудь Басмановым, превращалась Грозным немедленно в действие, минуя всякие задерживающие центры. Гнев на сына в ту же минуту разрешается убийственным ударом костыля. Дикая фантазия посадить на престол всея Руси татарина Симеона Бекбулатовича тотчас же осуществляется. Взгляд на красивую женщину – и она становится его второю, третьею, пятою, седьмою женой. Польза и нужды молодого, объединенного государства не существуют. Девлет-Гирей сжигает Москву, Баторий наносит русским войскам поражение за поражением, а царь хлопочет только о том, чтобы уколоть Батория его малым королевским достоинством, добивает недобитых воевод и советников, заменяя их шпионами, грабителями и кровопийцами. Добивает же он не потому, что они изменники, даже не по той причине, по которой он велел изрубить присланного ему в подарок от шаха слона. Слон пострадал за то, что заупрямился встать перед русским царем на колена, а бояре и народ делали это охотно. Доставалось от Грозного серому народу, но боярам доставалось действительно больше, единственно, однако, потому, что они были видны, цветные, все равно как Калигула ненавидел высоких людей: они просто бросались в глаза. Если же Грозный создал легенду о принципиальной борьбе с боярами, то известно, что маньяки иногда подыскивают чрезвычайно замысловатые объяснения для своих поступков, совершенно бессмысленных… Есть, однако, и важное различие между римским тираном и Иоанном. История не оставила нам никаких следов тому, чтобы Калигула или Нерон угрызались когда-нибудь совестью. Грозного же эта страшная гостья посещала. Наглотавшись крови и чувственных наслаждений, Грозный временами каялся, надевал смиренную одежду, молился за убиенных. Может быть, здесь была известная доза лицемерия или все той же душевной развинченности… Как бы то ни было, Грозный шатался из стороны в сторону, от греха – к покаянию”.
Заключение
Г-н Михайловский поставил вопрос о личности Грозного на новую и оригинальную почву. Он рассматривает Иоанна прежде всего как болезненную натуру, как маньяка, как человека без воли, который страдает отсутствием сдерживающего начала внутри себя. Однако аргументация г-на Михайловского особенной полнотой не отличается, и более точный психиатрический анализ необходим. В ожидании его со стороны людей сведущих позволю собрать воедино разбросанные по книге замечания и обрисовать личность Грозного, насколько я ее понимаю.
Полевой, замечательная история которого, кстати сказать, так блистательно забыта нами, первый заговорил о наследственных элементах в характере Грозного. Жестокость деда, без его сильного ума, нега и сластолюбие отца – таковы, по мнению Полевого, определяющие элементы наследственности. Мне бы хотелось прибавить к этому блестящую, но не глубокую и вместе с тем пылкую натуру матери, о которой, правда, мы знаем маловато, но кое-что все же знаем. В Елене Глинской было много лоску, легкомыслия, много женственности наконец, уживавшейся, однако, с известной сухостью сердца. Быть может, ей обязан Грозный подвижностью ума, игривой и быстро возбуждающейся фантазией, что делает его так непохожим на малоподвижных и тяжелых даже князей-хозяев московских. Эти качества отличали Грозного не только от его предков, но и от современников, которых он и презирал за их глупость, вернее за их умственную сонливость. Грозный был красноречив, трудно сомневаться, что у него был настоящий ораторский и диалектический талант, немало остроумия, остроумия, однако, поверхностного и делавшегося страшным лишь в припадке гнева. Гораздо важнее отметить, что наследственность Иоанна IV была болезненной. Не знаю, возможно ли это оспаривать? Кто же не знает, что брат его Юрий “слабоумен был”, а все дети – Иоанн, Федор, царевич Димитрий, страдавший, вероятно, эпилептическими припадками, – ненормальными. Иоанн отличался жестокостью и сладострастием; Федор управлению государством предпочитал занятия пономаря; Димитрий часто падал в судорогах с пеной у рта. Такого факта психиатр не может оставить без внимания. И трудно на самом деле всю жестокость Грозного выводить из воспитания и только одним им объяснять ее. Она проявилась слишком рано, сначала в мучительстве над животными, потом – над людьми. Мерзость воспитания, полученного Грозным, упала на готовую почву и, соединившись с наследственным предрасположением, создала невиданную свирепость палача-художника, пытавшего и казнившего как артист и любитель. Оттого ничто не могло успокоить Иоанна, ничто не могло умиротворить его. Но жестокость – далеко не единственный признак болезни. К ней надо прибавить указанное выше эротическое исступление, что идет обыкновенно рука об руку. Напоминать ли читателю Нерона и Калигулу, Гелиогабала и Каракаллу, этих всем известных мучителей и сластолюбцев; напоминать ли ему героев Достоевского, у которых сладострастие и жестокость всегда так тесно связаны между собою? Насколько я знаком с психопатологией (а я не специалист), то для меня очевидно, что и эротическая аномалия, и жестокость находятся между собою в непосредственной причинной зависимости. Ее можно было бы подтвердить многочисленными примерами, но все эти примеры настолько грязны, что я предпочитаю этого не делать и отошлю читателя или к специальным сочинениям по психиатрии, или, что проще еще, к “Братьям Карамазовым” Достоевского, где близкий союз этих обоих противоестественных качеств показан в ярких художественных образах. Как это ни странно, но теперь как раз будет уместно задать себе вопрос о религиозности царя Иоанна. Религиозность религиозности рознь. Перед одной мы преклоняемся, затрудняясь найти более высокое проявление человеческого духа, другая вызывает в нас – и не может не вызвать – самое искреннее отвращение, иногда жалость. В религиозности Грозного я не сомневаюсь и думаю, что бывали минуты, когда он как нельзя более искренне клал земные поклоны до синяков и ран на лбу, подавал поминание о душах усопших и убиенных, наивно предоставляя Господу Богу сосчитать их и сам отказываясь от такой мудреной задачи. Да, были такие минуты, как бывали минуты покаяния и угрызений совести. Правда, в религиозности Грозного много формализма. Эта черта тонко подмечена еще Карамзиным, который пишет: “Платон говорит, что есть три рода безбожников: одни не верят в существование богов, другие воображают их беспечными и равнодушными к деяниям человеческим, третьи думают, что их всегда можно умилостивить легкими жертвами или обрядами благочестия. Иоанн и Людовик принадлежали к сему последнему разряду безбожников”. Думаю, что не только это, хотя в защиту мнения Карамзина можно привести достаточное число фактов; например, убив сына, Грозный прежде всего отправил 10 тысяч рублей в Константинополь, чтобы греческие монахи во главе с патриархом замолили грех его, сам он во время пребывания в Александровской слободе почти безвыходно находился в церкви. Все это так; но, во-первых, благочестие XVI века неразрывно соединено с формой, а во-вторых, как бы грубо ни понимал Грозный Божество, отрицать мистические эмоции в его душе у нас нет никакого основания. Напротив, у нас есть полное основание признавать их. Из психопатологии известно, что эротические аномалии и мистический ужас сродни друг другу, и это опять-таки драгоценное указание науки. Не буду объяснять, как и почему сродни, достаточно привести факт, если и не общепризнанный, то все же не раз констатированный самыми остроумными авторитетами. Разумеется, такая религиозность нисколько не мешала жестокости Грозного, ему случалось давать свирепые распоряжения в самой церкви, во время службы; его казни начинались обыкновенно молебнами и заканчивались панихидами. Но ведь такая религиозность – порывистая, экзальтированная – и мешать-то ничему не может, как не может мешать жестокости понимание того, что хорошо, что дурно, если в душе человека нет нравственного чувства любви и состраданияк ближнему. Отсутствие такого нравственного чувства у Грозного несомненно. Видя перед собой Шибанова, вполне признавая благородство и героизм его поступка, Грозный, однако, отправляет его в застенок и подвергает всем ужасам муки. Ни прощать, ни миловать Грозный не умел, хотя, разумеется, мог бы по поводу милости произнести блестящую речь, подкрепив ее многочисленными цитатами из Ветхого и Нового Завета. Всего естественнее предположить, что источником всех этих указанных аномалий характера, прекрасно уживавшихся с остротой и проницательностью ума, является та форма душевного расстройства, которая известна в науке под именем “moral insanity” – “нравственная болезнь”. Достаточно нескольких строк, чтобы ознакомить с нею читателя. Каждому приходилось сталкиваться с людьми, которые в умственном отношении представляются совершенно здоровыми, прекрасно понимают, что хорошо и что дурно, и вместе с тем способны совершить ряд самых безнравственных поступков. Понимание добра и зла является в этом случае таким же чисто умственным процессом, как решение геометрической задачи. Этот процесс совершается правильно, иногда даже блестяще, по всем законам логики, но он нисколько не захватывает ни чувства, ни нравственных инстинктов. В этом-то все и горе, так как процесс, являясь чисто формальным, не может тем самым оказывать ни малейшего влияния на поступки человека. Он весь сосредоточен в области мысли, рассуждения. Сплошь и рядом бывает так, что даже мотив безнравственного поведения остается непонятным; определяющим моментом является случайно промелькнувший каприз или прихоть. Впервые такого рода нравственное помешательство было научно констатировано в начале нынешнего века Пинелом, который и назвал его “manie sans delire” – “мания без галлюцинаций”, хотя в осложненной форме галлюцинации могут и быть. Ричарде, англичанин, определил эту психическую болезнь термином “moral insanity”. В пятидесятых годах французский ученый Морель впервые заговорил о вырождении, дегенерации и целым рядом наблюдений показал, что люди, страдающие нравственным помешательством, представляют собою один из характерных видов вырождения. Благодаря этому элементу наследственности, нравственное помешательство можно наблюдать уже в раннем возрасте: дети, страдающие им, отличаются удивительной жестокостью, мучают животных, не питают ни к кому привязанности – в лучшем случае привычку – и доставляют много тяжелых минут окружающим. В школьном возрасте они обыкновенно плохо ведут себя и плохо учатся. Но особенно опасны они, когда наступает время половой зрелости. Тут такого рода юноши сплошь и рядом совершают целый ряд проступков, а иногда и преступлений. Они живут для одной цели – доставить себе наслаждение, а какими средствами достигнуть ее – им это безразлично. Оно и понятно: “moral insanity” по своим проявлениям является возвратом к чисто животному эгоизму. Мне думается, что портрет больного, нарисованный наукой, довольно точно совпадает с портретом Грозного, нарисованным историей. Налицо у нас все нужные элементы. Напомню читателю еще раз невероятную повышенную нервную энергию Грозного, которая одна бы могла убедить нас в болезненном расстройстве его души. Муки пресыщения Грозный знал, но он знал и муки неудовлетворенности, то беспокойное, вечно тревожное состояние духа, которое так хорошо известно всем внимательно наблюдавшим душевнобольных. Эта предсердечная тоска – страшная вещь, человек мечется озлобленный, раздраженный, не зная, как утишить беспокойство своего духа, как забыться. Грозный утешался пытками.
Но он находился еще в исключительных обстоятельствах: он был царь, превосходивший объемом своей власти всех монархов Европы, кроме разве турецкого султана, и это также необходимо отметить, чтобы объяснить его ультражестокости. Как могла влиять на него среда? В детстве она систематически развращала его. Он попал в обстановку, где было гораздо больше самого откровенного и бесцеремонного холопства, чем героизма и строгости. Прославлявшиеся когда-то нравы XVI века отличались, как это теперь известно, большой распущенностью и сластолюбием. Зло окружало Грозного; следуя предрасположению, он впитывал его в себя, как воду губка, и останавливался в служении ему – никогда неудовлетворенный, иногда лишь пресыщенный. Ему все покорствовало, как азиатскому деспоту. “If he bid any of his Dukes goe they woll run” – “если он приказывает кому-нибудь из бояр идти, они бегут”, как картинно выражается Hakwyt. Иоанн пользовался в России властью большей, чем какой-нибудь из современных ему правителей. На любовь, преданность, страх, лицемерие и холопство он отвечал одним презрением. Это тем естественнее, что “moral insanity” всегда сопровождается манией величия – “mania qrandiosa”, даже у обыкновенных смертных, что же говорить о смертных необыкновенных, поставленных, благодаря своему происхождению, в совершенно исключительные условия? Я упоминал уже о той искусственности даже, с какой Грозный хотел возвысить себя над окружающей его русской средой. Вероятно, искренно производил он свою власть от Августа, свой род – от выходцев римского императорского дома в Пруссии. Иногда он называл себя немцем.
Во всех этих странностях виновато не только особенное, неумеренно высокое представление Иоанна о собственной власти, но и отличительные черты его характера. Заметим мимоходом, что Нерон, римские цезари также чувствовали большое презрение к среде; особенно оно было ясно у Нерона, у которого также была артистическая натура. Грозный и в этом похож на него. Не глубокий, но проницательный ум, ловкий, иногда остроумный диалектик, человек, обладавший большой памятью, – Грозный, видя перед собой бояр, тяжелых умом и малоповоротливых, легко проникая в мелкие души, что и вообще-то нетрудно, ощущал постоянные приливы тщеславия, гордости, презрения. Его слабая голова не выдержала ни величия власти, ни внешнего блеска собственной натуры, ни удач, так щедро сыпавшихся на него в юности; он обоготворил себя, по крайней мере в собственном воображении. Это “боготворение” должно было постоянно проявляться. Оно и проявлялось, между прочим, и в той тяжелой мрачной подозрительности, которая под конец жизни Грозного превратилась в постоянную, назойливую мысль о мятежах, измене, преследованиях. Для этого больному уму совсем не надо было многих фактов, достаточно было некоторых, а они случались. Припомним бунт черни, измену и бегство Курбского и Вишневецкого, братьев Черкасовых. Грозный боялся и постоянно экспериментировал над преданностью окружающих.
Признавши “moral insanity”, мы тем самым устраняем трудный вопрос о силе и слабости воли Грозного. Воля – первое, что атрофируется при самых разнообразных формах душевного расстройства. Она необходимо слаба, хотя бы и являлась “необузданной”. Аксаков совершенно справедливо заметил, что необузданная воля и отсутствие воли – то же самое, и различие между первой и второй половиной царствования Грозного сводится к различию между Сильвестром и Малютой Скуратовым.
Заметим, что это – последнее смелое и честное слово, услышанное Иоанном. Оно могло дойти до него только от изгнанника, потому что Россия молчала. Царь делал что хотел, и доказательством этому – духовный собор 1588 года, когда по его настоянию немалая часть монастырских имений отошла в казну; доказательством этому – бесчисленные, все продолжавшиеся казни. Несмотря на бедствия России, он вел обычный образ жизни и, достигши 50-летнего возраста, в седьмой уже раз женился на Марии Нагой, теша свое сладострастие. Пиры и придворные празднества развлекали его и давали ему возможность рассеивать свое мрачное настроение. А оно должно было быть ужасным. Баторий не хотел слушать никаких переговоров о мире, не шел ни на какие компромиссы. Новая уступчивость Иоанна вызывала лишь новые требования. Баторий, кроме всей Ливонии, хотел еще городов северных, Смоленска, Пензы, даже Новгорода, хотел еще взять с России 400 тысяч венгерских золотых и прислал гонца в Москву за решительным ответом. Иоанн, наконец, рассердился и отправил ему письмо, где с обычной своей мелочностью упрекал Батория за то, что он “выбранный”, а не Богом поставленный Государь. Вот что писал он:
“Мы, смиренный Государь всея России, Божиею, а не человеческою многомятежною волею… Когда Польша и Литва имели также Венценосцев наследственных, законных, они ужасались кровопролития: ныне нет у вас Христианства! Ни Ольгерд, ни Витовт не нарушали перемирия; а ты, заключив его в Москве, кинулся на Россию с нашими злодеями, Курбским и другими; взял Полоцк изменою, и торжественным Манифестом обольщаешь народ мой, да изменит Царю, совести и Богу! Воюешь не мечом, а предательством, и с каким лютым зверством! Воины твои режут мертвых… Наши Послы едут к тебе с мирным словом, а ты жжешь Луки каленымиядрами (изобретением новым, бесчеловечным); они говорят с тобою о дружбе и любви, а ты губишь, истребляешь! Как Христианин, я не мог бы отдать тебе Ливонию; но будешь ли доволен ею? Слышу, что ты клялся Вельможам присоединить к Литве все завоевания моего отца и деда. Как нам согласиться? Хочу мира, хочешь убийства; уступаю, требуешь более, и неслыханного; требуешь от меня золота за то, что ты беззаконно, бессовестно разоряешь мою землю!.. Муж кровей! вспомни Бога!”
Странно слышать такие упреки от Иоанна, если это на самом деле были упреки, а не упражнение в красноречии! Он искал уже посредников, обращался к императору, папе… Но у него недостает героизма встать во главе войска и дать решительную битву. Как все московские государи, он больше дипломат, чем воин. Иоанна выручил героизм псковитян. Псков отражал все приступы Батория и не сдавался, несмотря на все упрямство короля. Волей-неволей пришлось заключить перемирие. “Так, – говорит Карамзин, – кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна, который в любопытных ее происшествиях оказал всю слабость души своей, униженной тиранством! В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва ли не бесчестный даже, и если сохранили еще прежние свои границы, то честь этого принадлежит Пскову”.
Раздражительность и мрачность, так давно уже появившиеся в характере Грозного, достигли апогея после неудач Ливонской войны. Иоанн дошел до того, что в припадке гнева убил старшего своего сына – момент его жизни, так дивно изображенный на знаменитой картине Репина. Ближайшего повода к убийству мы не знаем. Одни говорят, что царевич настаивал на продолжении войны с Баторием и этим вывел из себя Грозного. Другие говорят другое. Несомненен самый факт, что царь сильно ударил сына жезлом в висок и уложил его почти на месте: промучавшись несколько дней, царевич скончался.
Тоска и уныние воцарились во дворце.
Иоанн снял с себя все знаки своего достоинства, “бился о гроб и землю с пронзительным воплем”, несколько ночей не спал, вскакивал с постели, валялся среди комнаты, рыдал и стонал. Он не хотел никого видеть и отказывался принимать пищу.
У него зародилась даже мысль отречься от престола.
Созвавши бояр, он сказал им торжественно, что ему, так жестоко наказанному Богом, остается лишь кончить дни свои в монастырском уединении, что меньший сын его Феодор не способен управлять Россией и не мог бы царствовать долго, что бояре должны избрать государя достойного, которому он немедленно вручит державу и сдаст царство.
Так как подобная сцена разыгрывалась не первый уже раз, и бояре не знали, испытывает ли Грозный их преданность или действительно задумывает оставить царство, то, естественно, они единогласно просили царя остаться на троне.
Иоанн как бы нехотя согласился, но удалил с глаз своих все, что напоминало ему о прежнем величии, богатстве и пышности, перестал носить корону и скипетр, надел на себя траурную одежду. “Я нашел Царя, – пишет иезуит Посеевин, посетивший Грозного в это время, – в глубоком унынии. Его пышный некогда двор казался смиренной обителью иноков, говоря черным цветом одежды о мрачности души Иоанна”.
Но исчезли ли казни и пытки? Нет. Только по ночам страшная гостья, совесть, все чаще стала наведываться к царю. Тени убитых и казненных им являлись к нему и требовали отчета. Он доходил до галлюцинаций, не мог спать один в комнате, бродил как тень по обширным палатам дворца своего. Заря разгоняла призраки.
Начинались новые пиры, новые пытки.
Упомянув о войне и перемирии со Швецией (1582 – 1583), о завоевании Сибири, о бунтах казанских народностей и оставив в стороне эти факты, которые найдем в любом учебнике, мы можем перейти к описанию последних дней жизни Иоанна.
Они были мрачны.
Иоанн не любил Марию и ничуть не дорожил ею. Он взял ее себе в седьмые жены больше для поддержания достоинства, чем для чего-нибудь другого. И зачем, собственно, нужна была ему эта “мягкая”, плаксивая и добродушная женщина? Иметь на него какого бы то ни было влияния она не могла, а вспышка сладострастия исчезла так же быстро, как и появилась. Но Мария была беременна, и Иоанн знал это. Однако как раз во время первой беременности жены он заводит переговоры с английской королевой Елизаветою о новом браке на какой-нибудь ее родственнице. Новый брак должен был заключиться по расчету, и, отправляя в Лондон дворянина Писемского с поручением устроить брак, царь прежде всего требует, чтобы посол условился о тесном государственном союзе между Англией и Россией. Невеста была намечена, именно тридцатилетняя племянница королевы – Мария Гастингс. Выдвигая, однако, на первый план свои политические устремления, Иоанн не забывает и похотливых видов, во имя которых он строго-настрого наказывает Писемскому самолично убедиться, высока ли тридцатилетняя мисс, дородна ли, бела ли? Иной, впрочем, царица по представлению того времени и быть не могла. Предвидя со стороны Елизаветы возражения, что “он уже женат”, Иоанн приказал объяснить: “правда, но настоящая жена его не Царевна, не Княжна Владетельная, ему неугодна и будет оставлена для племянницы Государевой”. Как сильно хотелось Иоанну породниться с английским королевским домом, видно, между прочим, из того пункта набросанного брачного контракта, в котором царь говорит, что “наследником Государства будет царевич Феодор, а сыновьям княжны Английской дадутся особые частные владения или уделы, как издревле водилось в России”. Иоанн, очевидно, изменяет традициям московских князей и жертвует даже целостью и единством государства, которые он всегда с такою жестокостью защищал. Посольства Писемского подробно описывать мне незачем. Остановлюсь на самом характерном.
Преследуя свои торговые интересы, английские министры не только ничего не имели против союза с Россией, но и очень радовались ему, а при заключении его заботились исключительно о том, чтобы побольше выторговать на пользу и благо своих купцов. Иоанн, по заявлению Писемского, “издавна жалуя англичан как своих людей, намерен торжественным договором утвердить дружбу с Елизаветою, дабы иметь с ней одних приятелей и неприятелей, вместе воевать и мириться, что королева может ему содействовать если не оружием, то деньгами, что он, не имея ничего заветного для Англии из произведений российских, требует от нее снаряда огнестрельного, доспехов, серы, нефти, меди, олова, свинцу и всего нужного для войны”. Этого хотел Иоанн, не менее хотел он и женитьбы на Марии Гастингс, она окажется в должной степени дородной и белой. Писемскому устроили свидание с принцессой, и он рассматривал ее во всех подробностях, насколько, разумеется, допускал скромный костюм ее. Впечатление, произведенное Марией на посла, было, по-видимому, в ее пользу. Елизавета желала брака: дело улаживалось и расстроилось лишь потому, что невеста, услышав “о свирепости венценосного жениха, убедила королеву избавить ее от этой чести”. Сватовство к Марии не удалось. Не удался и союз с Англией – эта любимая мечта последних дней жизни Иоанна. Смерть его приближалась, неожиданная как для него самого, так и для окружающих.
Вплоть до зимы 1584 года Иоанн крепился и чувствовал себя почти здоровым. Его могучий организм выносил разврат и пьянство, выносил и муки самолюбия, обиженного неудачами войны. Царь, перешагнув за пятидесятилетний возраст, ни в чем не думал менять обычного своего времяпрепровождения. Как и раньше, развлекался он казнями, как и раньше, служил он своему сладострастию. Дух его не угомонился; то же обострившееся, даже тревожное беспокойство не давало спать ему по ночам, заставляя бродить целыми часами по мрачным комнатам дворца.
Зимою 1584 года между церквами Иоанна Великого и Благовещения появилась комета с крестообразным небесным знамением. Царь, узнав об этом, вышел на красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружавшим: “Вот знамение смерти моей”. Предчувствие не обмануло его. Желая рассеять тревогу, он созвал в свой дворец астрологов, мнимых волхвов, разыскав их и в России, Лапландии, в общей сложности до 60-ти человек, ежедневно посылал к ним Бельского толковать с ними о комете и скоро опасно занемог: вся внутренность его стала гнить, а тело – пухнуть. Астрологи предсказали ему смерть на 18 марта; Иоанн приказал им молчать об этом, угрожая в случае нескромности сожжением. Февраль он перемогся еще, в марте ему уже пришлось отказаться от приема литовского посла. Тогда же он приказал составить завещание и объявил Феодора наследником, назначив на помощь ему совет из бояр. Что-то доброе промелькнуло в его сердце в эту торжественную минуту…
“Он изъявил благодарность всем Боярам и Воеводам; называл их своими друзьями и сподвижниками в завоевании Царств неверных, в победах, одержанных над Ливонскими Рыцарями, над Ханом и Султаном; убеждал Феодора царствовать благочестиво, с любовию и милостию; советовал ему и пяти главным Вельможам удаляться от войны с Христианскими Державами; говорил о несчастных следствиях войны Литовской и Шведской; жалел об истощении России; предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, даже пленников, Литовских и Немецких. Казалось, что он, готовясь оставить трон и свет, хотел примириться с совестью, с человечеством, с Богом – отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла, и желал спасти юного сына от своих гибельных заблуждений”.
Но это только “казалось”, только “промелькнуло”. Даже смерть, так ясно заявлявшая о своем приближении трупным запахом разлагавшегося, хотя еще живого царя, не могла справиться с его неукротимой натурой. Рассказывают, что невестка, супруга Феодора, подошла к его постели, и должна была убежать с омерзением от любострастного бесстыдства Иоанна! Продолжались и казни.
17 марта Иоанну стало лучше, и он, уже воспрянув духом, назначил день для приема посла. Мало того, он заявил Бельскому: “Объяви казнь лжецам астрологам: ныне по их басням я должен умереть, но я чувствую себя гораздо бодрее”. Бодрость оказалась, однако, последней судорогой уходившей жизни. Пробывши несколько часов в ванне, царь лег на кровать, потом встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постели, сам расставил шашки, приглашая Бельского играть с ним. Вдруг он упал, чтобы больше не подниматься.
Глава V. Литература об Иоанне Грозном
Мало в русской истории личностей, которые привлекали к себе такое дружное внимание со стороны людей самых различных профессий, как личность царя и великого князя московского Иоанна IV Васильевича Грозного. Ею занимались специалисты-историки, публицисты, драматурги, поэты, беллетристы, художники и скульпторы. Еще недавно И. Репин написал свою знаменитую картину, где изобразил царя в момент убиения им старшего сына. На виду у всех одна из лучших статуй Антокольского – “Иван Грозный”; драма Островского “Василиса Мелентьева” хотя не часто, но все же дается на императорской сцене. Есть, значит, в личности Грозного что-то притягательное, способное возбуждать художественное воображение у лиц самых различных наклонностей и темпераментов. Ради Грозного Костомаров бросил даже тон и форму историка и перешел на беллетристику, в результате чего и появился всем известный, хотя и неудачный “Кудеяр”. А сколько полемики возбуждал Грозный – это даже перечислить трудно. Что же, знаем ли мы его в конце концов, или нет? Казалось бы, странно даже ставить такой вопрос. Работы таких историков, как Карамзин, Полевой, Костомаров, Кавелин, Соловьев, Бестужев-Рюмин, находятся перед нами, но, как пошутил кто-то, “Грозного все же нет, а есть Грозный костомаровский, соловьевский и т.д.”. Рассматривая характеристики Грозного, говорит Н. К. Михайловский, совершенно независимо от большей или меньшей степени мастерства, с которой они написаны, вы поражаетесь их разнообразием: одни и те же внешние черты, одни и те же рамки и при всем том совершенно-таки разные лица – то “падший ангел”, то просто злодей, то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья, без руля и без ветрил, то личность, недосягаемо высоко стоявшая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая всем лучшим стремлениям своего века. Несколько раз, именно после появлений характеристик Аксакова и Соловьева, компетентные люди провозглашали, что “отныне конец разногласиям в оценке личности и деятельности Грозного”. Однако другие, не менее компетентные люди, немедленно же восставали против таких победных возгласов и выставляли веские опровержения и ограничения. В результате – сумбур, в большей или меньшей степени блестящий и остроумный, но все же приводящий внимательного читателя в самое искреннее недоумение.
Будет полезно напомнить главнейшие характеристики Грозного, так как в каждой из них заключается доза истины.
Начнем с князя Щербатова. Это историк XVIII века. “Иван Грозный, – говорит он, – именитый в земных владыках, но разумом, узаконениями, честолюбием, завоеваниями, потерями, гордостью в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является”. В этих словах прекрасно указана сложность натуры Грозного, казнившего после молитвы и молившегося после казни. Щербатов ставит царя высоко, видит в нем “великий и проницательный разум”, называет узаконения “мудрыми”, но рядом с этим отмечает другую черту – “низость сердца”. Эту низость сердца Иоанн сдерживал в себе в юности, но, утвердившись на престоле и утеряв первую супругу Анастасию, дал ей свободу, и перед нами – все ужасы второй половины его царствования.
Честнее (в научном смысле слова, разумеется) других историков отнесся к Грозному Карамзин. Не пускаясь в мудрствования лукавые, оградив свои выводы стройным рядом окопов из всех доступных ему документов, – Карамзин в тех местах, где он не понимал, прямо и откровенно сознавался в этом. В общем характеристика его сводится к следующему.
Рожденный с пылкою душою, редким умом, особенною силою воли, он не имел “мудрого пестуна”, а попал в руки развратителей. Такое воспитание привело к нему пороки, встречавшие со стороны окружающих лишь низкое поощрение. Так рос и вырос Иоанн IV и, достигши возмужалости, женился. Мало что предвещало в нем мудрого царя, и брак на добродетельной Анастасии нисколько не урезонил его: продолжались прежние буйства и прежнее нерадение в делах государственных. Настал, однако, 1547 год. Страшный погром истребил большую часть Москвы, измученная страданиями чернь взбунтовалась, перебила царских родственников. “В сие ужасное время, когда Иоанн трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новгорода… Сильвестр потряс душу и сердце, овладел воображением юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком”. Начинается счастливый период его царствования, ознаменованный речью на Лобном месте, изданием “Судебника” и т. д. Но “счастье непродолжительно”. В 1560 году умерла Анастасия, а вместе с нею исчезла и добродетель Иоаннова. “Здесь, – говорит Карамзин, – конец счастливых дней Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели”. Он превращается в тирана, и порою Карамзин не находит даже слов, чтобы заклеймить его жестокости. В “тиранстве” Грозный пребывает до самой смерти.
Несомненно, что для Карамзина Грозный – неразрешимая психологическая задача, странная смесь добра и зла, тиран, поражающий его то своею жестокостью, то малодушием, то проницательностью, то полным затмением мысли. Полной и стройной характеристики Карамзин не дал; различные формы, через которые проходит личность Иоанна, охарактеризованы им великолепно, но органически эти формы не связаны между собою: переходы от распутства к добродетели и обратно не выяснены, случайны и даже чудесны. Но все же для изучения Грозного Карамзин сделал более чем кто-нибудь другой, и его искреннее “не понимаю” равняется многим блестящим характеристикам. Не понимать многого из жизни и деятельности приходится и теперь, – в чем прямо и непосредственно виновата русская история как наука.
Полевой выдвигает на сцену фактор наследственности: “Соображая жизнь, дела, слова Иоанна, – говорит он, – видим, что сын Василия и внук Иоанна III имел все недостатки отца и деда (вспыльчивость, жестокость, трусливость и пр.), уступая последнему в самобытности характера и обширном уме, не имея нежности душевной, свойственной последнему. Вспомним жестокость, суровость Иоанна III, склонность к забавам и неголюбие Василия. В Иоанне IV соединилось то и другое. И такой характер был испорчен несчастным воспитанием, приучившим его к двум противоположностям: своеволию и самовластию и в то же время к послушанию людям, превосходящим его умом, дарованием, хитростью, умевшим искусно завладеть им. Так, в юности своей Иоанн подчинялся Глинским, казня Шуйских; покровительствовал впоследствии клевретам своим, казня доблестных советников; унижался перед Баторием, терзая Магнуса и Ливонию. Привыкая повиноваться, он готов был страшно мстить своему повелителю, когда сознавал свою зависимость. Самая любовь его к Анастасии не походила ли более на привычку повиноваться воле человека, которого достоинства умел он оценить… После смерти Анастасии, разрыва с Сильвестром и Адашевым и свидания с Вассианом – иноком, рекомендовавшим ему не держать возле себя советников умнее себя, поступки Иоанна постепенно становились самовластительнее, мало-помалу отвыкал он от послушания советам других, противился предприятию правителей против Крыма и вопреки всем увещаниям начал Ливонскую войну. Он уверился в себе, перестал верить им. Оставалось ударить роковому часу перелома и душой Иоанна овладеть пороку и страстям. Настал сей час, и тогда все погибло в одно мгновение: счастие, слава Иоанна, Адашева и Сильвестра. Но следы сего находим далеко прежде”. Полевой смотрит на Иоанна прежде всего как на человека слабого, несамостоятельного.
Апология Грозного, как это ни странно, началась лишь со времени Белинского. “Таков Иоанн, – пишет последний, – это была душа энергическая, глубокая, титаническая. Стоит только пробежать в уме жизнь его, чтобы убедиться в этом”. И дальше: Иоанн был падший ангел, который и в падении своем по временам обнаруживает и силу характера железного, и “силу ума высокого”. На оценку Белинского положиться очень трудно, совершенно даже невозможно: наш знаменитый критик мало был знаком с историей и личное, иногда минутное настроение слишком много значило в его рецензиях и характеристиках.
Кавелин пошел еще дальше. Белинский удивляется силе Иоанна, Кавелин – его государственной мудрости и чуть ли не впервые сравнивает Иоанна с Петром: “Оба, – говорит Кавелин, – равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими и достойнейшими ее представителями. Но Иоанн сознавал ее как поэт, Петр – как человек по преимуществу практический. У первого преобладает воображение, у второго – воля. Время и условия, при которых они действовали, положили еще большее различие между этими двумя государями. Одаренный натурой энергической, страстной, поэтической, менее реальной чем преемник его мыслей, Иоанн изнемог, наконец, под бременем тупой, полупатриархальной, тогда уже бессмысленной среды, в которой суждено было ему жить и действовать, борясь с ней на смерть много лет, и, не видя результатов, не находя отзыва, он утерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучением: он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что был велик”. Кавелин доходит до оправдания опричнины.
Не знаю, что видит читатель во фразах Кавелина, но я в них ничего не вижу, кроме громких слов. Любопытно, однако, что, собственно, заставило Кавелина так ласково и почтительно отнестись к Грозному? “Кто знает, – говорит Кавелин, – любовь Грозного к простому народу, угнетенному и раздавленному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он старался облегчить его участь, тот не скажет, что опричнина – зло. Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможество: на место рода, кровного начала, поставить в государственном управлении начало личного достоинства”. Что Иоанн выдвигал на сцену мизинных людей – это несомненно. Но чтобы такова была программа его царствования, сомневаться в этом не только можно, но и должно. Особенно любопытно, что Кавелин во всем винит среду, которая-де и погубила Иоанна. Насколько эта среда была лучше при Петре после всех ужасов XVII века? Подобного сравнения Кавелин, однако, не делает, отчего вся его аргументация повисает в воздухе. Неужели среда с Адашевым, Курбским, митрополитом Филиппом, людьми, известными всенародно, собиравшимися на земских соборах, была так губительна? Неужели она не руководила Иоанном, не восставала против жестокостей его, не указывала верного пути? Но что Иоанн презирал и ненавидел среду, в которой он жил, – в этом г-н Кавелин прав, и это мы запомним.
В VI томе своей знаменитой “Истории” Соловьев выставляет Грозного представителем чистой государственной идеи. Признавая, что Грозный был испорчен воспитанием, Соловьев старается, однако, по возможности, обелить и возвысить его: “Голова ребенка, – говорит историк, – была постоянно занята мыслью о борьбе с боярами, о своих правах, о бесправии врагов, о том, как дать силу своим правам, доказать бесправие противников, обвинить их. Пытливый ум ребенка требовал пищи: он с жадностью прочел все, что мог прочесть, изучал церковную историю, римскую историю, русские летописи, творения св. отцов. Но во всем, что ни читал, он искал доказательств в свою пользу; занятый постоянно борьбой, искал средств выйти победителем из этой борьбы, искал везде, преимущественно в Священном Писании, и доказательств своей власти против беззаконных мер, отнимавших ее у него. Испорченный в детстве, он прежде всего проявил свои права жестокою казнью Шуйского. Мало того, желая разъединить боярство и народ, союз которых выразился в бунте черни против Глинских, он созвал знаменитый собор, на котором объявил бояр как собственными врагами, так и врагами государства”. Признавая влияние Сильвестра, Соловьев отводит ему второстепенную роль, стараясь выгородить самостоятельность царя, который отличался “сильной не по летам степенью развития ума и воли”. Издание “Судебника”, “Стоглава”, Казанский поход – все это, по крайней мере инициативу всего этого, Соловьев приписывает Иоанну. Почему же последний вдруг так резко изменился? – Он изверился в преданности советников, а также и в их проницательности. Когда он замышлял поход на Ливонию или требовал похода на Крым, и бояре противились тому и другому, не понимая его замыслов, предвосхитивших замыслы Петра, – это доказало ему их непроницательность; во время болезни, так как многие из рады отказались присягнуть сыну его Димитрию, – они, по мнению Иоанна, доказали неискренность своей привязанности. Душа царя омрачилась. Начались казни. Но и эти казни все же служили цели, поставленной себе Иоанном. Цель эта заключалась в том, чтобы дать торжество государству и государственному началу, сломить и уничтожить вольный боярский и дружинный дух, искоренить последние следы местной независимости или даже самую тень ее.
По Соловьеву, Грозный является перед нами исторической личностью, предшественником Петра в своих замыслах сблизиться с Европой, человеком проницательного ума и сильной воли, которого, однако, не оценили и не поняли среда и приближенные. Жестокость объясняется как результат дурного воспитания; несмотря на нее, заслуги Грозного громадны. Строй дружинной удельной Руси дал в царствование Грозного последнюю отчаянную битву крепнувшей монархической власти, и эта последняя победила. Грозный создал единое, нераздельное государство, родовое начало было уничтожено, все были объявлены слугами государства.
Соловьеву отвечали Погодин и Аксаков.
Погодин считает планы Грозного неоригинальными. Он шел лишь по дороге, указанной его дедом, который сделал гораздо больше; Грозный затем стремился не к торжеству монархии, а слепого, личного произвола. Вообще же о мерах Иоанна Погодин отзывается так: “Что есть в них высокого, благородного, прозорливого, государственного? Злодей, зверь, говорун-начетчик с подьяческим умом и только. Надо же ведь, чтобы такое существо, как Иоанн, потерявшее образ человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославителей!”
Аксаков охарактеризовал личность Грозного в высшей степени оригинально: бояре, по Аксакову, даже и не боролись с царем, а противопоставляли ему одно терпение. Все жестокости истекали из личных особенностей натуры царя. Что же это была за натура? Иоанн IV был природа художественная, художественная в жизни. Образы являлись ему и увлекали своей внешней красотой; он художественно понимал добро, красоту его, понимал красоту раскаяния, красоту доблести, и, наконец, самые ужасы влекли его к себе своею страшной картинностью. Но одно чувство художественности, не утвержденное на строгом и суровом нравственном чувстве, есть величайшая опасность для души человека. С одной стороны, оно не допускает человека испытать ни одного чувства правдиво, ибо человек, наслаждаясь красотою чувства, им испытываемого, или дела, им совершаемого, не относится к ним цельно и непосредственно: он любуется ими, он любит красоту, а не самое дело. Вот отчего и в истории, и в частной жизни встречаем мы такие явления, что человек, например, плачет умильными слезами, слыша рассказ о кротости и великодушии, а в то же время мучает и терзает ближнего; и он не обманывает: эти слезы непритворны, но он тронут как художник – с художественной стороны, а одно это еще ничего не значит и на действительность это не имеет влияния. Человек довольствуется здесь одним благоуханием добра, а добро для него сама по себе вещь слишком грубая, тяжелая и черствая. Это человек безнравственный на деле, но понимающий красоту добра и приходящий от нее в умиление. Дело, самое добро ему не нужно и не под силу, он чувствует только, как оно изящно, хорошо, и довольствуется этим. Такое состояние почти безнадежно. Ибо тот, кто не понимает добра и не чувствует, может понять, почувствовать и преобразиться нравственно. Тот же, кто чувствует добро, но только художественно, кто наслаждается его благоуханием, а дело самое откладывает, тот едва ли может исправиться. Но есть другая сторона художественного чувства, в свою очередь губящая человека. Художественное чувство может отыскать красоту в самом диком и низком явлении. Аксаков, впрочем, оговаривается, что, конечно, не одна эта художественность определяла поступки Иоанна IV, что были в его душе и другие двигатели, но художественность играла все-таки большую роль. Жестокий уже в детстве, Иоанн подавлял свою страстную натуру при Сильвестре и Адашеве, хотя никогда не был орудием в их руках, а затем он избавился от своих советников, сбросив с себя нравственную узду стыда. Звание царя слилось в его понятии с произволом, и этот произвол явил полное отсутствие воли в человеке, ибо отсутствие воли и необузданная воля – это все равно.
Не считаю нужным останавливаться на взглядах Костомарова, который в данном случае явился продолжателем Карамзина. Его характеристика, однако, строже и выдержаннее и, если можно так выразиться, еще более уничижительна. Грозный – труслив, малодушен; всякий, кому не лень, руководит им; никаких государственных замыслов и программ в его голове нет, есть лишь прихоти и капризы безумной, жестокой натуры, любящей театральные эффекты и т. д. Пропускаю и мнение Бестужева-Рюмина, как близко примыкающее к мнению С. Соловьева.
Итак, не прав ли Щербатов, говоря, что “Грозный в столь разных видах представляется, что часто не умным человеком является!” И так не только в жизни, но и в литературе, где ряд таких остроумнейших характеристик мало выясняет дело, а иногда просто запутывает его.
Читатель, полагаю, заметил, что главные пререкания между историками сосредоточились возле двух крутых вопросов: “Была ли у Иоанна самостоятельная воля и можно ли считать его деятельность проникнутой государственной идеей?” Очевидно, что характеристика Грозного может быть дана лишь после того, как оба эти вопроса будут досконально разрешены. Но рассчитывать, что это может быть сделано сейчас же, невозможно и неосновательно. Что, например, знаем мы о Сильвестре, Адашеве и избранной раде? Кое-что мы, разумеется, знаем, но это “кое-что” незначительно. Одинаково трудно определить, к чему сводилось влияние Анастасии и каким образом влияние это действовало в том же направлении, как и избранной рады, хотя царица недолюбливала ее и даже враждовала с нею. По поводу боярских притязаний в XVI веке еще и теперь идут серьезнейшие пререкания; одни эти притязания отрицают, другие преувеличивают их до такой степени, что русское боярство оказывается чуть ли не английской аристократией! Если же мы так плохо знаем историю той эпохи, среди которой жил и действовал Грозный, то, на время, по крайней мере, мы принуждены отказываться от претензий на полную и истинную его характеристику. Но если такая характеристика является идеалом, то все, что содействует ей, все, что открывает в характере Грозного новые незамеченные еще стороны, заслуживает полного внимания.
Позволю себе поэтому привести характеристику Н.К. Михайловского, очень оригинальную и делающую несомненно большой шаг вперед в интересующем нас вопросе.
“Один из предков Иоанна IV, великий князь Василий Дмитриевич, хорошо выразил программу всех владык московских в словах, сказанных им митрополиту Киприану: “Вы поставлены к миру и любви учити, мне же имение собирати и возноситися”. Иоанн IV лишь придал особенную, правово-безумную цветистость этой программе. В нем действительно билась отмеченная К. Аксаковым художественная жилка, отвлеченно художественная, лишенная всякой нравственной основы, и часто “имения собирати и возноситися” ему было мало. Нужны были еще блеск, картинность, художественное упоение величия. Но главным определяющим фактором жизни и деятельности Грозного была все-таки не художественность натуры, а несчастное сочетание крайней слабости воли и сознания с непомерной властью, недаром пугавшею современников”. И дальше: русский психиатр, который пожелал бы заняться, нашел бы прежде всего в его, по-видимому, врожденной кровожадности (еще ребенком он занимался мучительством животных), в несомненном слабоумии его брата Юрия, в жестокости его старшего, убитого им, сына Иоанна, в скудоумии его другого сына Федора – намек на отягченную психопатическую наследственность. Затем хотя историки-апологеты ищут и находят оправдание подозрительности Иоанна в поведении и настроении бояр, но некоторые его выдумки в этом отношении отмечены уже несомненно печатью безумия. Таково, например, его намерение бежать в Англию, для чего он даже вступал в специальные переговоры с королевою Елизаветою, жалуясь на измены и заговоры, не дающие ему спокойно жить в России. Таково его завещание 1579 года. Только что разгромив Новгород и Псков, совершив казни в Москве, Грозный пишет в завещании: “Изгнан я от бояр ради их самовольства, от своего достояния и скитаюсь по странам”. Это не простая ложь, это явная мания преследования. Вообще в целом ряде поступков Иоанна IV, в которых историки-апологеты старательно разыскивают следы великих государственных планов, – специалист-психиатр, я уверен, найдет лишь следы расстроенного духа.
Дальше г-н Михайловский говорит о том, что слабая голова Иоанна не выдержала величия власти и помрачилась. Ход психологического развития Грозного он характеризует таким образом: “Грозный был великим князем, хотя и номинальным, с трех лет. Бояре, правда, делали что хотели, но и ему предоставляли делать что он хочет, поощряя его, по-видимому, от природы дурные наклонности и тем окончательно расслабляя его и так уже слабую волю. Митрополиту Макарию, Сильвестру, избранной раде удалось погнуть эту слабую волю в добрую сторону, внушив Ивану высокое понятие об обязанностях христианского государя – предоставив его несомненным ораторским дарованиям блестящее поприще на Лобном месте перед боярами, на Стоглавом соборе, под Казанью. Иоанн тешился этой ролью; Русь крепла, росла, но вместе с тем росла и непомерная гордость Иоанна. Вознесенный удачами, лестью, собственными аппетитами превыше всех земнородных, сравниваемый то с Августом, то с Константином Великим, Иоанн в один несчастный для России день понял, что не он был инициатором совершившихся высоких дел, что он совершил их по указке попа Сильвестра и “собаки-Адашева” с братией. Понятны страшные взрывы его гнева. Конечно, он тотчас же попал под другие влияния. Эти влияния уже не звали его к великим делам, но не мешали ему лично возноситься над несчастной Русью. В его развинченной душе не осталось ничего, кроме идеи, и даже не идеи, а ощущения всемогущества, которому он приносил в жертву все. Каждая мелькнувшая в голове мысль или внушенная каким-нибудь Басмановым, превращалась Грозным немедленно в действие, минуя всякие задерживающие центры. Гнев на сына в ту же минуту разрешается убийственным ударом костыля. Дикая фантазия посадить на престол всея Руси татарина Симеона Бекбулатовича тотчас же осуществляется. Взгляд на красивую женщину – и она становится его второю, третьею, пятою, седьмою женой. Польза и нужды молодого, объединенного государства не существуют. Девлет-Гирей сжигает Москву, Баторий наносит русским войскам поражение за поражением, а царь хлопочет только о том, чтобы уколоть Батория его малым королевским достоинством, добивает недобитых воевод и советников, заменяя их шпионами, грабителями и кровопийцами. Добивает же он не потому, что они изменники, даже не по той причине, по которой он велел изрубить присланного ему в подарок от шаха слона. Слон пострадал за то, что заупрямился встать перед русским царем на колена, а бояре и народ делали это охотно. Доставалось от Грозного серому народу, но боярам доставалось действительно больше, единственно, однако, потому, что они были видны, цветные, все равно как Калигула ненавидел высоких людей: они просто бросались в глаза. Если же Грозный создал легенду о принципиальной борьбе с боярами, то известно, что маньяки иногда подыскивают чрезвычайно замысловатые объяснения для своих поступков, совершенно бессмысленных… Есть, однако, и важное различие между римским тираном и Иоанном. История не оставила нам никаких следов тому, чтобы Калигула или Нерон угрызались когда-нибудь совестью. Грозного же эта страшная гостья посещала. Наглотавшись крови и чувственных наслаждений, Грозный временами каялся, надевал смиренную одежду, молился за убиенных. Может быть, здесь была известная доза лицемерия или все той же душевной развинченности… Как бы то ни было, Грозный шатался из стороны в сторону, от греха – к покаянию”.
Заключение
Г-н Михайловский поставил вопрос о личности Грозного на новую и оригинальную почву. Он рассматривает Иоанна прежде всего как болезненную натуру, как маньяка, как человека без воли, который страдает отсутствием сдерживающего начала внутри себя. Однако аргументация г-на Михайловского особенной полнотой не отличается, и более точный психиатрический анализ необходим. В ожидании его со стороны людей сведущих позволю собрать воедино разбросанные по книге замечания и обрисовать личность Грозного, насколько я ее понимаю.
Полевой, замечательная история которого, кстати сказать, так блистательно забыта нами, первый заговорил о наследственных элементах в характере Грозного. Жестокость деда, без его сильного ума, нега и сластолюбие отца – таковы, по мнению Полевого, определяющие элементы наследственности. Мне бы хотелось прибавить к этому блестящую, но не глубокую и вместе с тем пылкую натуру матери, о которой, правда, мы знаем маловато, но кое-что все же знаем. В Елене Глинской было много лоску, легкомыслия, много женственности наконец, уживавшейся, однако, с известной сухостью сердца. Быть может, ей обязан Грозный подвижностью ума, игривой и быстро возбуждающейся фантазией, что делает его так непохожим на малоподвижных и тяжелых даже князей-хозяев московских. Эти качества отличали Грозного не только от его предков, но и от современников, которых он и презирал за их глупость, вернее за их умственную сонливость. Грозный был красноречив, трудно сомневаться, что у него был настоящий ораторский и диалектический талант, немало остроумия, остроумия, однако, поверхностного и делавшегося страшным лишь в припадке гнева. Гораздо важнее отметить, что наследственность Иоанна IV была болезненной. Не знаю, возможно ли это оспаривать? Кто же не знает, что брат его Юрий “слабоумен был”, а все дети – Иоанн, Федор, царевич Димитрий, страдавший, вероятно, эпилептическими припадками, – ненормальными. Иоанн отличался жестокостью и сладострастием; Федор управлению государством предпочитал занятия пономаря; Димитрий часто падал в судорогах с пеной у рта. Такого факта психиатр не может оставить без внимания. И трудно на самом деле всю жестокость Грозного выводить из воспитания и только одним им объяснять ее. Она проявилась слишком рано, сначала в мучительстве над животными, потом – над людьми. Мерзость воспитания, полученного Грозным, упала на готовую почву и, соединившись с наследственным предрасположением, создала невиданную свирепость палача-художника, пытавшего и казнившего как артист и любитель. Оттого ничто не могло успокоить Иоанна, ничто не могло умиротворить его. Но жестокость – далеко не единственный признак болезни. К ней надо прибавить указанное выше эротическое исступление, что идет обыкновенно рука об руку. Напоминать ли читателю Нерона и Калигулу, Гелиогабала и Каракаллу, этих всем известных мучителей и сластолюбцев; напоминать ли ему героев Достоевского, у которых сладострастие и жестокость всегда так тесно связаны между собою? Насколько я знаком с психопатологией (а я не специалист), то для меня очевидно, что и эротическая аномалия, и жестокость находятся между собою в непосредственной причинной зависимости. Ее можно было бы подтвердить многочисленными примерами, но все эти примеры настолько грязны, что я предпочитаю этого не делать и отошлю читателя или к специальным сочинениям по психиатрии, или, что проще еще, к “Братьям Карамазовым” Достоевского, где близкий союз этих обоих противоестественных качеств показан в ярких художественных образах. Как это ни странно, но теперь как раз будет уместно задать себе вопрос о религиозности царя Иоанна. Религиозность религиозности рознь. Перед одной мы преклоняемся, затрудняясь найти более высокое проявление человеческого духа, другая вызывает в нас – и не может не вызвать – самое искреннее отвращение, иногда жалость. В религиозности Грозного я не сомневаюсь и думаю, что бывали минуты, когда он как нельзя более искренне клал земные поклоны до синяков и ран на лбу, подавал поминание о душах усопших и убиенных, наивно предоставляя Господу Богу сосчитать их и сам отказываясь от такой мудреной задачи. Да, были такие минуты, как бывали минуты покаяния и угрызений совести. Правда, в религиозности Грозного много формализма. Эта черта тонко подмечена еще Карамзиным, который пишет: “Платон говорит, что есть три рода безбожников: одни не верят в существование богов, другие воображают их беспечными и равнодушными к деяниям человеческим, третьи думают, что их всегда можно умилостивить легкими жертвами или обрядами благочестия. Иоанн и Людовик принадлежали к сему последнему разряду безбожников”. Думаю, что не только это, хотя в защиту мнения Карамзина можно привести достаточное число фактов; например, убив сына, Грозный прежде всего отправил 10 тысяч рублей в Константинополь, чтобы греческие монахи во главе с патриархом замолили грех его, сам он во время пребывания в Александровской слободе почти безвыходно находился в церкви. Все это так; но, во-первых, благочестие XVI века неразрывно соединено с формой, а во-вторых, как бы грубо ни понимал Грозный Божество, отрицать мистические эмоции в его душе у нас нет никакого основания. Напротив, у нас есть полное основание признавать их. Из психопатологии известно, что эротические аномалии и мистический ужас сродни друг другу, и это опять-таки драгоценное указание науки. Не буду объяснять, как и почему сродни, достаточно привести факт, если и не общепризнанный, то все же не раз констатированный самыми остроумными авторитетами. Разумеется, такая религиозность нисколько не мешала жестокости Грозного, ему случалось давать свирепые распоряжения в самой церкви, во время службы; его казни начинались обыкновенно молебнами и заканчивались панихидами. Но ведь такая религиозность – порывистая, экзальтированная – и мешать-то ничему не может, как не может мешать жестокости понимание того, что хорошо, что дурно, если в душе человека нет нравственного чувства любви и состраданияк ближнему. Отсутствие такого нравственного чувства у Грозного несомненно. Видя перед собой Шибанова, вполне признавая благородство и героизм его поступка, Грозный, однако, отправляет его в застенок и подвергает всем ужасам муки. Ни прощать, ни миловать Грозный не умел, хотя, разумеется, мог бы по поводу милости произнести блестящую речь, подкрепив ее многочисленными цитатами из Ветхого и Нового Завета. Всего естественнее предположить, что источником всех этих указанных аномалий характера, прекрасно уживавшихся с остротой и проницательностью ума, является та форма душевного расстройства, которая известна в науке под именем “moral insanity” – “нравственная болезнь”. Достаточно нескольких строк, чтобы ознакомить с нею читателя. Каждому приходилось сталкиваться с людьми, которые в умственном отношении представляются совершенно здоровыми, прекрасно понимают, что хорошо и что дурно, и вместе с тем способны совершить ряд самых безнравственных поступков. Понимание добра и зла является в этом случае таким же чисто умственным процессом, как решение геометрической задачи. Этот процесс совершается правильно, иногда даже блестяще, по всем законам логики, но он нисколько не захватывает ни чувства, ни нравственных инстинктов. В этом-то все и горе, так как процесс, являясь чисто формальным, не может тем самым оказывать ни малейшего влияния на поступки человека. Он весь сосредоточен в области мысли, рассуждения. Сплошь и рядом бывает так, что даже мотив безнравственного поведения остается непонятным; определяющим моментом является случайно промелькнувший каприз или прихоть. Впервые такого рода нравственное помешательство было научно констатировано в начале нынешнего века Пинелом, который и назвал его “manie sans delire” – “мания без галлюцинаций”, хотя в осложненной форме галлюцинации могут и быть. Ричарде, англичанин, определил эту психическую болезнь термином “moral insanity”. В пятидесятых годах французский ученый Морель впервые заговорил о вырождении, дегенерации и целым рядом наблюдений показал, что люди, страдающие нравственным помешательством, представляют собою один из характерных видов вырождения. Благодаря этому элементу наследственности, нравственное помешательство можно наблюдать уже в раннем возрасте: дети, страдающие им, отличаются удивительной жестокостью, мучают животных, не питают ни к кому привязанности – в лучшем случае привычку – и доставляют много тяжелых минут окружающим. В школьном возрасте они обыкновенно плохо ведут себя и плохо учатся. Но особенно опасны они, когда наступает время половой зрелости. Тут такого рода юноши сплошь и рядом совершают целый ряд проступков, а иногда и преступлений. Они живут для одной цели – доставить себе наслаждение, а какими средствами достигнуть ее – им это безразлично. Оно и понятно: “moral insanity” по своим проявлениям является возвратом к чисто животному эгоизму. Мне думается, что портрет больного, нарисованный наукой, довольно точно совпадает с портретом Грозного, нарисованным историей. Налицо у нас все нужные элементы. Напомню читателю еще раз невероятную повышенную нервную энергию Грозного, которая одна бы могла убедить нас в болезненном расстройстве его души. Муки пресыщения Грозный знал, но он знал и муки неудовлетворенности, то беспокойное, вечно тревожное состояние духа, которое так хорошо известно всем внимательно наблюдавшим душевнобольных. Эта предсердечная тоска – страшная вещь, человек мечется озлобленный, раздраженный, не зная, как утишить беспокойство своего духа, как забыться. Грозный утешался пытками.
Но он находился еще в исключительных обстоятельствах: он был царь, превосходивший объемом своей власти всех монархов Европы, кроме разве турецкого султана, и это также необходимо отметить, чтобы объяснить его ультражестокости. Как могла влиять на него среда? В детстве она систематически развращала его. Он попал в обстановку, где было гораздо больше самого откровенного и бесцеремонного холопства, чем героизма и строгости. Прославлявшиеся когда-то нравы XVI века отличались, как это теперь известно, большой распущенностью и сластолюбием. Зло окружало Грозного; следуя предрасположению, он впитывал его в себя, как воду губка, и останавливался в служении ему – никогда неудовлетворенный, иногда лишь пресыщенный. Ему все покорствовало, как азиатскому деспоту. “If he bid any of his Dukes goe they woll run” – “если он приказывает кому-нибудь из бояр идти, они бегут”, как картинно выражается Hakwyt. Иоанн пользовался в России властью большей, чем какой-нибудь из современных ему правителей. На любовь, преданность, страх, лицемерие и холопство он отвечал одним презрением. Это тем естественнее, что “moral insanity” всегда сопровождается манией величия – “mania qrandiosa”, даже у обыкновенных смертных, что же говорить о смертных необыкновенных, поставленных, благодаря своему происхождению, в совершенно исключительные условия? Я упоминал уже о той искусственности даже, с какой Грозный хотел возвысить себя над окружающей его русской средой. Вероятно, искренно производил он свою власть от Августа, свой род – от выходцев римского императорского дома в Пруссии. Иногда он называл себя немцем.
Во всех этих странностях виновато не только особенное, неумеренно высокое представление Иоанна о собственной власти, но и отличительные черты его характера. Заметим мимоходом, что Нерон, римские цезари также чувствовали большое презрение к среде; особенно оно было ясно у Нерона, у которого также была артистическая натура. Грозный и в этом похож на него. Не глубокий, но проницательный ум, ловкий, иногда остроумный диалектик, человек, обладавший большой памятью, – Грозный, видя перед собой бояр, тяжелых умом и малоповоротливых, легко проникая в мелкие души, что и вообще-то нетрудно, ощущал постоянные приливы тщеславия, гордости, презрения. Его слабая голова не выдержала ни величия власти, ни внешнего блеска собственной натуры, ни удач, так щедро сыпавшихся на него в юности; он обоготворил себя, по крайней мере в собственном воображении. Это “боготворение” должно было постоянно проявляться. Оно и проявлялось, между прочим, и в той тяжелой мрачной подозрительности, которая под конец жизни Грозного превратилась в постоянную, назойливую мысль о мятежах, измене, преследованиях. Для этого больному уму совсем не надо было многих фактов, достаточно было некоторых, а они случались. Припомним бунт черни, измену и бегство Курбского и Вишневецкого, братьев Черкасовых. Грозный боялся и постоянно экспериментировал над преданностью окружающих.
Признавши “moral insanity”, мы тем самым устраняем трудный вопрос о силе и слабости воли Грозного. Воля – первое, что атрофируется при самых разнообразных формах душевного расстройства. Она необходимо слаба, хотя бы и являлась “необузданной”. Аксаков совершенно справедливо заметил, что необузданная воля и отсутствие воли – то же самое, и различие между первой и второй половиной царствования Грозного сводится к различию между Сильвестром и Малютой Скуратовым.