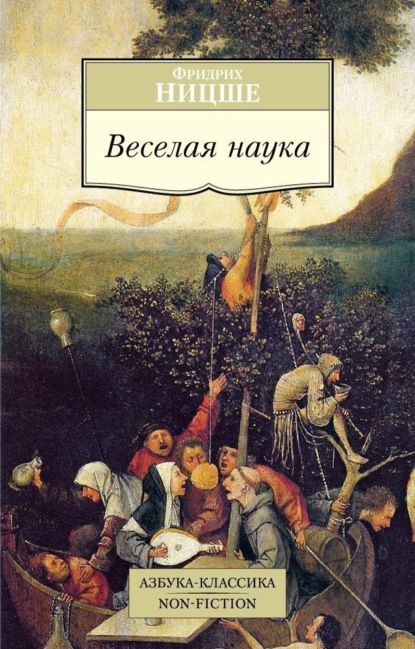По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Веселая наука
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скрипит перо: «Живешь в аду!»
Скрипит перо мое все пуще —
И все решительней веду
Я линию мою, все гуще.
В чернильнице не видно дна!
Все больше страсти в оборотах!
А непонятны письмена —
Не все равно ли? Кто ж прочтет их?
60. Люди наверху
Тот вверх взлетел – хвала ему!
А тот – с верхов сошел во тьму!
Над похвалой поднялся третий.
Четвертый – выше всех на свете!
61. Речь скептика
Да ты уже полумертвец.
Душа твоя давным-давно устала.
Она предвидит твой конец,
Не ведая, чего весь век искала.
Да ты уже полумертвец.
Вся жизнь твоя была полна кручины.
Чего ж искал ты в ней, глупец?
Искал причину, тень искал причины!
62. Се человек
Что меня родило? Пламя!
Ненасытная, веками
Ум и душу жгла тоска.
Свет – вот все, что расточаю!
Прах – вот все, что оставляю!
Пламя я! Наверняка!
63. Звездная мораль
Твой путь, звезда, от нас далек —
От нашей тьмы и тьмы тревог.
И время наше – что тебе
До времени в его борьбе?
Твой свет ласкает высота.
Тебе не жаль нас – ты свята.
Завет единый: будь чиста!
Книга первая
1
Учительствующие о цели бытия. Когда бы я ни обращал свой взор к людям – независимо от того, смотрю ли я на них по-доброму или с неприязнью, – я неизменно застаю их за одним и тем же занятием, они занимаются им все вместе и каждый в отдельности: все их усилия направлены на то, чтобы сохранить род человеческий. И делают они это отнюдь не из чувства любви, ими движет скорее инстинкт – тот самый древний, мощный, неумолимый, неодолимый инстинкт, который составляет сущность нашего биологического вида, нашего стада, именуемого человечеством. Обыкновенно мы со свойственной человеку недальновидностью не задумываясь разделяем ближних своих на полезных и бесполезных, добрых и злых, но если вдумчиво проанализировать все в целом, то начинаешь сомневаться, целесообразно ли подобное разделение и не лучше ли оставить все как есть, ведь и самый бесполезный человек может оказаться как раз самым полезным с точки зрения сохранения вида – ибо он сохраняет в себе или пробуждает в других те инстинкты, без которых человечество уже давно бы захирело и сгнило. Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и все прочее, что мы считаем злым, – все это удивительным образом и составляет основу той экономии, которая обеспечивает сохранение вида, и какой бы неразумной, расточительной и, в сущности, нелепой ни была эта экономия, несомненно, что именно она поддерживала и сохраняла до сих пор наш род человеческий. И я не знаю теперь, в состоянии ли ты, любезный мой собрат, мой ближний, жить не во благо своего рода, то есть быть «неразумным» и «плохим»; ведь то, что могло бы причинить вред всему виду, уже давным-давно вымерло и вряд ли вернется, даже будь на то воля Божья. Следуй своим страстным желаниям – будь они самые хорошие или самые плохие, а главное: погибни! И в том, и в другом случае ты, наверное, так или иначе все еще действуешь во благо и на пользу человечеству и потому вполне можешь рассчитывать впредь на то, что тебя будут превозносить до небес – и насмехаться над тобой. Но ты никогда не найдешь того, кто сумел бы высмеять твои лучшие побуждения, присущие только тебе как отдельной особи, высмеять так, чтобы от них не осталось камня на камне; не найдешь того, кто сумел бы в строгом соответствии с истиной показать тебе твое убожество, убожество мухи или лягушки, затронув самое сокровенное в твоем сердце! Посмеяться над самим собой – как смеются лишь те, кто обладает истинным знанием, – на это не способны лучшие из лучших и одареннейшие из одаренных, ибо у первых нет этого знания, а вторым не хватает гениальности! Возможно, и у смеха есть свое будущее! Это случится тогда, когда человечество прочно усвоит лозунг: «Вид – это все, индивидуум – ничто», и всякий в любой момент сможет подойти к этому последнему освобождению и скинуть с себя бремя ответственности. И может быть, тогда смех соединится с мудростью и тогда останется только «веселая наука». Но пока еще все по-другому, пока еще комедия бытия «не осознала» самое себя – пока еще царит время трагедии, время разной морали и разных религий. Появляются все новые основоположники разных систем морали, разных религий, появляются те, кто ведет борьбу за нравственные ценности, появляются учителя, что пробуждают в нас угрызения совести и толкают к религиозным войнам, – что значит все это? Что значат все эти герои на этой сцене? Ведь они были не более чем герои этой сцены, и все остальное – то единственное, что доступно восприятию и у всех на виду, – всего лишь подспорье для них – механизмы, приводящие в движение сцену, кулисы, за которыми можно укрыться, второстепенные персонажи – какие-нибудь наперсники или камердинеры (поэты, к примеру, всегда были камердинерами какой-нибудь морали). Само собой разумеется, и эти трагики трудятся в интересах вида, хотя и думают, что делают это в интересах Бога и как посланцы Божьи. И они содействуют жизни рода человеческого, ибо укрепляют веру в жизнь. «Жизнь стоит того, чтобы жить! – провозглашают они. – Есть что-то в этой жизни, что-то скрывается за ней, под ней, берегитесь!» Тот самый инстинкт, который равно властвует в человеке высшего порядка и в человеке низком, – инстинкт сохранения рода прорывается порой в виде разума или страсти духа; он предстает тогда в сопровождении блестящей свиты всевозможных аргументов и силою стремится предать забвению то, что он, в сущности, всего-навсего инстинкт, внутренний позыв, лишенный разума и не поддающийся какому бы то ни было обоснованию. Жизнь должно любить, ибо!.. Человек должен заботиться о себе сам и помогать ближнему, ибо!.. И сколько еще таких разных «нужно» и «должно», сколько разных «ибо» и сколько их будет в будущем! И для того чтобы все то, что неизбежно и всегда происходило само по себе, без всякой определенной цели, обрело некую видимость целесообразности и предстало перед человеком как проявление разума, как последняя заповедь, – появляется учитель, знаток этики, обосновывающий «цель бытия»; для этого он измышляет второе бытие, отличное от нашего старого, и это старое бытие он переворачивает с ног на голову при помощи своих новых уловок и ухищрений. О да! Он вовсе не хочет, чтобы мы смеялись над бытием или – еще хуже – над собой – или над ним! Для него индивидуум всегда остается индивидуумом, началом и концом всего, чем-то необъятным и огромным, для него не существует ни вида, ни совокупности единиц, ни нулей. И все же, как бы глупы и беспочвенны ни были его измышления и оценки, сколь глубоко бы он ни ошибался в истолковании хода вещей и связей природы – ведь этические учения испокон веков были до такой степени глупы и противоестественны, что человечество погибло бы! – и тем не менее всякий раз, когда «герой» выходил на сцену, рождалось нечто новое, жуткое, то, что прямо противоположно смеху, то глубочайшее потрясение, которое испытывал каждый индивидуум в отдельности при мысли: «Да, жизнь – стоит того, чтобы жить!» и «Я, пожалуй, стою того, чтобы жить!» – жизнь, и я, и ты, и мы все вместе стали вдруг на некоторое время интересными для нас самих. Но совершенно очевидно, что, в сущности, именно смех, разум и природа властвовали над всеми великими учителями, определяющими цель бытия: короткая трагедия в конце концов всегда переходила в вечную комедию бытия, и даже величайшему из этих трагических героев не дано устоять перед «шквалом нескончаемого смеха», говоря словами Эсхила. И все же, несмотря на смех, способный как-то поправить положение, это постоянное явление учителей, определяющих цель бытия, в целом изменило природу человека – у него родилась еще одна потребность, а именно: потребность в явлении таких учителей и учений о «цели». Человек постепенно превратился в некое фантастическое животное, которому, в отличие от всех прочих животных, необходимо еще одно непременное условие существования: он должен время от времени твердо верить в то, что знает, для чего существует, его род не может развиваться и процветать, не испытывая такого периодического доверия к жизни! Не может обойтись без веры в разумное устройство жизни! И неизменно род человеческий будет возвращаться к утверждению: «Есть нечто, над чем не должно смеяться никогда!» А самый осторожный из всех осторожных друзей человечества добавит: не только смех и веселая мудрость, но и трагическое с его возвышенной неразумностью относится к средствам и необходимым условиям, которые направлены на сохранение рода! А следовательно! Следовательно! Следовательно! Понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон приливов и отливов? Настанет и наш черед!
2
Интеллектуальная совесть. Я сделал одно наблюдение, в истинности которого я убеждаюсь снова и снова, как бы я ни противился этому, – я просто не желаю этому верить, – хотя это столь очевидно, что становится чуть ли не осязаемым: у большинства людей отсутствует интеллектуальная совесть. Нередко мне казалось, что всякий, кто жаждет найти ее, просто бродит по многолюдному огромному городу в полном одиночестве, будто вокруг простирается пустыня. Всяк смотрит на тебя отчужденно и продолжает заниматься своими весами, при помощи которых он определяет, что хорошо, что плохо; и не зальется краской стыда тот, кому ты укажешь – ваши весы неисправны, и никто не возмутится: быть может, над тобой только посмеются. Я хочу сказать: для большинства нет ничего унизительного в том, чтобы просто верить во что-нибудь и жить сообразно этому, не задумываясь особо об исходных причинах, не взвешивая все за и против, не утруждая себя поиском каких бы то ни было аргументов, – и даже самые одаренные мужчины и самые благородные женщины относятся к этому «большинству». Что дает добросердечие, изысканность, гениальность, коли человек, наделенный этими добродетелями, смиряется с тем, что все чувства его притуплены, и в этой душевной дряхлости растворяются и вера, и разум его, если стремление к истине не становится внутренней, глубочайшей потребностью, насущной необходимостью – тем, что как раз и отличает человека высшего порядка от человека низкого! Нередко мне случалось видеть, как набожные, благочестивые люди ненавидят разум, и я радовался, видя эти проблески злой интеллектуальной совести! Но находиться среди этой rerum concordia discors[4 - Сочетание противоречивых вещей (лат.).], всего этого чудесного неведения и многозначности бытия и не вопрошать, не трепетать от нестерпимого желания засыпать все и вся вопросами, даже не испытывать ненависть к тому, кто спрашивает, и, чего доброго, еще и слегка подтрунивать над ним – вот это мне кажется поистине унизительным и достойным презрения, и я пытаюсь найти хоть в ком-нибудь сходное чувство – и, быть может, это сумасбродная затея, но я убежден – что-то подсказывает мне, – в каждом человеке живет подобное чувство, если он человек. Быть может, я несправедлив, но таково мое твердое убеждение!
3
Благородство и низость. Всякое проявление высоких, благородных чувств кажется натурам низким чем-то нецелесообразным и оттого странным и диким: случится им услышать о таком – они хитро подмигивают, будто хотят сказать: «Наверное, здесь есть какая-нибудь выгода, кто его разберет»; с подозрением, недоверчиво глядят они на человека благородного, будто тот скрывает что-то, будто ищет выгоду свою где-то по темным углам. Убедившись, однако, что нет здесь никакого корыстного умысла и скрытой выгоды, они потешаются над благородством, считая все это глупостью и придурью: они презирают человека благородного, видя, как он радуется, как блестят его глаза: «Как же можно радоваться тому, что оказался в убытке, как можно самому себе желать дурного?! Наверное, это такая особая болезнь разума, которая проявляется в подобных приступах благородства!» – полагают они и при этом снисходительно посматривают на этих безумцев: носятся все время со своими маниакальными идеями, да еще и радуются им – разве можно на них смотреть иначе? Натуры низкие отличаются тем, что никогда не упускают своей выгоды, именно выгода составляет суть всех их помыслов и чаяний, которые в них сильнее самых сильных инстинктов: главная их задача – не поддаться силе этих инстинктов и уберечься от безрассудств, – вот вся их мудрость, вот что лежит в основе их чувства собственного достоинства. По сравнению с ними натуры благородные менее разумны: ведь человек благородный, великодушный, готовый к самопожертвованию, в действительности подчиняется лишь своим инстинктам, и в те лучшие мгновения жизни его разум умолкает. Зверь, защищающий свое потомство с риском для жизни, или, например, зверь, неотрывно следующий в период течки за своей самкой, не покидающий ее даже в минуту смертельной опасности, не думает ни об опасности, ни о смерти, его разум также умолкает, ибо он весь во власти своего инстинкта сохранения рода, им движет влечение к самке и страх лишиться этого удовольствия; он как будто становится глупее, чем обычно, и то же происходит с людьми благородными и великодушными. Они руководствуются лишь чувством, в основе которого – желание или нежелание, и сила этих чувств такова, что интеллект умолкает или полностью подчиняется им: его сердце в таком случае как бы заменяет разум, и это принято называть «страстью». (Правда, иногда встречается и полная противоположность «страсти», так сказать «страсть наизнанку», – вспомним, к примеру, Фонтенеля, которому когда-то кто-то сказал, положив ему руку на сердце: «Вы думаете, у вас здесь сердце, любезный друг? Нет, ошибаетесь – это мозг».) Именно это безрассудство или, точнее, сумасбродство страсти и презирает человек низкий в человеке благородном. Особенно в тех случаях, когда чувства эти направлены на объекты, ценность которых представляется ему совершенно мифической и весьма условной. Его раздражают те, кем движет лишь одна страсть – набить себе брюхо, хотя он вполне понимает всю деспотическую прелесть этой страсти; но он не понимает зато, как можно во имя страсти к познанию поставить на карту свое здоровье и свою честь. Вкус человека возвышенного ориентируется на исключения, на вещи, которые оставляют обыкновенно равнодушными, ибо кажутся какими-то пресными, без изюминки; его критерий ценности весьма своеобычен. Но он-то, как правило, твердо верует в то, что избирательность его вкуса никак не связана с неординарностью его критерия ценности; и более того – пытается свои собственные представления о том, что ценно, а что нет, выставить как общеизвестные и оттого уже и вовсе теряет всякое понимание действительности и связь с практической реальностью. Крайне редко у человека благородного хватает разума на то, чтобы просто понять, что перед ним самый обыкновенный обыватель, и найти с ним общий язык; чаще всего он уверен, что страсть, которая присуща ему лично, в скрытом виде присутствует во всяком и каждом, он твердо верит в это и изо всех сил старается убедить в этом других. Если даже такие исключительные люди не чувствуют своей собственной исключительности, то где уж им понять человека заурядного и по справедливости оценить какое бы то ни было правило! И вот они принимаются рассуждать о глупости, неразумности и нелепости человечества, изумляясь, отчего это мир погряз в безумствах и почему не хочет осознать и открыто заявить о том, что «ему нужно». Вот она вечная неблагодарность благородных.
4
Забота о сохранении вида. Своим развитием человечество обязано прежде всего умам сильным и злым: именно они, самые сильные и самые злые, всегда пробуждали дремлющие страсти – ведь всякий порядок в обществе действует на страсть усыпляюще, – они вызывают к жизни дух сомнения и противоречия, пробуждают жажду чего-то нового, неведомого, неизведанного, они принуждают людей сталкивать разные мнения, разные представления об абсолютных ценностях. Достигается это разными средствами: в основном оружием, нарушением границ, дерзостным оскорблением признанных авторитетов – но и новыми религиями и новой моралью! Каждому учителю, каждому проповеднику нового присуща та же самая «злость», которая любому завоевателю принесла бы дурную славу, но здесь эта «злость» находит такие неприметные формы выражения, что внешне она ничем себя не проявляет – ни один мускул не дрогнет, – и потому дурная слава тут не страшна. Ведь добрыми во все века считаются именно те люди, которые старые мысли закапывают как можно глубже и ждут появления плодов, они – пахари духа. Но придет время, и эту землю начнут осваивать, и тогда не спастись ей уже от острого лемеха зла. Ныне существует совершенно ошибочное учение о морали, которое особо приветствуется в Англии. Согласно этому учению, оценки «хорошо» – «плохо» по существу представляют собой лишь отражение накопленного опыта, оперирующего понятиями «целесообразно» – «нецелесообразно»; по этому же учению хорошо лишь то, что направлено на сохранение рода, плохо – то, что причиняет вред роду. В действительности же дурные инстинкты столь же целесообразны, столь же полезны для сохранения вида, что и хорошие: разница лишь в функциях.
5
Непреложные обязанности. Все люди, которые не могут обойтись без речей, составленных из самых сильных слов и выражений, к тому же подкрепленных самыми убедительными жестами, все эти революционеры, политики, проповедники во Христе и без него, призывающие к покаянию, которые хотят добиться своего, не останавливаясь на полпути, – все они говорят об «обязанностях», причем о таких обязанностях, которые требуют неукоснительного исполнения, то есть о некоем высоком долге, ведь иначе весь их пафос был бы ничем не оправдан: и это они твердо знают! Именно поэтому они ищут спасения в разных философиях морали, которые проповедуют очередной категорический императив, или, нимало не смущаясь, возьмут за основу ту или иную религию и строят на ней свои рассуждения, как это сделал, к примеру, Мадзини. И оттого что они страстно желают, чтобы им непременно доверяли, им прежде всего необходимо доверие к самим себе, вот они и обретают его, найдя ту последнюю, неоспоримую, возвышающую душу заповедь, которой они ревностно служат, подчиняя ей все свои действия и помыслы. В данном случае мы имеем дело с самыми ярыми противниками морального просвещения и скепсиса, пользующимися, как правило, весьма сильным влиянием, однако встречаются они достаточно редко. Более многочислен этот класс противников там, где корысть проповедует идея подчинения, тогда как представление о чести и достоинстве как будто бы эту идею исключают. Тому, кто чувствует себя униженным при мысли о том, что он всего-навсего орудие в руках монарха или какой-нибудь партии, секты или денежных тузов, будучи, например, потомком древнего благородного рода, и вместе с тем изо всех сил стремится стать именно таким орудием или вынужден им стать перед самим собой и в глазах общественности, – тому жизненно необходимы патетические принципы, которыми он может в любой момент прикрыться: принципы долженствования с оттенком неукоснительного исполнения – им можно подчиняться без тени смущения, не стесняясь демонстрировать свою готовность подчиниться. Они предпочитают более утонченные формы раболепства, твердо придерживаются категорического императива и объявляют смертельную войну всякому, кто посягнул на понятие долга, всякому, кто пытается лишить «обязанность» ее высокого смысла, заключенного в том самом оттенке «неукоснительного исполнения»: этого требуют от них приличия, и не только приличия.
6
Потеря достоинства. Умение размышлять уже давно перестало считаться достоинством; вся та неторопливость и некоторая церемонность, которые свойственны человеку, погруженному в размышления, все его торжественные жесты сделались ныне предметом насмешек, и вряд ли найдется кто-нибудь, кто способен вынести такого мудреца старого фасона. Мы думаем слишком уж торопливо, походя, везде – идем ли мы по улице, занимаемся ли делами, даже когда мы обдумываем весьма серьезные проблемы, мы все же делаем это как-то поспешно; мы не слишком уж готовимся к решению этих проблем, нам даже не нужна тишина – порою кажется, будто в нашей голове мы носим некий механизм, который работает, не останавливаясь ни на секунду, работает даже в самых неблагоприятных условиях. В прежние времена, посмотрев на человека, всегда можно было определить тот момент, когда он решил задуматься (такое случалось редко и было скорее исключением!). По нему было видно, что вот сейчас он захотел стать чуточку мудрее и потому сосредоточился на какой-то одной мысли: для этого он придавал своему лицу такое выражение, какое бывает во время молитвы, и замедлял шаг; подумать только, человек, к которому «пришла мысль» – на одной или двух ногах, – мог часами стоять на улице, не сходя с места. Вот с каким почтением относились раньше к этому «занятию»!
7
Несколько слов трудолюбивым. Перед тем, кто намерен посвятить себя изучению морали, открывается необозримое поле деятельности. Необходимо проанализировать все виды страстей и увлечений, все по отдельности, в разное время, у разных народов, большие и малые, выявить меру их разумности, систему оценок и отношение к вещам – все это нужно вытащить на свет Божий! Ведь до сих пор все то, что придавало бытию цвет и краски, не имело своей истории: ибо где история любви, алчности, зависти, совести, пиетета, жестокости? Так же как не написана до сих пор сравнительная история права или хотя бы только наказания. Исследовал ли хоть кто-нибудь то, как членится день, каковы последствия регулярного чередования работы, отдыха и праздников? Изучено ли влияние на мораль продуктов питания? Существует ли философия питания? (То, что до сих пор не утихают споры о достоинствах и недостатках вегетарианства, свидетельствует лишь о том, что такой философии еще нет!) Обобщен ли опыт совместной жизни разных людей, что могло бы быть сделано, к примеру, на материале монастырской жизни? Кто разработал диалектику супружества и дружбы? А нравы и обычаи ученых, торговцев, художников, артистов, ремесленников – разве они нашли уже своего исследователя? Здесь есть о чем подумать! Все то, что до сих пор считалось «условиями существования», и все, что есть в этом мнении разумного, эмоционального, предвзятого, – разве все это уже изучено в полной мере? Только наблюдения за теми изменениями, которые затрагивали человеческие инстинкты и внутренние порывы в зависимости от различного морального климата, а также анализ гипотетически возможных изменений в этой области дадут неисчерпаемый материал человеку трудолюбивому; понадобятся целые поколения ученых, работающих в тесном взаимодействии, методично и планомерно, чтобы разработать все возможные версии и исчерпать весь материал. То же самое относится к попыткам установить причины отличий того или иного морального климата («Отчего здесь светит одно солнце – один критерий моральной оценки, одна мера вещей, – а там другой?») – и здесь снова открывается новое поле деятельности: определить ошибочность всех этих аргументов и вскрыть сущность критерия моральной оценки, действующего до сих пор. Предположим, все это будет сделано, но тогда возникает еще один вопрос – самый щекотливый из всех, – а в состоянии ли наука дать целеустановку действию, после того как она докажет, что может не только выявить ее, но и уничтожить, и тогда настанет час экспериментирования, которое принесет удовлетворение всякому проявлению героизма, эксперимент длиною в тысячелетия, эксперимент, который смог бы затмить все великие свершения, все жертвы нынешней истории. До сих пор еще наука не сумела возвести такие циклоповы сооружения, но и этому еще придет свой черед!
8
Неосознанные добродетели. Все свойства человека, которые известны ему самому, то есть те, которые в равной мере, как он предполагает, явственны и очевидны его окружению, – развиваются совершенно иначе, чем те его свойства, которые ему неизвестны или малоизвестны; эти свойства настолько сложны и трудноуловимы, что ускользают даже от взгляда внимательного наблюдателя, они так умело скрываются, что кажется, будто их просто нет. Это напоминает тончайшие узоры на коже рептилий: было бы ошибкой считать, что они служат просто для украшения или призваны выполнять отпугивающую функцию. Ведь они видны только под микроскопом, то есть при помощи искусственных средств, как бы обостряющих до предела зрение, – но таким острым зрением, однако, не обладают те животные, которых эти узоры призваны привлекать или отпугивать! Наши очевидные моральные качества, то есть те, которые мы считаем явными, развиваются по своему пути – а скрытые качества, имеющие, впрочем, те же самые названия, те качества, которые служат отнюдь не для украшения или устрашения, если мы их сопоставим с прочими свойствами человека, они тоже развиваются по-своему, и путь этот будет совершенно иным, и будут тут свои линии, и фигуры, и узоры, которые вполне могли бы усладить взор какого-нибудь бога, созерцающего их в свой божественный микроскоп. У нас есть, к примеру, трудолюбие, тщеславие, проницательность: это известно всему свету, – но, вероятно, мы все имеем еще и другое трудолюбие – свое собственное, и свое тщеславие, и свою проницательность: но для этих наших змеиных узоров еще не изобретен тот микроскоп! Вот здесь, наверное, друзья инстинктивной морали радостно воскликнут: «Браво! Браво! По крайней мере, он допускает существование неосознанных добродетелей! Вот и хорошо, нам этого вполне достаточно!» Как мало же вам надо!
9
Наши извержения. Бесчисленное множество свойств, каковые человечество обрело еще на ранней ступени своего развития, – правда, это были лишь некие зачатки этих свойств, и проявлялись они настолько слабо, что едва ли кто-нибудь мог подозревать об их существовании, – теперь, много лет спустя, быть может даже много веков спустя, начинают постепенно пробиваться к свету: они уже окрепли и созрели. Есть эпохи, которым явно недостает того или иного таланта, той или иной добродетели, как недостает их и некоторым людям: но надо только дождаться появления внуков и правнуков, если только есть время ждать, – они-то и выявят то, что было скрыто в их дедушках, ту внутреннюю сущность, о которой дедушки сами ничего не знали. Нередко уже сын предает своего отца: он понимает себя самого лучше, с тех пор как у него появился свой сын. Мы все носим в себе сокрытые сады и растения, и мы все, если употребить здесь другое сравнение, подобны дремлющим вулканам, для которых еще настанет час своего извержения. Но когда это произойдет – скоро ли или нет, – этого никто не знает, даже сам «Господь Бог».
10
Об одном виде атавизма. Глядя на самобытных людей самых разных времен, я склоняюсь к тому, что они – пришедшие к нам нежданно-негаданно потомки прошлых культур, несущие в себе энергию тех культур, то есть своеобразный атавизм определенного народа и его цивилизации, – только так их еще хоть как-то можно понять! Ныне такие люди кажутся чужими, непонятными, необычными; но тот, кто чувствует в себе энергию прошлой культуры, тот будет оберегать ее от враждебного, чужого мира, защищать, лелеять и холить, и тогда он станет либо великим человеком, либо безумцем и чудаком, если только до этого он не погибнет. Некогда эти редкие качества не были чем-то исключительным и потому считались весьма обычными: обладающий ими человек ничем не выделялся. Быть может, такие свойства воспитывались в каждом, они были обязательными для всех, и потому наличие данных свойств не создавало предпосылок к возвеличиванию отдельного человека и можно было не бояться того, что они приведут к безумию или одиночеству. Лишь те родовые гнезда и касты отдельного народа сохраняют себя от поколения к поколению, в которых еще проявляются отзвуки этих древних свойств; в тех же случаях, когда расы, привычки, оценки меняются слишком быстро, вероятность появления такого атавизма весьма незначительна. Ибо для сил, лежащих в основе развития отдельных народов, темп столь же значим, как и для музыки; в нашем случае нам необходим темп «анданте» – это темп страстного и неторопливого духа: а ведь именно таков дух консервативных поколений.
11
Сознание. Способность осознавать себя появилась лишь на последней стадии развития органического мира; по времени возникновения она самая поздняя и оттого самая несовершенная и слабая. Именно эта способность является причиной иных ошибок и промахов, которые приводят к тому, что животные и люди гибнут раньше отмеренного срока вопреки судьбе, как говорил Гомер. Но велика мощь инстинктов, объединившихся в единый охранительный союз, который выполняет роль своеобразного регулятора; не будь его, все эти перевернутые представления, наивное фантазирование, легкомысленность и доверчивость, то есть в конечном счете именно само сознание, – все это привело бы человечество к погибели, вернее – без этого союза инстинктов уже давно бы не было никакого человечества! Пока в организме идет формирование и созревание той или иной функции, она представляет для него большую опасность: хорошо, если найдутся силы, способные все это время держать ее в крепкой узде. Так сковывается и всякая свобода самого сознания – не без содействия безмерной гордости, которая как раз самосознание и сделала предметом своей страсти! Ведь люди думают: вот ядро
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: