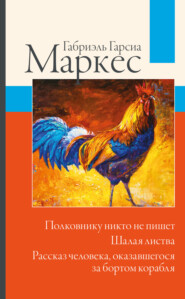По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двенадцать рассказов-странников (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И снова замолчал, а Ласара продолжала безжалостно сверлить его своими ужасными глазами цвета золота. Особое внимание ювелир уделил бриллиантовой диадеме и положил ее отдельно от других вещей. Ласара вздохнула.
– Вы – ярко выраженная Дева, – сказала она.
– Откуда вы взяли?
– Из вашего поведения, – сказала Ласара.
Больше он не сказал ни слова до конца осмотра, а затем обратился к ней с той же церемонной сдержанностью, что и вначале:
– Откуда все это?
– Наследство от бабушки, – сказала Ласара, и голос ее напрягся. – Она умерла в прошлом году в Парамарибо, ей было девяносто шесть лет.
И тогда ювелир посмотрел ей в глаза.
– Очень сожалею, – сказал он. – Но единственная ценность этих вещей – цена золота, по весу.
Он взял диадему кончиками пальцев, и она засверкала в ослепительном свете.
– Кроме этой, – сказал он. – Это вещь старинная, может, даже египетская, и оказалась бы бесценной, не будь бриллианты в плохом состоянии. Но все равно она имеет историческую ценность. А вот камни на других украшениях – аметисты, изумруды, рубины, опалы – все без исключения фальшивые. Без сомнения, вначале тут были настоящие камни. – Ювелир собирал украшения, чтобы вернуть их Ласаре. – Но вещи столько раз переходили от поколения к поколению, что настоящие камни остались где-то по дороге, а их место заняли стекляшки.
Ласара почувствовала зеленую дурноту, глубоко вздохнула и подавила страх. Продавец утешил ее:
– Такое часто случается, сеньора.
– Я знаю, – сказала Ласара, успокоившись. – Поэтому и хочу от них отделаться.
Тут она почувствовала, что игра окончена, и снова стала сама собой. Без лишних церемоний она достала из сумки запонки, карманные часы, заколки для галстука, ордена, золотые и серебряный, всю эту президентскую мишуру, и выложила на стол.
– И это – тоже? – спросил ювелир.
– Да, все, – сказала Ласара.
Швейцарские франки, которыми с ней расплатились, были такими новенькими, что она испугалась – не перепачкает ли пальцы свежей краской. Она взяла деньги, не пересчитывая, и ювелир в дверях попрощался с ней столь же церемонно, как и поздоровался. Открыв перед ней стеклянную дверь и пропуская ее вперед, он помедлил немного.
– И последнее, сеньора, – сказал он. – Я – Водолей.
В тот вечер Омеро с Ласарой отнесли деньги в гостиницу. После новых подсчетов оказалось, что не хватает еще немного. И президент снял с себя и положил на постель обручальное кольцо, карманные часы с цепочкой, запонки и заколку для галстука.
Обручальное кольцо Ласара отдала ему об ратно.
– Только не это, – сказала она. – Память не продается.
Президент принял ее довод и надел кольцо на палец. Ласара отдала ему обратно и карманные часы. «Это – тоже», – сказала она. Тут президент не был с ней согласен, однако она водрузила часы на место.
– Кто же продает часы в Швейцарии?
– Мы уже продали одни, – сказал президент.
– Но их купили не из-за часов, а из-за золота.
– Эти тоже золотые, – сказал президент.
– Да, – сказала Ласара. – Но вы можете обойтись без операции, а без времени вам не обойтись.
Не взяла она и золотую оправу для очков, хотя у него была другая, черепаховая. Ласара взвесила на ладони вещи и положила конец сомнениям.
– Все, – сказала она. – Этого достаточно.
И, прежде чем выйти, сняла с проволоки мокрое белье, ни слова не говоря, и забрала с собой, чтобы высушить и выгладить дома. Они уехали на мотоцикле, Омеро – за рулем, Ласара – на багажнике, сзади, обняв его за талию. В багряном вечернем небе загорались уличные фонари. Ветер сорвал последние листья, и деревья казались древними бесперыми ископаемыми. С буксира, шедшего вниз по Роне, вовсю гремело радио, орошая прибрежные улицы струей музыки. Жорж Брассен пел: «Mon amour tient la barre, le temps va passer par l?, et le temps est un barbare dans le genre d’Attila, par l? o? son ch?vre passe l’amour ne repousse pas»[4 - Мы любовь с дорогой сравним, и проходит время по ней, время – варвар, идет на Рим гунн Аттила с ордою своей. Под копыта его коня ты, любовь, бросаешь меня.]. Омеро и Ласара ехали молча, опьяненные песней и неувядающим запахом гиацинтов. Спустя какое-то время она словно очнулась от долгого сна.
– Черт, – сказала она.
– Ты о чем?
– Несчастный старик, – сказала она. – Какое дерьмо эта жизнь!
* * *
В следующую пятницу, седьмого октября, президента оперировали, и после операции, длившейся пять часов, положение вещей оставалось столь же туманным, как и до нее. По сути дела, единственное утешение состояло в том, что он был жив. Через десять дней президента перевели в общую палату, где его можно было навещать. Это был другой человек: растерянный, исхудавший, поредевшие волосы выпадали от одного прикосновения к подушке. От его внешнего великолепия осталась лишь мягкая пластичность рук. Когда он в первый раз попытался пойти с помощью двух специальных ортопедических палок, можно было умереть от жалости, глядя на него. Ласара осталась ночевать в палате, чтобы не тратиться на ночную сиделку. Всю первую ночь один из больных кричал – от страха перед смертью. Те нескончаемые ночные бдения вымели из сердца Ласары последние остатки зла, которое она на него держала.
Когда его выписывали из больницы, как раз исполнялось четыре месяца его пребывания в Женеве. Омеро, рачительный распорядитель его скудных средств, оплатил больничные счета, в своей карете «скорой помощи» отвез его к себе домой и вместе с другими служащими, помогавшими ему, поднял на восьмой этаж. Они поместили его в комнате, где спали дети, и президент понемногу стал возвращаться к жизни. Он делал восстановительные упражнения с военной неукоснительностью и опять стал ходить с одной своей тростью. Но теперь, даже в своей одежде, он был совсем не тот, прежний, – и внешним видом, и поведением. Боясь наступления зимы – а зиму обещали суровую, и в тот год она на самом деле оказалась самой суровой за последние сто лет, – он вопреки мнению врачей, намеревавшихся наблюдать его еще некоторое время, решил вернуться домой на судне, уходившем из Марселя тринадцатого декабря. В последний момент оказалось, что денег на дорогу не хватает, и Ласара хотела потихоньку от мужа добавить из тех, что они копили для детей, но обнаружила, что там осталось меньше, чем она думала. И тогда Омеро признался, что потихоньку от нее уже брал оттуда – когда недоставало на оплату больничных счетов.
– Ну ладно, – смирилась Ласара. – Будем считать: он – наш старший сын.
Одиннадцатого декабря, метельным снежным днем, они посадили его в поезд на Марсель, и только возвратившись домой, нашли на тумбочке в детской его прощальное письмо. Там же он оставил и свое обручальное кольцо для Барбары, кольцо покойной жены, которое никогда не пытался продать, и часы с цепочкой – для Ласары. Отъезд президента пришелся на воскресенье, и некоторые соседи-земляки из карибских краев, давно раскрывшие секрет, вместе с музыкантами из Веракруса, игравшими на арфах, пришли на вокзал в Корнавэн. Президент, в потрепанном пальто и длинном цветастом шарфе, прежде принадлежавшем Ласаре, едва дышал, но все же остался в открытом тамбуре последнего вагона и махал провожающим шляпой под ударами снежного ветра. Поезд уже начал набирать скорость, когда Омеро вдруг увидел, что у него в руках осталась трость президента. Он добежал до самого края платформы и швырнул трость достаточно сильно, чтобы президент смог поймать ее, но трость упала меж колес и разлетелась на куски. Это был ужасный миг. Последнее, что увидела Ласара, – дрожащая рука, пытающаяся схватить палку, но так и не ухватившая ее, и проводник, поймавший уже в воздухе за шарф и спасший старика, с ног до головы залепленного снегом. Ласара в ужасе бросилась к мужу, пытаясь засмеяться сквозь слезы.
– Господи Боже, – закричала она. – Да его же никакая смерть не возьмет.
Он прибыл на место живым и здоровым, как сам сообщил им в длинной благодарственной телеграмме. Потом больше года они ничего о нем не слышали. А затем пришло письмо на шести страницах от руки, и в этом письме нельзя было его узнать. Боль снова вернулась, такая же сильная и неотступная, как и раньше, но он решил не обращать на нее внимания и жить как живется. Поэт Эме Сезер подарил ему трость с перламутровой инкрустацией, но он решил не пользоваться ею. Вот уже шесть месяцев как он регулярно ест мясо и всевозможных моллюсков и способен в день выпить двадцать чашек самого горького кофе. А вот кофейную гущу на донышке больше не разглядывает, потому что все ее пророчества вышли наоборот. В день, когда ему исполнилось семьдесят пять, он выпил несколько рюмок превосходного мартиникского рома, и чувствовал себя после них замечательно, и снова стал курить. Разумеется, ему не стало лучше, но и хуже – тоже не стало. Однако истинным поводом для письма было намерение сообщить им, что он предпринимает усилия вернуться на родину и встать во главе обновленного движения во имя справедливого дела и достоинства родины, хотя может быть, всего лишь ради тщеславного желания не умереть в собственной постели от старости. И в этом смысле, заканчивал он письмо, поездка в Женеву стала для него судьбоносной.
Святая
Снова я увидел Маргарито Дуарте через двадцать два года. Он появился неожиданно на одной из таинственных улочек квартала Трастевере, и я с трудом узнал его: он утратил легкость в испанской речи и приобрел манеры древнего римлянина. Волосы его побелели и поредели, и не осталось следа от его мрачного вида и траурных одежд андского литератора, в которых он некогда прибыл в Рим, но постепенно, разговаривая с ним, я извлекал его из-под наслоений вероломных лет и вновь увидел таким, каким он был: замкнутым, непредсказуемым и упорным, как каменотес. Перед второй чашкой кофе в одном из баров, куда мы хаживали еще в прежние времена, я решился задать ему вопрос, разъедавший мне нутро:
– А что стало со святой?
– Здесь она, святая, – ответил он. – Все еще ждет.
Только тенор Рафаэль Риберо Сильва и я могли понять, какое страшное человеческое напряжение заключалось в его словах. Мы так хорошо знали его драму, что долгие годы считали: Маргарито Дуарте – персонаж в поисках автора, персонаж, которого мы, писатели, ждем всю жизнь, и если я не дал ему найти меня, то лишь потому, что финал его истории представлялся мне невообразимым.
Он прибыл в Рим той сияющей весной, когда на Папу Пия XII напала икота, и никакое – ни белое, ни черное – искусство врачей и знахарей не могло Папе помочь. Он первый раз выехал из своего прилепившегося к скалам селения Толима в колумбийских Андах, и это было сразу заметно, даже по его манере спать. В одно прекрасное утро он появился в нашем консульстве с полированным сосновым чемоданом, по форме и размерам походившим на футляр виолончели, и изложил консулу удивительную причину своего приезда. Консул тотчас же позвонил по телефону тенору Рафаэлю Риберо Сильве, своему земляку, чтобы тот снял для Маргарито Дуарте комнату в пансионе, где оба мы жили. Так я с ним и познакомился.
Маргарито Дуарте не одолел даже начальной школы, на зато страсть к беллетристике позволила ему получить более широкое образование благодаря запойному чтению – он читал все, что попадалось, любое печатное слово. В восемнадцать лет, будучи писарем в местном муниципалитете, он женился на очень красивой девушке, которая вскоре умерла родами, произведя на свет дочь. Девочка, еще более красивая, чем мать, умерла от лихорадки в возрасте семи лет. Но собственно история Маргарито Дуарте началась за полгода до его прибытия в Рим, когда стали переносить сельское кладбище, чтобы построить на том месте плотину. Как и все тамошние жители, Маргарито выкопал останки своих близких, чтобы перенести на новое кладбище. Жена стала прахом. А вот лежавшая в соседней могиле дочь по прошествии одиннадцати лет оказалась совершенно не тронутой тлением. До такой степени, что, когда открыли гроб, услышали аромат свежих роз, захороненных вместе с нею. Но самое удивительное: тело было невесомым.
Сотни любопытных, привлеченных слухом о чуде, наводнили селение. Сомнений не оставалось. Нетленность тела была безошибочным признаком святости, и даже сам епископ местной епархии согласился с тем, что такое чудо следует представить на суд Ватикана. Были собраны средства, с тем чтобы Маргарито Дуарте отправился в Рим сражаться за дело, которое было уже не только его личным и даже не узкоместным, но общенародным.
Рассказав нам эту историю в пансионе, расположенном в тихом квартале Париоли, Маргарито Дуарте снял висячий замок и открыл крышку своего удивительного чемодана. Таким образом мы с тенором Риберо Сильвой приобщились к чуду. Она ничуть не походила на сморщенную мумию, которых можно видеть во многих музеях по всему миру, – просто девочка в наряде невесты, которая и после долгого пребывания под землей продолжала спать. Кожа была блестящей и прохладной, открытые глаза – прозрачными, отчего возникало непереносимое ощущение, что они видят нас оттуда, из смерти. Атлас и венок из флердоранжа не устояли – в отличие от кожи – перед суровым временем, но розы, вложенные девочке в руки, оставались живыми. Вес соснового футляра, когда мы вынули из него тело, и в самом деле остался прежним.