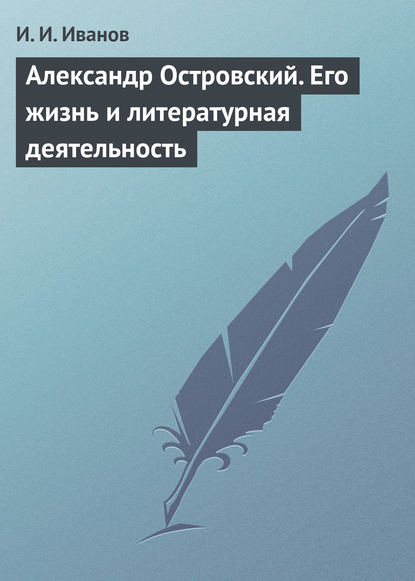По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр Островский. Его жизнь и литературная деятельность
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Можно подумать, что эти бессовестные люди – прирожденные преступники, одержимые каким-то длящимся бешенством. На самом деле – ничего подобного: это вполне мирные обыватели, весьма часто добродушные, даже наивные и склонные к юмору. Как же они могут гордиться возможностью всякого обидеть, в то время как их никто обидеть не может?
Вопрос в высшей степени важный. Он касается самых основ темного царства, его первоисточников. Добролюбов в своих блестящих статьях миновал его, – а между тем только он исчерпывает до дна всю бездну тьмы и жестокости, порождающую ежедневно Большовых, Брусковых, Пузатовых и создающую для них сцену действия.
Драматург сам дает вполне ясный ответ. Брусковы вовсе не герои и не торжествующие животные, как бы сильно они ни вопияли о своем праве обижать и миловать. Они, по существу, жертвы, трагические жертвы несравненно более сильных самодуров. Собственно, их самодурство – не что иное, как дикий крик в свою очередь жестоко оскорбленной, угнетенной человеческой природы.
Один из героев пьесы Комик XVII века – вполне точный двойник самодура XIX столетия – обращается к своей знакомой – такой же почвенной москвичке – с изумительно красноречивой исповедью насчет своих отношений с сыном, рабски ему послушным:
Вот, Татьяна
Макарьевна, родительскому сердцу
Не лестно ли такую зреть покорность
Сыновнюю! Когда тебе взгрустнется
Иль пьян придешь домой, на что утешней
Поклоны их земные! Заставляешь
Поклоны бить и веселишься духом,
Что как-де ты ни мал, ни приобижен
От властных лиц, а детям, домочадцам
В своем дому все тот же государь.
Совершенно такая же логика и у Брускова, и у Дикого. Они принимаются за издевательство над домочадцами, когда сами попадают в безвыходное положение, когда их собственное самолюбие оскорблено. Тогда они становятся подобны Поприщину и, конечно, требуют знаков подданства. Так же поступают и их жертвы: вконец забитая супруга Кита Китыча оказывается матерью-деспоткой и бросает сыну те самые угрозы, которые сама слышит от мужа; и доводы у нее те же: “Яйца курицу не учат”.
Не остается безответным и сын: он также самодур, только в другой роли – в роли кутилы. Он скромен, но уже намерен запить, а “стоит только начать, – говорит он, – то я чувствую, что вся тятенькина натура покажется”.
Несомненно, и обрушится на какого-нибудь “молодца”, а тот в свою очередь допечет Тишку, пока еще мальчишку, а Тишка выместит свою обиду на беззащитном “стрюцком”, высмеет его лохмотья и слезы; со временем он при первой же возможности заявит: кто я? чего моя нога хочет?
Неразрывна круговая порука рабства и произвола. В эту порочную цепь включено разностороннее воспитание всех жителей темного царства. И попробуйте сыскать здесь виноватого!
Например, Андрей Титыч – юноша, несомненно, симпатичный, добрый и даже благородный. Но он уже заражен недугом: он издевается над каким-то бедняком-учителем, ему нравится, как рядские кричат вслед “ученому”: “Ты, окромя свинячьего, на семь языков знаешь”.
Андрея Титыча стыдят, но он, нисколько не смущаясь, отвечает: “Нельзя нашему брату не смеяться, – потому эти стрюцкие такие дела с нами делают, что смеху подобно… другой весь-то грош стоит, а такого из себя барина доказывает, – и не подступайся – засудит; а дал ему целковый или там больше, глядя по делу, да подпоил, так он хоть спирю плясать пойдет”.
И мы это видим воочию. Если не всякий “барин” готов плясать спирю – то уж непременно за целковый или больше, глядя по делу, продаст и совесть, и закон. Кит Китыч в этом вопросе вполне сходится с сыном: “Уж и ваш-то брат нам солон приходится”, – говорит он барину и просит “пожалеть человеческую душу”.
Но жалость барина известная. Приказный Мудров прямо сознается, что у их брата нет “человечества”. К ним даже невиноватый является с таким видом, будто его засудить могут, и готов платить деньги даже за ласковый взгляд. И платит, потому что – говорит московская обывательница – “не бойся суда, а бойся судьи, пуще всего ты его бойся”. Вполне естественно: ведь суд, объясняет приказный Крутицкий, – “торговля, а не суд”, и кто меньше берет, тот даже преступнее, потому что дешевле продает свою совесть. И так на дело смотрят не одни взяточники. Общественное мнение разделяет тот же взгляд. Взятки – только страшное слово: в сущности это – благодарность, “а от благодарности отказываться грех”.
Так рассуждает вдова коллежского асессора, дающая дочерям “благородное воспитание”. Важный чиновник безусловно подтверждает ее взгляд: “Не пойман – не вор”, – так общество смотрит на взяточников, и общество интеллигентное, не замоскворецкое.
Где же после этого Брускову додуматься до высших понятий? Он, разумеется, признал торговлю правосудием законом природы и решительно не верит в честных чиновников. В бескорыстии начальства он видит сугубый подвиг: “Если с него не взять, так он опасается”, – говорит московский философ. Черта – замечательная! Она с особенной силой подчеркнута и Писемским в романе “Тысяча душ”: вся драма Калиновича как общественного деятеля создается именно органическим недоверием народа и общества к его честности и бескорыстной чистоте его намерений. Целыми веками обыватель привыкал только к ябеде [1 - Клевете, напраслине (Словарь В. Даля).] и кривде, – где же ему постигнуть гражданина в мундире чиновника! И он готов предположить все, что угодно, – только не бескорыстие и неподкупность.
ГЛАВА XIX. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА ОСТРОВСКОГО
Ясно, темное и жестокое упорство самодуров неуклонно воспитывается преступным миром “властных лиц”. Но кончается ли и здесь цепь великая? Послушайте интеллигентного и безобиднейшего чиновника, ставшего взяточником. Речь его не требует никаких пояснений: она внушительна и проста, как непосредственная правда жизни.
“У нас, – говорит он, – ведь не из жалованья служат. Самое большое жалованье -15 рублей в месяц. У нас штату нет, по трудам и заслугам получаем; в прошлом году получал я четыре рубля в месяц, а нынче три с полтиной положили… Кабы не дележка – нечем бы и жить”.
Дележка значит взятки, набранные за неделю столоначальником на всю братию…
Конечно, не все взяточники служат вне штата, – но мы из биографии самого Островского знаем, чего стоили штаты. Извольте после этого бросить камнем в Кисельникова, в Жадова или даже в Белогубова! А между тем не следует забывать, что обывателю приходится иметь дело преимущественно с канцелярской мелкотой, чаще всего с Беневоленскими и Васютиными – дельцами “не взыскательными” и всегда готовыми выпить с ними.
Мы видим, как широко, как неограниченно темное царство. И оно упорно защищает свои права на существование. Здесь опять неразрывная связь между дикарями Замоскворечья и героями канцелярских потемок. Юсов – заслуженный чиновник – чувствует органическую и принципиальную вражду к “нынешним образованным”. Он безусловно за изгнанников уездного училища и низших классов семинарии. Они “почтительные” и “подобострастные”, и вдова коллежского асессора одобряет молодого человека за то, что у него “этакое какое-то приятное ласкательство к начальству”.
Таковы вкусы интеллигентного класса, с которым купцы сталкиваются ежедневно. Но и порядки высшего света мало чем разнятся. Госпожа Уланбекова до глубины души презирает чиновников, – и, конечно, мещан и купцов, – но ее отношение к “воспитанницам” даже бессердечнее семейных подвигов Кита Китыча, и знатная крепостница дает своим жертвам те же самодурские поучения, только еще более дикие и жестокие.
Что касается ума и просвещения – взгляды темного царства известны. Это страна, где, по словам Досужева, “люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться: значит, плохо дело; где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями, где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на луне, где своя политика и тоже получаются депеши, но толпа все больше из Белой Арапии и стран, к ней прилежащих”.
Одним словом, беспросветный и хаотический край! И его пророк – Иван Яковлевич, принимающий в сумасшедшем доме и отсюда руководящий судьбами матерей и детей темного царства. Но поднимитесь выше, в аристократический салон: госпожа Турусина объяснит вам, что величайшие авторитеты для нее – блаженные, юродивые, приживалки и мать Манефа. Просвещенная дама горько оплакивает смерть Ивана Яковлича: “При нем так легко и просто было жить в Москве!” И автор находит возможным написать целую комедию – На всякого мудреца довольно простоты – для характеристики интеллигентной темноты и барского варварства.
Можно ли после этого Брусковых считать выродками, неслыханными на русской земле уродами? Они составляют только один из классов многослойного общества. Кит Китыч – самодур и темный человек в пределах собственной семьи, но Юсов – совершенно такой же деспот и мракобес в своей канцелярии, Уланбекова – в своей усадьбе. Турусина – в своем салоне: ведь решает же она вопрос о замужестве своей дочери по указаниям Манефы, подкупленной ловким юношей; и Серафима Карповна из комедии Не сошлись характерами, и Настасья Панкратьевна из пьесы Тяжелые дни ничем не ниже и не выше этой барыни, принимающей у себя сановников.
Очевидно, перед нами не тьма Замоскворечья, а в полном смысле тьма русской земли, тьма неотразимая и разлагающая, тьма, лишь изредка пронизываемая слабыми лучами света. И притом – какими! Отнюдь не в образе Катерины. Только благородный идеалистически настроенный русский критик мог возвести ее в “луч света”. В действительности она только наиболее чистая и несчастная жертва тьмы. Темное царство в этой среде не создает “лучей”, а если они и появляются, то с ними быстро совершается тот самый процесс, который пережил герой Шутников: они доходят до полного искажения внутреннего и даже внешнего человеческого образа. Катерина избегает этой участи, кончая самоубийством, но тем самым обнаруживает такую же полную беспомощность в борьбе, такое же тщедушие нравственного мира, как у чиновника Обросимова, пожалуй, даже в сильнейшей степени, потому что чиновник “ломается” и “коверкается” ради своей семьи.
Писарев разошелся с Добролюбовым в оценке личности Катерины – и на этот раз был прав: “личный развитой ум” действительно непременный признак светлой натуры. Катерина – только страстный темперамент, а не нравственная сила. Ее духовная жизнь загромождена ужасами и видениями, навеянными дикой болтовней странниц и кликуш. Она смотрит на мир сквозь густой туман суеверий и предрассудков “темного царства”. Она – законное детище этого царства, и только врожденная страстность мешает ей окончательно подчиниться родному самодурству. Страстность Катерины не лишена известной поэтической мечтательности, особенно в ранней молодости. Но женская любовная страсть, если она естественна и искренна, всегда поэтична, – что, конечно, вовсе не свидетельствует о какой-то исключительной натуре и светлой силе духа.
Сам Добролюбов говорит: Катерина не думает о сопротивлении, потому что не имеет достаточно оснований для этого. Совершенно справедливо!
И Катерина не только не противоречит основам темного царства, но даже доказывает их непреодолимую силу, и не одной своей смертью, а именно своим характером – чертами, прекрасно обозначенными самим критиком: “инстинктивностью своей натуры”, “боязнью за каждую свою мысль”. Можно считать Катерину сколь угодно симпатичной, – но нет никаких психологических и нравственных оснований говорить о каком-либо влиянии ее личности на просвещение темного царства.
Оно именно тем и страшно, что обладает громадной стихийной силой гасить в своей среде все искры и лучи.
Такой “луч”, несомненно, Кулигин, – но только потому, что он не принадлежит к расе темных людей, он другой породы. Все же исконные граждане самодурской страны только благодаря особо счастливым случайностям не кончают уродством и одичанием. Например, Андрей Титыч. Он гораздо светлее разумом, чем Катерина, он даже жаждет ученья, но тлетворное дыхание тьмы уже коснулось его: он неумолимый враг “стрюцких”, это в трезвом состоянии, а в пьяном, признается он сам, может вполне уподобиться тятеньке.
Брат его, тоже с человеческими задатками от природы, является уже безнадежно забитым и только кричит по-театральному. Вот какие “лучи” производит темное царство! И Андрей Титыч совершенно правильно ставит дилемму: или сделать что-нибудь над собой, или запить. Настроение по существу то самое, в каком находилась и Катерина, бросаясь в реку: у Андрея Титыча даже более сознательное и ясное, – но ведь не луч же он в темном царстве, а просто несчастный, пока еще вконец не изуродованный человек.
Можно сказать больше: и все наши герои – точно изуродованные, и мы даже знаем, чем и как. Островский представил всестороннюю картину векового общественного недуга. Вдумчивый, беспристрастно мыслящий и оригинальный в своем творчестве художник, он не ставил преднамеренных целей – и их незачем было ставить. Полнота умственного кругозора и глубина художественного проникновения в действительность непременно должны привести к идеям истинно гражданским и просветительным; раскрывая темные факты, наметить светлые идеалы; выставляя зло и невежество в их естественном виде, красноречиво защищать добро и просвещение. Надо быть только истинным и честным художником! И таким был Островский. Вполне последовательно литературную деятельность он слил с практической во имя все тех же просветительных целей. Практическая деятельность драматурга наглядно свидетельствовала о тех самых задачах, которые составляли существо и смысл его творчества, и Островский навсегда останется бессмертным образцом русского национального писателя – то есть художника-деятеля, писателя-гражданина.
И он сам вполне точно успел определить этот образец: как художник он, подобно Пушкину, “завещал искренность, самобытность, завещал каждому русскому писателю быть русским”, как гражданин он требовал, чтобы искусство “развивало народное самопознание и воспитывало сознательную любовь к отечеству”.
И Островский умер на своем посту, до конца храня заветные убеждения, составлявшие его душу.
notes
Примечания
1
Клевете, напраслине (Словарь В. Даля).
Другие электронные книги автора И. И. Иванов
Писемский




 2.67
2.67