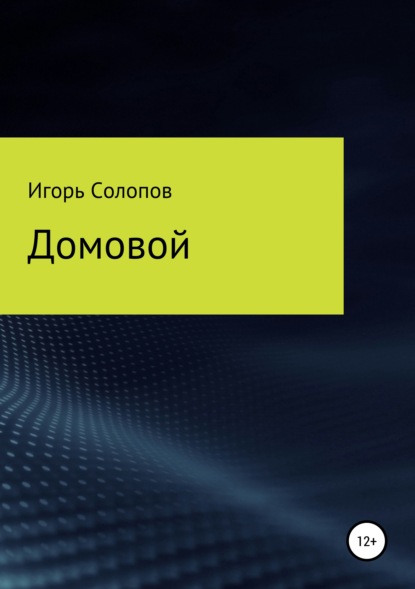По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Домовой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подними скорей ростки,
Тебе корни, нам – вершки!
Земля заходила ходуном, выровнялась, стала приобретать форму, появились грядки, показались слабенькие зеленые росточки.
– Мокшенька, водички, водички поддай. А ты, Путята, сил прибавь земле. Пускай лес поделится, с него не убудет.
Грядки враз налились влагой, растения потянулись вверх. Тут вступил в дело леший. Заскрипел руками, затрясся весь. В ответ в лесу зашумело, деревья передвинулись, будто лицом к нему повернулись, вокруг все задрожало. Из земли поперло со страшной силой, ростки мгновенно поднялись, как вытолкнул кто. Кусты смородины и крыжовника снова зазеленели, заблестели ягодами. Оголившиеся от Путятиного смерча яблони оделись в листву, зашелестели. Стало вокруг, как было, даже лучше. Живее, сочнее.
– Теперь Степан урожая в два раза больше соберет. Семью накормит и на продажу еще останется! – обрадовалась кикимора.
Путята тоже в лице переменился, оглядывал все, смущенно бубнил что-то, но вроде как радовался. Один Пафнутий осунулся, ссутулился, руки опустились – вид усталый, но довольный.
– Ну все! Осталось только забор подправить и прибраться, но это мы быстро. Мокша, присмотришь за домом? А то я теперь долго из-за печки не вылезу.
– Ага, только на болото сбегаю. Гляну, что да как.
***
Внизу что-то заблестело, закопошилось. Наверное, жук или червяк. Птенцы подросли, скачут уже по гнезду вовсю, неугомонные. Пух почти сошел, оперяться стали. Скоро летать надо учить. Отрыжкой уже не прокормишь, им подавай что побольше, настоящую еду. Что поделать, дети растут, и на поиски добычи у матери-вороны теперь уходило куда больше времени.
Червяк большой, жирный. Таким половину птенцов можно накормить. Птица ловко спикировала вниз, подобралась поближе, приготовилась схватить. Вдруг листва зашевелилась, и появился еще один червяк, такой же. Глаза у птицы заблестели: кого схватить первым? Пока гадала, рядом выползла еще пара, и еще, и еще… Через мгновение под вороной копошилась целая куча, которая все росла, доставая уже до самого брюшка. Черви проворно взбирались по лапам, нагло ползли по спине, крыльям, хвосту. Птица испуганно каркнула, попыталась взлететь, но вырваться не получилось, будто ее держали.
Копошащаяся горка становилась все больше и больше, опутывая жертву со всех сторон. Свободной осталась только голова с беззвучно открывающимся клювом. Ворона уже не дергалась – поняла, что не выбраться, и последний раз посмотрела на родное гнездо.
Черви тем временем плотно переплелись, начали срастаться, превращаясь в однородную массу, которая все увеличивалась, поднималась, как тесто на дрожжах, и наконец обратилась в синюшную бабу. Та склонилась над трепыхающейся птицей, прижалась губами к клюву и начала высасывать жизнь, жадно глотая тонкую синюю дымку. Тело вороны дернулось судорогой, стало блеклым, словно потеряло цвет. Закончив, существо встало, отбросило бездыханную птицу, шумно втянуло воздух, будто принюхиваясь, посмотрело вверх, криво ухмыльнулось и снова рассыпалось. Черви поползли по дереву, оставляя за собой черные пятна гнили и подбираясь к птенцам.
***
Пафнутий седьмой день валялся в беспамятстве. Иногда приходил в себя, просил у Мокши чаю и снова засыпал, не дожидаясь. Бывало, принимался орать что-то среди ночи, до смерти пугая хозяев и кикимору. Что ж ему снилось? Мокша была все это время рядом, честно выполняя за домового работу по дому. Лишь иногда бегала на минутку проверить болото – все ли там как надо? Путята в эти моменты ее подменял, караулил у окна, чтобы ничего не случилось, дрянь какая не пробралась. Про злую синюю бабу никто не забыл, жили в постоянном ожидании, что та вот-вот должна вернуться, и уж тогда они точно не оплошают, хотя и неясно, что с ней делать. Но ничего не происходило, и ожидание угнетало кикимору с лешим еще больше, чем незнание, как эту беду одолеть. Им оставалось только надеяться, что Пафнутий оклимается раньше, что он придумает, как поступить с этой тварью, да и втроем оно сподручнее, легче.
А Пафнутию тем временем снилось разное. Снились картинки из прошлой жизни, до того, как он стал домовым. Снились бывшие хозяева, которые становились вокруг и смотрели, вроде как с сожалением. Иногда они что-то рассказывали – наверное, важное. Показывали пальцем куда-то в сторону Черного леса, но голоса были такими глухими, далекими, что Пафнутий ни слова не понимал, отчего было очень обидно, до слез. Но плакать не давали, потому что кто-то заставлял смотреть туда, куда указывали мертвые. Смотреть не хотелось, но противиться у Пафнутия сил не было. Там, из Черного леса, кто-то глазел, таращился прямо внутрь домового, в самую душу, минуя оболочку. Смотрел с такой ненавистью, что тянуло убежать, исчезнуть. Пафнутий чувствовал запах беды и понимал, что у него хотят отнять самое дорогое. От этого становилось настолько страшно, что хотелось кричать, и в эти моменты, как спасение, появлялась Мокша, гладила по голове, успокаивала добрыми словами.
На восьмой день он очнулся. Вскочил посреди ночи и давай колобродить по дому. Ковырялся по углам, громыхал чем-то, почесывал затылок. Кикимора насилу его успокоила. Пафнутий присел, посмотрел в пустоту, потом многозначительно поднял палец вверх, прошептал: "Вспомнил!" и вышел из дому. Мокша кинулась за ним – мало ли что учудит, спросонья-то. Догнала домового у телеги, тот уже копался в настиле из сена, что-то искал. Кикимора слегка потрепала его за волосы.
– Ты чего вскочил-то, чумовой, приснилось что?
– Приснилось, Мокшенька, приснилось. Вспомнил я! – с этими словами Пафнутий выхватил из сена какие-то тряпки. – Вот!
– Это что? Дай посмотрю, – и выдернула из рук домового непонятное тряпье, которое вблизи оказалось куклой. – Ты издеваешься, что ли? В куклы решил поиграть? Ты вспомнил, что ляльку в телеге закопал?
– Дуреха ты, – хихикнул Пафнутий, – как только в голову такое пришло. Я знаю, что за гадость нам покоя не дает.
– И что же ты молчал, окаянный?
– Говорю же, забыл, а когда лежал в беспамятстве – вспомнил.
– Не темни! Это у людей память коротка, а у нас все копится, ничего не забывается.
– Ты не поняла. Я вспомнил оттуда, из той жизни, когда человеком был. Прицепилась тогда к ребенку такая же, жизнь ночами высасывала. Чахнуть дите стало. Думали, болезнь какая. Знахарь лечил-лечил, травками разными пичкал – не помогало. А как-то ночью встал я воды попить, смотрю, а у колыбельки, у изголовья, стоит страхолюдина, такая же, как наша, только чуть-чуть другая, и к сынишке тянется. Я тогда весь дом переполошил, отогнал-таки ее, а утром к ведунье пошли. Та и говорит: ночница это. В колыбель к детям ночью подкладывается и жизнь из них вытягивает, пока совсем не изведет. Сказала, что нужно ребенка из дома унести, вместо него в колыбельку куклу на ночь вот такую положить, на куклу наговор сделать, а утром подбросить кому-нибудь в телегу.
– Сделали?
– Сделали. Помогло. Нам. А вот кому подбросили… Вон оно как, оказывается. На других передается. Тогда я об этом почему-то не думал.
– Выходит, это кто-то в городе Степану подкинул. А нам то же самое делать, что ли?
– Нет! Нельзя беду на других перекладывать. Я, может, из-за того, что так сделал, до сих пор в домовых и маюсь. Извести ее нужно. Совсем. Чтобы никому зла не причиняла. Только вот как?
***
Пафнутий совсем ополоумел с этой ночницей – хозяйство забросил, Степану с дочкой не помогает, даже с Андрейкой играть перестал. Из-за этого дома стало неуютно, холодно. Степан с Олесей за хозяйством присматривают исправно, но все равно какого-то тепла не хватает, сразу видно, что домовой или в отлучке, или его вовсе нет. И как только раньше без Пафнутия обходились?
Да вот вобьет этот баламут себе что-нибудь в бошку, спасу нет. Не угомонится, пока не добьется своего. Всех на уши поставит, все вверх портками перевернет. Вот и сейчас: принялся охотиться на эту ночницу. Искать ее, конечно, надо, спору нет. Но не так! Рыщет по лесу целыми днями, под каждый куст заглядывает, в каждую нору, зверью жить мешает, скоро по гнездам лазить начнет, чтоб его… Достал Мокшу до печенок. Заставляет ходить за ним повсюду, даже дом хотел поставить сторожить. Кикимора за это такую оплеуху ему влепила, что он потом долго глаза в небо таращил. Сторожить больше не просил, но ходить за ним все же пришлось. И ведь что еще удумал, умник. Захотел, чтобы Путята к Олесе охрану приставил. Пусть, мол, животина лесная за ней приглядывает, когда она ребеночка выгуливает. А еще лучше, если бы Путята сам за ними смотрел, якобы так надежнее. Леший поначалу терпел, относился к этим причудам снисходительно. Понимал беспокойство домового, даже сочувствовал. Но под конец от злости все же покрылся мхом и местами потрескался. Даже переселяться собрался в дальний конец леса, чтобы ненароком домового не покалечить – Мокша насилу отговорила.
Вот и сегодня кикиморе пришлось весь день бродить с Пафнутием по лесу. Как всегда, ничего не нашли. Мокша давно поняла, что ночницу искать бесполезно. Прятаться она может где угодно, а уж если и леший ничего не видит… Нужно просто ждать. Когда-нибудь она сама объявится. Но Пафнутий, видите ли, не может сидеть сложа руки и ждать, когда хозяева в опасности.
Мокша говорила домовому, что ей нужно на болото наведаться, а то с этими поисками совсем его запустила, но он и слышать ничего не хотел. И теперь вот пришлось кикиморе идти туда среди ночи, порядком устав после поисков. А ведь могла спокойно сидеть за печкой и пить чай. Ох уж этот деятель… Она шла и злилась, дулась на домового, и вдруг заметила над родным болотом огонек. Он то висел над водой, то принимался летать как угорелый, будто за ним гнались. Раньше Мокша сама создавала такие от скуки и запускала их летать над болотом, чтобы подразнить Путяту. Но то было давно, еще до того, как сюда пришли люди, с тех пор она этим не баловалась. Откуда же здесь этот взялся? Такие светляки селятся у сокровищ, но кладов кикимора не хранила… Пока Мокша размышляла, огонек ее заметил, приблизился, замерцал перед глазами, запрыгал, как бы приветствуя, и полетел прочь. Кикимора пошла следом – а он будто звал ее за собой, уводил все дальше и дальше. Если она отставала, он возвращался и ждал. Мокша совсем забылась и все шла, шла, уже не думая, куда, зачем, просто хотелось идти, и все.
Очнулась Мокша в странном месте. Эту часть леса она не знала и никогда сюда не забредала, но поняла сразу – это граница с Черным лесом. Кикимора поежилась.
Огонек снова вспыхнул перед Мокшей, только цвет его сменился с теплого желтоватого на ядовито-зеленый с черными прожилками.
– Ты куда меня привел, шалопай?
Светляк вдруг исчез, а вместо него перед Мокшей возникла ночница, да так неожиданно, что кикимора подскочила. Ночница приблизилась, схватила ее за плечи, уставилась кроваво-красными зрачками прямо в глаза. Страшно стало до дрожи. Ночница долго смотрела, потом дернула щекой, и, завывая, стала открывать рот все шире и шире, обнажая острые иглы зубов. Пасть раззявилась непомерно, открываясь еще больше. Вот уже вместо головы сплошной рот, но он все раскрывается, вернее, выворачивается наизнанку, а внутри кроме тьмы ничего нет. Мокша завороженно смотрела, как тьма окутала ночницу, как вместо нее осталось лишь черное пятно, точно дыра в пространстве. И тут темный сгусток вытянулся змеей и, извиваясь, бросился на кикимору.
***
– Путятка! Путятка! Открывай, чтоб тебя, – запыхавшийся Пафнутий что есть силы барабанил по дереву, где обитал леший. Внутри что-то громыхнуло, из дупла показалась ветвистая борода, а потом и сам Путята.
– Ну, чего орешь, как баба на сносях? Весь лес перебаламутил. Что стряслось-то? – проскрипел леший.
– Мокша пропала!
– Куда?
– Знал бы – не искал. Ночью пошла на болото. Полдень уже, а ее все нет. Искать надо! Говорил же, подожди до утра – нет, поперлась. Помоги, Путят, а? – голос у Пафнутия дрожал, глаза на мокром месте, губы затряслись.
– Да не хнычь ты! Ой, беда с вами. Как дети малые. Ванька дома – Маньки нет, Манька дома… Эх! Заходи давай, не позорь меня перед зверьем.
Пафнутий подтянулся, вскарабкался и исчез в темном дупле вслед за лешим.
Перед ним открылась просторная, уютная комната. Пахло елью и какими-то цветами, было светло как днем. Домовой завертел головой, пытаясь разглядеть чудо-лампы, но вместо них под высоким потолком летал целый рой светлячков.
Пол был отполирован до блеска. Годовых колец на нем было не счесть. У стены стоял пенек, на котором скатертью лежал огромный лист орешника. Рядом со столом стояли два пенька поменьше и сплетенное из веток кресло-качалка с накинутым поверх травяным пледом. Кроватью лешему, видимо, служила куча лапника, сложенного на другом конце комнаты.
– Ух ты! Ничего себе обустроился! Снаружи деревце небольшое, толщиной обнять два раза, а внутри… Ишь, палаты отгрохал! А я-то думал, как ты в этом дупле вообще помещаешься, спишь, что ли, стоя?