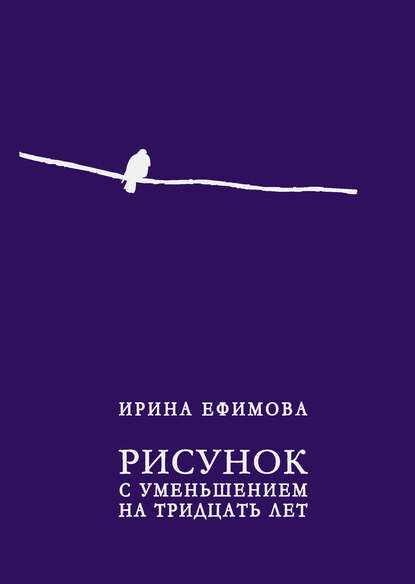По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После майских праздников решили собраться у Соньки слушать Вертинского (грампластинки тайно изымались для прослушивания из кабинета Татьяниного отца, страстного коллекционера) и пригласить В.Е как единственно достойного из знакомых мужчин. Мы боготворили Вертинского. Нам повезло, что папа Миша владел великолепной коллекцией пластинок. Артист, хоть и замолил свои грехи перед родиной, находился в полуопале, и услышать его живьём было чрезвычайно трудно. Как волновали наши детские души его розовые моря, пенные кружева, бальные оборки, чужие города – одним словом, всё-всё. Я садилась за пианино и надрывалась: «А жить уже осталось так немного, и на висках белеет седина», – чем смешила маминых гостей, даже у них ещё не белели виски…
Итак, собрались – Сонька, Татьяна, Нинка рыжая и я. Валентин пришёл последним. От неожиданной, «легальной» близости возлюбленного я превратилась в восковую фигуру: впервые наблюдала его не издали в актовом зале, не на пересечении дорог, где считала нужным делать вид, что не обращаю на него внимания, а в уютном доме подруги, и впереди имелось несколько часов совместного пребывания в атмосфере высокого искусства.
Странно было видеть героя не мастером эпатажа, не суетливым насмешником, а молчаливым и возвысившимся духом слушателем, как того требовал момент. Всё мне было в нём мило в этот вечер: и многозначительное выражение лица, и то, что на меня ни разу не взглянул, и то, как пил чай – скромно, но без скованности человека, попавшего не в свою тарелку. Одно было горько: настало время идти домой. Не желая сделать всеобщим достоянием свою печаль в случае, если он уйдёт первым, я решила его опередить и, к радости родителей, пришла домой довольно рано.
На следующий день выяснилось, что В. провожал рыжую Нинку, нашу постоянно выпендривавшуюся интеллектуалку, до самого её дома. Нинка настолько обезумела от успеха (вряд ли кто-нибудь когда-нибудь провожал её до дома), настолько возвысилась в собственных глазах, что обозвала В. болваном – дескать, он не мог объяснить, чем ему нравится Вертинский. Я не стала вступать в дискуссию. «Не мог объяснить»… да всё он понимает не меньше твоего, уважаемая умница…
Итак, всё. Школьная форма доношена. Белые воротнички, манжеты и банты скручены в исторический свиток. Всё…
Предвидя вечную разлуку, я металась, сочиняла безумные письма, выпуская «пар» на бумагу, потом рвала их и на некоторое время успокаивалась.
Ещё предалась беспорядочному чтению. Грин, Уайльд, Метерлинк, Достоевский, Гамсун, Блок, Гофман, бесконечная вереница известных и неизвестных поэтов, калейдоскоп без знания дат, жанров, школ; основное кредо оценки – соответствие моему состоянию. В отличие от Уайльда, который считал, что жизнь в значительно большей степени подражает искусству, чем искусство – жизни, я свято верила в то, что столь уважаемые мной книжные добродетели списаны с натуры, более того – живут и преобладают в повседневной реальности, являясь законами человеческого существования.
«Я вас любила в этот странный вечер за вашу яркую любовь к другой», – пела Шульженко, и я вместе с ней. В отличие от других девчонок (утверждали: так не бывает!), я не считала странными ни тот вечер, ни любовь за любовь к другой…
Вечная разлука тем временем неумолимо приближалась. Корабль с несбывшимся героем медленно погружался в небытие. Как путнику из сказок, жизнь открывала мне по крайней мере три пути: направо пойдёшь… налево… прямо… Я пошла не туда (хотя кто знает?..). А посему не сделала сказку былью…
В то лето мы снимали дачу у человека, похожего одновременно на Степана Плюшкина и Иуду Головлёва. Его-то жена, милая грустная женщина, и прочитала мне в саду запомнившиеся на всю жизнь строки: «Это было давно…»
Однажды в начале августа, когда мама лежала на жёстком топчане, как ей было предписано врачами, под чужим кустом чёрной смородины, не вправе воспользоваться его спелыми, готовыми осыпаться ягодами, а я неподалёку штудировала учебник по литературе (несколько дней оставалось до того знаменательного, когда хрупкая надежда на милость судьбы если и не умрёт окончательно, то тяжело и неизлечимо заболеет), в калитку вошёл Миша 3., рост которого к этому моменту достиг двух метров. Пригнувшись, он машинально зацепил рукой чиркнувшую ему по голове вишнёвую ветку, и ладонь обагрилась красным соком примятой ягоды (истекаю вишнёвым соком!). Из застеклённой террасы, служившей наблюдательным пунктом, выскочил разъярённый хозяин и сурово отчитал Мишу за хулиганство и воровство ягод. Бедному Мише ничего не оставалось как что-то растерянно лепетать в оправдание.
Когда неловкость немного рассеялась, Миша тщательно вымыл руки, повелел мне сделать то же, после чего разложил на столе десяток фотографий… В.Е. (!), которого снимали для какой-то кинопробы. Не знаю, на какую роль его пробовали, но с накрашенными глазами и губами он выглядел ослепительной кинозвездой. Я попросила оставить фотографии на пару дней, а возвращая, одну утаила – ту, на которой он более всего походил на себя «нормального», «бульварного». Так и лежит с тех пор эта фотография в дерматиновом чемоданчике. Вечный сверстник, мудрёный мальчик, запечатлённый когда-то хорошим студийным фотографом, он и сегодня не видится мне ребёнком. А ведь это было ещё детство…
В следующем феврале, когда после скучной, но успешно сданной сессии я лежала больная простудой, меня снова посетила вечно живая идея поздравить канувшего в Лету героя с днём рождения (эту дату я помню и теперь), и я сочинила очередную глупую эпистолу, в которой поздравляла, вспоминала, сетовала, тосковала по ушедшему времени и т. д. Написала и тут же поручила пришедшей проведать меня подруге опустить конверт в почтовый ящик. Koгда она вместе с письмом ушла, я ужаснулась содеянному. Но было поздно…
Через несколько дней со словами «какой позор» мама швырнула на стол вскрытый конверт, на котором значился наш адрес и внутри которого лежало… моё письмо (прочитанное ли – кто его знает). Больше ничего. Возлюбленный и в Лете оставался самим собой.
Вскоре я дважды подряд встретила моего героя, образ которого стал превращаться в символ неразделённой любви. После чего не видела никогда.
Весной, гуляя по главной улице родного города в состоянии полного невдохновенья и в сопровождении многолетнего воздыхателя (многолетним, впрочем, он стал через много лет, а в этот момент был ещё недавним), я вдруг увидела впереди себя и тотчас узнала по затылку и, конечно, по походке Валентина. Было это, как сейчас помню, в начале городских сумерек, на улице Горького, в районе пересечения главной улицы со Столешниковым переулком. Как и я, он шёл вдоль по Питерской, вниз, в сопровождении двух мужчин. У меня перехватило дыхание, и, ничего не объясняя, я объявила спутнику, что хочу идти за этими людьми. Вскоре стемнело. В.Е. несколько раз оборачивался, но смотрел мимо меня, так что я была совершенно уверена, что не замечена им. Поклонник пытался воспрепятствовать навязанному маршруту, но, видя мою непреклонность, был вынужден покориться. В коротком тёмном переулке, за памятником первопечатнику я потеряла бдительность и сильно сократила дистанцию. Вдруг В. резко остановился, развернулся, вонзил в меня раздражённый взгляд и спросил: «Может, хватит?» Что тут ответишь? Я была посрамлена…
В другой раз, поздно вечером, в вестибюле одной из центральных станций метро, я заметила В.Е. в компании весёлых джентльменов. Встав в кружок, они оживлённо общались. Скрывшись за выступ стены, я смотрела на возлюбленного, не в силах оторвать взгляда. Он был в тёмно-синем плаще, с белым шарфиком, очень красиво лежали волосы, и даже чудный голос мне удалось вычленить из общего хора. Я, конечно, не догадывалась, что вижу его в последний раз…
Больше я ничего о Валентине не слышала, кроме того, что вскоре его семейство покинуло дом на бульваре. Люди потянулись в районы новостроек. Уехала из своего подвала Лена, уже с мужем и маленьким ребёнком. Родственники, что проживали на той самой коммунальной даче, где некогда нас застал знаменитый многодневный ливень, получили наконец шикарную «сталинскую» квартиру с ванной и персональным ковшом мусоропровода.
А мы всё ждали своего часа, и новая соседка, въехавшая в комнату тёти Маруси и дяди Герасима, придумывая, как бы сильнее досадить «этим интеллигентам», то бишь нам, запирала от нас свой стоявший на кухне холодильник на огромный висячий замок, чем огорчала даже своего супруга, который ничего против интеллигенции, то бишь против нас, не имел.
Наконец дождались и мы. Дом похуже сталинского, потолки пониже (началась эра массовой застройки), но – лифт, балкон, ванна, личная кухня! Так что были безмерно счастливы. Когда же фургон с нашим скарбом покидал двор и старухи в последний раз шептались нам вслед, ком застрял в горле, да так с тех пор и не рассосался…
«Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего детства», – написала норвежская девочка из рассказа норвежского писателя. Её – увели. Я же всю жизнь барахтаюсь в тенетах своего счастливого детства…
Часть вторая
Круглый стол
«Я живу в странном и неверном мире. Живу, – а жизнь проходит мимо, мимо меня. Женская любовь, юношеская пылкость, волнение молодых надежд, – всё это остаётся навеки в запрещённой области несбывшихся возможностей. Несбыточных, может быть…
Обычность – она злая и назойливая, и ползёт, и силится оклеветать сладкие вымыслы, и брызнуть исподтишка гнусною грязью шумных улиц на прекрасное, кроткое, задумчивое лицо твоё, Мечта!..»
Ф. Сологуб «Творимая легенда»
I
Когда жизнь моя приобрела определённый статус, если этим словом обозначить нечеловеческую суету, – работала от звонка до звонка в старинном особняке, охраняемом двумя львами, один из которых всегда спал, другой всегда бдел; мчалась за ребёнком в детский сад, чтобы вовремя доставить его на занятия прославленного детского хореографического коллектива; пока дочь в пыльном зале с зеркалами находилась в объятиях Терпсихоры, бегала по магазинам, стараясь, не всегда успешно, приобрести продукты; ехали домой, чумные от усталости, но не сдавались – по дороге играли «в стихи»; так вот, когда я этот блистательный статус приобрела, на работе у меня завелась «подружка». Моложе меня лет на десять, фантазёрка и эгоистка, мечтавшая выйти замуж, но не видевшая себя со стороны, она постоянно пускалась в авантюры, о чём любила мне порассказать в рабочее время. Я слушала вполуха – у самой проблем было невпроворот, но однажды она поведала мне о новом знакомом и, чтобы вполне овладеть моим вниманием, подчеркнула, что я этого человека знаю. Несмотря на то, что человек просил её оставить в тайне их знакомство, подружка открыла мне его имя: им оказался…Миша 3. Я, конечно, умолила справиться у Миши о В. Увы, ближайший друг Валентина ничего о нём не знал.
Всё ещё заинтригованная его судьбой, я запросила однажды в адресном бюро адрес гражданина В.П.Е. такого-то года рождения неизвестной профессии. Ответ был: такой человек в Москве не числится. А где же числится? В жизни-то числится? Я прикидывала, как могла сложиться его жизнь. Ничего не складывалось…
Как-то я повела свою близкую подругу, приобретённую уже в зрелые годы (редкий случай), в заветные места. Было Светлое Христово Воскресение. Бульвар ещё не шумел листвой, но знакомое по другой жизни предчувствие весны сразу охватило меня, как только мы к нему приблизились. Вот арка его двора. Мы вошли в неё и повернули налево. Пересекли по диагонали скромную территорию двора, когда-то совсем голую, а теперь усаженную двумя рядами деревьев, и очутились в том самом углу, где слева от изгиба фасада я нашла нежилое, покрытое слоем вечной пыли Тонькино окно – решётка сломана, приямок завален нечистотами, – а справа, все в том же положении, не правей, не левей, не выше, не ниже – вход в его подъезд, лестница, ведущая в квартиру, где когда-то жил-поживал, но давно уже не проживал белокурый юноша с ослепительной улыбкой. Гулявший с собакой мужчина из этой жизни недоверчиво косился на двух незнакомок.
Меня знобило. Мы вышли из двора, миновали милый детский парк «Милютку»; постояли возле особняка, перед которым когда-то по весне розовым и белым цветом расцветали яблони и груши; теперь фруктовых деревьев не было в помине, некогда цельные стёкла окон особняка расчленили небрежно выполненными переплетами. Прекрасное здание отдано какому-то учреждению. Ещё в детстве я иногда фантазировала: дом наш, сад наш, в высокие торжественные двери входят наши гости, наш колокольчик возвещает об их прибытии…
Повернули направо. Перед поворотом в мой переулок – все то же крайнее окно, из которого, прогоняя страх, лился свет зелёной лампы, всегда напоминавший о несуществующей стране Гонделупе, когда тёмными зимними вечерами я возвращалась домой из музыкальной школы. Напротив церковь, освобождённая наконец от уродливых пристроек, за которыми её и не видно было. Реставрируется – не прошло и ста лет. Вниз с горы, в сохранившиеся – те самые – ворота, в глубину двора. Вот он, мой дом. Такой невысокий. Такой неширокий. Под ногами асфальт вместо земли и торчавших из неё булыжников. На двери в мой подъезд – рейки из современной жизни, стены внутри подъезда выложены «кабанчиком».
Мы поднялись до верхнего этажа и остановились перед моей квартирой № 13. Вот перекладина между пролётами лестницы, на которой я и мои гости висели и кувыркались – та самая, ничуть не изменилась. Я смотрела на неё в изумлении от этой непреходящести, и отрезок жизни от тех до этих дней показался не длинней этого «турника». Дверь на чердак была другой – та в нижней своей части имела квадратное отверстие, вырезанное моим папой для кота Мишки, чтобы он мог гулять сам по себе на чердак и обратно…
Вспомнилось: кот Мишка, впервые вывезенный на дачу и шокированный бескрайними просторами, влез на сосну и просидел на ней двое суток. Никакие уговоры, никакие приманки не помогали. На исходе вторых суток на участок зашёл Миша 3. и застал нас в полном отчаянии. «Чем могу, помогу», – сказал он и, задрав кверху голову, позвал: «Мишка, Мишка! Тёзка, тёзка!» Кот Мишка вдруг встрепенулся, поменял позу, в которой пробыл часов сорок не шелохнувшись и, напряжённо сверкая жёлтыми глазами, стал потихоньку сползать вниз, дав измученным хозяевам надежду, что всё ещё может окончиться благополучно. Действительно, утром он сидел под крыльцом – живой, невредимый и почти совсем расслабившийся…
Постояв возле квартиры и подробно осмотрев каждую малость, мы спустились вниз и вышли на улицу. Двор был пуст. А как всегда кипел!..
Из ворот направились в Петропавловский переулок, по которому, бывало, в канун Светлого праздника красочной демонстрацией шли старушки в белых платочках, держа в руках украшенные бумажными цветами узелки с куличами и яйцами – каждый год мы наблюдали эту картину из окна большой комнаты. Старушки, давно выселенные на московские окраины, скорее всего, там и окончили свой век вдали от любимого храма…
В церкви Петра и Павла шла праздничная служба. Христос воскрес прошедшей ночью. Народу было немного. Молодая девушка с заплаканными глазами осеняла себя широким крестом…
Вышли из церкви. Тем же рядком – невысокие старые дома. Повернули в Подколокольный переулок, вышли на Яузский бульвар, сели на трамвай и укатили в сегодняшнюю жизнь. Подруга – в свою, я – в свою…
…На днях мне рассказали, что Миша 3. скоропостижно умер… Недавно перешагнул сорокалетие…
II
Какой странный год – всё перепуталось: осень была похожа на лето, зима – на осень. Только февраль не рядился в чужие одежды, был холоден и снежен (снег выпал только в феврале). Теперь начало марта, а на улице +15 С…
Не доверившись показаниям Цельсия, я оделась по-зимнему. И сразу разомлела от стоячего тепла, безветрия, какого-то странного межсезонья – непонятно, между чем и чем; снежные валы по обочинам тротуаров, ещё несколько дней назад мешавшие где попало переходить улицу, поразительно исхудали, а кое-где вообще исчезли. Земля так быстро и так рано оказалась сухой, почти чистой, почти весенней. Чёткие тёмные линии голых веток, будто нарисованные пером поверх городского пейзажа, дополняли картину ранней весны…
Было воскресенье, малолюдно. Старая Москва, по которой вёз меня троллейбус на свидание со школьной подругой Татьяной, лежала как на ладони, со всеми подробностями старых зданий: излишествами фасадов, прутьями старинных оград, куполами счастливо сохранившихся церквей, изящными линиями зданий в стиле «модерн».
Какая большая и вместе с тем доступная радость, какая увлекательная затея – сесть в троллейбус и через пятнадцать минут очутиться в другом городе, в другом месте земли! Татьяна стояла на означенном месте в лайковом пальто с лисьим воротником, совершенно не соответствующем той жизни, в которую мы собрались с ней отправиться.
Отправились. Пересекли улицу, скосили угол диагональным сквериком с приземистыми заморскими рябинами. Хотели пойти любимым бульваром, но там было ещё очень грязно – бульвары долго просыхают по весне. Вот когда пригодились бы галоши, которые так мучили меня в детстве.
Переулок, ведущий к моему дому, был заполнен баптистами и адвентистами седьмого дня. Церковь на повороте всё ещё реставрировалась. Шли под горку. Пахло мясными щами…
…Порой я предавалась странной фантазии: я прихожу в свой старый дом, звоню в бывшую свою квартиру и прошу хозяев меня впустить, объясняя, что очень хочу побыть хоть несколько минут в тех стенах, где прошли мои лучшие, мои нелепейшие годы; ещё раз ощутить тесноту передней, подивиться, как можно было жить с единственным краном холодной воды – для рук, ног, зубов, белья, посуды; умилиться всем этим неудобствам, от которых так быстро отвыкаешь – ещё быстрей, чем привыкаешь к удобствам… Фантазии… На самом деле я отдавала себе отчёт, что никогда на это не решусь, а потому у меня столько же шансов войти в свою старую квартиру, как, скажем, в реку Нил…
Итак, мы вошли в мой незабвенный двор, обогнули трёхэтажный корпус, и… я остолбенела: дом стоял абсолютно мёртв, абсолютно пуст! Все окна, как одно, отражали одни и те же облака, которых в тот день гуляло по небу премножество. Подъезд был, казалось, намертво заколочен прибитой наискось неструганой доской. Однако как раз в этот момент какой-то рабочий, как иллюзионист, с лёгкостью развязывающий мёртвые узлы, открыл дверь парадного – оказалось, что доска приколочена лишь к дверному полотну, для видимости, – и скрылся внутри подъезда.
Я с недоверием потянула за доску, дверь открылась. Мы робко сунули головы в полумрак и увидели там только что вошедшего рабочего, который что-то мастерил возле ведущей в подвал лестницы. Спросив, можно ли подняться, и получив утвердительный ответ, мы стали подниматься. В доме было гораздо холодней, чем на улице, – ледяной, неподвижный, не оттаявший после зимы воздух. Двери всех квартир застыли открытыми настежь. Везде лежали кучи мусора, брошенный хлам. В квартире № 5 посреди комнаты стояла кровать с пружинным матрацем. Где-то теперь её хозяйка, которая однажды сшила мне красивое бежевое платье с красным поясом? На пороге квартиры № 8, где когда-то жили Фомины, валялась на боку табуретка с прорезью для пальцев. Мигом вспомнился смуглый Павлик, который в шестом-седьмом классе неожиданно начал оказывать мне знаки внимания, даже однажды поднёс к электричке мой чемодан, когда я в одиночестве, с опозданием из-за экзаменов в музыкальной школе, отбывала в пионерский лагерь, а потом почему-то вдруг возненавидел и перестал здороваться…
Окружённые могильным холодом и стылой тишиной, мы медленно совершали восхождение. И хотя кошек не было – что им делать в брошенном, нетопленном доме? – их едкий запах был по-прежнему силён, являя живую связь времён (именно этот запах был камнем преткновения при попытках обменять жилплощадь).