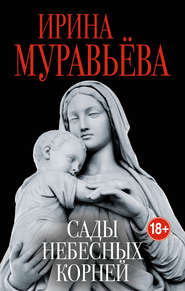По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оттепель. Льдинкою растаю на губах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Извини, Витя, руку не протягиваю: мокрая. Ну, как ты?
– Нормально. А ты?
– Я? Жуть, Витя, жуть! Тата про Нюсю узнала!
– А кто это: Нюся?
– Да есть тут одна, в костюмерной… Но дело не в Нюсе! Я тебе, Витя, одному могу все рассказать, как было…
Регина Марковна оттолкнула щуплого Сомова своим очень пышным и влажным плечом:
– Аркадий! Иди в жопу! У нас разговор здесь серьезный, не лезь!
– Я вам, Регина Марковна, – усмехнулся Хрусталев, – уже ответил: ящик коньяка – и сниму вам поезд откуда хотите. Хоть из-под земли. Пусть ваш режиссер не волнуется. Ладно, я буду в «стекляшке».
Ему вдруг остро захотелось остаться одному. Почему в последнее время ему все время хочется остаться одному? И чтобы никто, ни одна живая душа не знала, где он. «Стекляшка» была, однако, не самым лучшим местом для уединения. Он сел за столик у окна. Ни один человек на «Мосфильме» не посмел бы назвать «стекляшку» забегаловкой. Дело не в меню и не в посуде – такой же простой, как везде. Дело в Гоше. Неважно, что он числится официантом. Числиться можно кем угодно. Но вы вот добейтесь того, чтобы числиться официантом, а выглядеть как дирижер. Нет, вы не добьетесь, а Гоша добился! И черная бабочка на его белой как снег, ослепительной, жесткой рубашке – тому подтверждение. Улыбается Гоша, кстати, далеко не всем. Но Хрусталеву улыбнулся, и птичий, дирижерский нос его приветливо залоснился.
– Ну вот, к нам и Виктор пожаловал. Что пить будем, Виктор Сергеич?
– Пока ничего, Гоша. Кофе свари мне. Но только покрепче.
Он ждал, пока ему сварят кофе, и смотрел в окно. Какая пыльная листва в Москве. Полили бы все-таки. А лучше пошел бы сейчас сильный дождь. Сверкающий ливень, чтобы пузырилось. Хрусталев любил дождь. Солнце всегда казалось ему слишком назойливым, оно как будто лезло в душу, а дождь успокаивал, в детстве особенно.
Надо будет заглянуть к Кривицкому, он, наверное, в павильоне. Люся снимает. Она хорошая баба, своя, боится только, чтобы ее не сковырнул какой-нибудь шибко «талантливый». Но ему она верит и знает, что Хрусталев никому не перебегает дорогу.
Кривицкий был действительно в павильоне и снимал. Он сидел в кресле, а рядом с ним слегка дымилась полная окурков пепельница. В одной руке у Кривицкого был надкусанный бублик, в другой сигарета. Изредка он бросал сердитые взгляды на Люсю, как будто она была виновата в том, что ему приходится смотреть на эту бездарную дрянь. А Люся снимала бездарную дрянь, и узкое лицо ее со сдвинутыми на лоб большими очками казалось вполне безразличным. Сейчас вот снимали поющую барышню. Да, черт возьми: как ее? Кривицкий заглянул в бумажку, лежащую рядом с пепельницей. Оксаной зовут, Голубеевой. Откуда взялась она здесь, Голубеева? Кто ее пристраивает? И голос какой-то противный. Как будто ножом по стеклу. Хорошенькая. Ну и что? Ведь петь не умеет. И мужики эти в комбинезонах, подтанцовка эта, тоже никуда не годятся. Все нужно менять.
Оксана Голубеева была совсем недурна собою. Она изо всех сил старалась понравиться режиссеру с бубликом в одной руке и сигаретой в другой, потому что от этого режиссера зависела ее судьба. От него, с его бубликом и сигаретой, зависело сейчас, возьмут ли ее на эту роль, станет ли она великой актрисой, заблестят ли ее портреты на стенах домов – все на свете зависело от него, – а он был нахмуренным, не замечал ни нового платья в лиловых цветочках, ни челки, ни ярко накрашенных губ, которыми… Которыми – да! – и с восторгом, с восторгом, она бы его всего зацеловала – отдай он ей только заглавную роль! От этих мыслей голос Оксаны Голубеевой сорвался, и последние слова прозвучали скомканно. Кривицкий начал медленно подыматься со своего кресла. Она разрыдалась.
– Федор Андреич! Ведь это случайно! У меня в самом конце переход не получился! Можно я еще разочек попробую? Всего только разик?
Рыдая, она грациозно отставила ногу и встала так, чтобы перекрыть Кривицкому дорогу к выходу.
– Ну-ну-ну… Ну, что же так плакать? Как вас там? Оксана? Ну, что же так плакать, Оксаночка? И спели отлично. И все хорошо…
Она сделала судорожное движение, как будто сейчас упадет на колени. И он, растерявшийся, сделал шаг в сторону. Тут же подскочила проклятая ассистентка.
– Не задерживайте Федора Андреича! Он же вам сказал, что вы прекрасно пели! Сказал ведь? Так что теперь плакать?
– Вот именно! Я же сказал! Давайте следующую! Кто там у нас следующая? А ты, Люся, выйди пока, покури. Но только не больше чем десять минут.
Две нарядно одетые девушки, смирно сидящие рядом на диванчике, встрепенулись и проводили поникшую Голубееву злорадными взглядами.
– Так-так, – забормотал Кривицкий, разглядывая девушек с таким видом, с которым владельцы крепостных балетов разглядывали своих артисток. – Так-так… Вас как зовут, милая?
Девушка, к которой он обратился, залилась яркой вишневой краской.
– Я Галя. Галина Чиркова.
– Петь умеете?
– Конечно умею! Сценарий мне очень понравился.
– Ну, значит, попробуем. У тебя ко мне вопросы какие-то, Люся?
– Хотела вам что-то сказать…
– Хотела – скажи!
Весь «Мосфильм» знал, что когда у Кривицкого начинают раздуваться ноздри, разговор лучше не продолжать. Но Люсе Полыниной было наплевать на режиссерские ноздри.
– Время теряешь, Федя, – шепнула она в самое ухо Кривицкого. – Куда нам такую? Глазки крысиные, подбородок махонький. Мы с крупным планом замучаемся. Такую не загримируешь.
– Иди покури, я сказал! Все лезут ко мне, все мешают! Иди покури!
Про Люсю говорили, что она никогда не обижается. Это было правдой: она никогда не обижалась, потому что не умела этого и не любила. Обидеться, считала она, значит затаить что-то недоброе против человека, а ему об этом не сказать. А Люся всегда говорила. Ее прямота и привлекала, и немного отталкивала одновременно. Точно так же, как и привлекала, и отталкивала ее мешковатая внешность. Казалось бы, что уж там проще? Завей волосы, сделай высокую укладку, а не ходи с этим дурацким конским хвостом, не открывай свои оттопыренные уши! Глаза можно очень красиво накрасить. Да что там накрасить! Можно нарисовать, и будут глаза, как у Лоллобриджиды. Одеться, тем более здесь, на «Мосфильме», вообще пустяки: спекулянты приносят, сотрудницы меряют прямо в уборных, стреляют десятку до новой получки, выходят такими, что их не узнаешь! Но Люся была просто неисправима. Выкуривала за день пачку «Казбека», а то и полторы, рубила в глаза правду-матку, носила ковбойки из «Детского мира». Такая простая, как черный хлеб с солью. Любите и жалуйте.
Делать нечего – раз у Кривицкого начали раздуваться ноздри, спорить с ним бесполезно. Она затянулась папиросой, заложила за оттопыренное ухо выбившуюся прядь и пошла в «стекляшку». Ну, так и есть: Хрусталев. Кофе пьет. Она подошла, обнялись.
– Ты, Витя, живой? Мать твою! А мне тут страстей разных наговорили…
– Не верь.
– Да ладно, не верь! Ты мне лучше скажи, правда это или нет, что ты с Сенчуком прямо на сьемках подрался?
– Мы с ним разошлись в понимании природы творчества.
Люся чуть не взвизгнула от восторга:
– Какого еще творчества! Бабу небось не поделили?
– Ну, хватит об этом, Люсьена. С кем ты сейчас снимаешь?
– С Кривицким снимаю. Стахановец наш. Одну фильму сдали, другую снимаем.
– Опять песни-пляски?
– Да, все для народа. Говно, в общем, Витя.
– А где не говно? Пойдем, я его поприветствую.
Федор Кривицкий сидел на том же кресле, только пепельница уже не дымилась, потому что ее минуту назад опустошили, а новая сигарета, забытая в углу режиссерского рта, погасла сама собой. Бублики тоже закончились, скорее всего, их потаскали во время перерыва. Хрусталев вошел с распростертыми объятьями.
– Ну что, подкаблучник? Работаешь?
Кривицкий выронил погасшую сигарету.
– Витюха! Да где ж ты, родной, пропадаешь?
Другие электронные книги автора Ирина Лазаревна Муравьева
Сады небесных корней




 4.67
4.67
Поклон тебе, Шура




 3.67
3.67