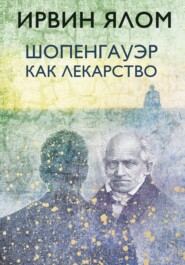По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как я стал собой. Воспоминания
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ирвин: Не прямым текстом, но признаки этого есть. Например, они говорят на идише друг с другом, но не со мной и не с моей сестрой. С нами они разговаривают на этакой смеси ломаного английского с идишем (мы называем ее «идглишем»), но явно не хотят, чтобы мы учили идиш. Кроме того, они не рассказывают о своей жизни на прежней родине. Я почти ничего не знаю о том, как они жили в России. Когда я пытаюсь выяснить точное расположение их дома, мой отец, обладающий замечательным чувством юмора, шутит, что они жили в России, но иногда, когда им нестерпимо было думать об очередной суровой русской зиме, называли свою страну Польшей. А что насчет Второй мировой войны, нацистов и Холокоста? Ни словечка! Их уста навеки запечатаны. И тот же заговор молчания царит в семьях моих друзей-евреев.
Доктор Ялом: Как ты это объясняешь?
Ирвин: Наверное, они хотят избавить нас от ужасов. Я помню послепобедные выпуски новостей в кинотеатрах, где показывали лагеря и горы трупов, которые сгребали бульдозерами. Я был в шоке – я был совершенно не готов к такому и, боюсь, никогда не смогу забыть это зрелище.
Доктор Ялом: Ты знаешь, чего родители хотят для тебя?
Ирвин: Да – чтобы я получил образование и был американцем. Они мало знают об этом новом мире. Когда они прибыли в Соединенные Штаты, у них не было никакого официального образования – я имею в виду, никакого вообще… если не считать обязательных курсов для тех, кто хочет стать гражданами США. Как и большинство известных мне евреев, они – «люди книги», и я полагаю… нет, знаю, что они радуются всякий раз, видя меня за книгой. Они никогда не мешают мне, когда я читаю. Однако я не вижу у них никаких признаков желания просвещаться самим. Думаю, родители понимают, что эта возможность для них упущена – настолько они задавлены тяжким трудом. Каждый вечер они с ног валятся от усталости. Должно быть, это вызывает у них смешанные чувства: они усердно трудятся, чтобы я мог получить такую роскошь, как образование, но при этом не могут не понимать, что каждая книга, каждая прочитанная мною страница уводят меня все дальше и дальше от них.
Доктор Ялом: Я все думаю о том, как ты ел эти гамбургеры из «Литл Таверн»… Это был первый шаг. Как звук рожка, возвещающий начало долгой кампании.
Ирвин: Да, я развязал долгую войну за независимость, и все ее первые стычки были вокруг еды. Еще до бар-мицвы я высмеивал ортодоксальные правила потребления пищи. Эти правила – просто анекдот какой-то: они бессмысленны и, более того, отсекают меня от остальных американцев. Когда я иду на бейсбольный матч «Вашингтон Сенаторз» (стадион «Гриффит» находится всего в паре кварталов от магазина моего отца), я, в отличие от друзей, не могу съесть хот-дог. Запрещены даже яичный салат или сэндвич с запеченным сыром, потому что, как объясняет мой отец, нож, которым режут сэндвич, мог использоваться для нарезки сэндвича с ветчиной. Тогда я возражаю: «А я попрошу, чтобы его не резали». «Нет! Подумай о тарелке, на которую могли класть ветчину, – говорят мне отец или мать. – Трейф, все это трейф». Можете представить себе, доктор Ялом, каково слышать это, когда тебе тринадцать? Безумие! Вселенная огромна – триллионы звезд, рождающихся и умирающих, природные катастрофы, случающиеся на земле каждую минуту, – а мои родители утверждают, что Богу больше нечем заняться, кроме как проверять ножи в закусочной на наличие молекул ветчины?!
Доктор Ялом: Ты серьезно? Ты действительно так мыслишь в столь юном возрасте?
Ирвин: Всегда! Я интересуюсь астрономией, я сам собрал телескоп, и всякий раз, когда я гляжу в небо, меня просто потрясает, насколько крохотны и незначительны мы в этом великом порядке вещей. Мне кажется очевидным, что древние пытались справиться с чувством собственной незначительности, изобретя какого-то бога, который считал нас, людей, столь важными птицами, что ему понадобилось уделять все свое внимание надзору за каждым нашим поступком. А еще мне кажется очевидным, что мы пытаемся смягчить сам факт смертности, изобретя небеса и другие фантазии со сказками, у которых есть одна общая тема – «мы не умираем», мы продолжаем существовать, переходя в иную реальность.
Доктор Ялом: У тебя действительно возникают такие мысли в твоем возрасте?
Ирвин: У меня они возникают столько, сколько я себя помню. Я держу их при себе. Но, говоря начистоту и строго между нами, я считаю религии и идеи о жизни после смерти самым затянувшимся мошенничеством в мире. Оно служит определенной цели – обеспечивает религиозным вождям комфортную жизнь и смягчает страх человечества перед смертью. Но какой ценой! Это делает нас инфантильными, мешает разглядеть естественный порядок вещей.
Доктор Ялом: Мошенничество? Какое резкое суждение! Почему ты так стремишься оскорбить несколько миллиардов людей?
Ирвин: Эй-эй, вы же сами просили меня свободно ассоциировать! Помните? Обычно я держу все это при себе.
Доктор Ялом: Совершенно верно. Я действительно просил тебя об этом, ты сделал, как я сказал, а теперь я тебя за это же шпыняю. Приношу свои извинения. И позволь спросить тебя о кое-чем еще. Ты говоришь о страхе смерти и жизни после смерти. Мне интересны твои личные переживания, связанные со смертью.
Ирвин: Первое воспоминание – смерть моей кошки. Мне тогда было лет десять. Мы всегда держали в магазине пару кошек, чтобы они ловили мышей и крыс, и я часто играл с ними. И вот одну из них, мою любимицу – забыл, как ее звали, – сбила машина. Я нашел ее у обочины; она еще дышала. Я побежал в магазин, добыл из ларя с мясом (мой отец был заодно и мясником) кусок печенки, отрезал маленький ломтик и поднес его прямо к мордочке кошки. Печенка была ее любимой едой. Но она не стала есть, и вскоре ее глаза закрылись навсегда. Знаете, мне стыдно, что я забыл ее имя и называю просто «кошкой», ведь мы вместе провели немало замечательных часов, когда она сидела у меня на коленях, громко мурлыча, а я поглаживал ее, читая книгу.
Если говорить о смерти человека… В третьем классе начальной школы вместе со мной учился один мальчик. Я не помню его имени, но, кажется, мы звали его по инициалам – Эл-И. У него были белые волосы – наверное, он был альбиносом, – и его мать давала ему с собой в школу необычные бутерброды, например, с сыром и маринованным огурцом. Я никогда прежде не слышал, что в бутерброды можно класть маринованные огурцы. Так странно, что некоторые случайные вещи столь глубоко западают в память!
Однажды Эл-И не пришел в школу, а на следующий день учительница объявила, что он заболел и умер. Вот и все. Я не припоминаю никакой конкретной реакции – ни своей, ни кого-либо из моих одноклассников. Но во всем этом есть один необычный момент: лицо Эл-И отчетливо запечатлелось в моей памяти. Я до сих пор могу его ясно представить: это удивленное выражение лица, белесые волосы, стоящие торчком из-за короткой стрижки…
Доктор Ялом: И это необычно – потому что…
Ирвин: Необычно, что его образ остался таким четким. Это странно, потому что я не слишком близко его знал. Кажется, он учился в моем классе всего год. Более того, он чем-то болел, и мать сама возила его в школу и из школы, так что мы никогда не играли и не возвращались домой вместе. В классе было много других детей, которых я знал гораздо лучше, однако их лиц я совершенно не помню.
Доктор Ялом: И это означает, что…
Ирвин: Это, очевидно, означает, что смерть привлекла мое внимание, но я предпочел не думать о ней напрямую.
Доктор Ялом: Случались ли моменты, когда ты все же думал о ней напрямую?
Ирвин: Это довольно туманное воспоминание. Я помню, как однажды бродил по своему району, наигравшись на пинбольном автомате в дешевом магазинчике. И на меня – буквально как гром среди ясного неба – обрушилась мысль, что я тоже умру, как и все остальные, ныне живущие или жившие когда-то. Это единственное, что я помню – помимо того, что этот момент стал для меня первым осознанием собственной смертности. А еще я не мог подолгу думать об этом и, разумеется, никогда ни с кем об этом не говорил. До этого нашего разговора.
Доктор Ялом: Почему «разумеется»?
Ирвин: Моя жизнь – это жизнь очень замкнутого человека. Я ни с кем не могу поделиться такими мыслями.
Доктор Ялом: Означает ли замкнутость одиночество?
Ирвин: О да!
Доктор Ялом: Что приходит тебе на ум, когда ты думаешь об «одиночестве»?
Ирвин: Я представляю, как еду на велосипеде по старому Солджерс Хоум. Это был такой большой парк, примерно в десяти кварталах от отцовского магазина…
Доктор Ялом: Ты всегда говоришь «отцовский магазин», а не «мой дом».
Ирвин: Да, это вы хорошо подметили, доктор Ялом! Я тоже только что обратил на это внимание. Мне ужасно стыдно за свой дом… Мне приходит на ум… Я ведь по-прежнему свободно ассоциирую, верно?
Доктор Ялом: Верно. Продолжай.
Ирвин: На ум сразу приходит субботний вечер и празднование дня рождения, на которое меня пригласили, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, в очень богатом доме – я такие видел только в голливудских фильмах, а больше нигде. Это был дом девочки по имени Джуди Стейнберг, с которой я познакомился и в которую влюбился в летнем лагере, – кажется, мы даже целовались. Мать отвезла меня в гости, но приехать и забрать не смогла, потому что в магазине вечером шла самая горячая торговля. Так что после вечеринки Джуди с матерью повезли меня домой. Я ощущал беспросветное унижение при мысли, что они увидят нашу халупу! Поэтому я попросил их высадить меня раньше, за несколько домов от моего, у скромного, но более приличного коттеджа, и притворился, что живу в нем. Я стоял на крыльце и махал им, пока они не уехали. Но сомневаюсь, что мне удалось их обмануть. При одной мысли об этом меня передергивает.
Доктор Ялом: Давай вернемся к тому, что ты говорил раньше. Расскажи мне подробнее о своих одиноких велосипедных прогулках в парке Солджерс Хоум.
Ирвин: Это был чудесный парк, занимавший несколько сотен акров и почти пустой, если не считать нескольких домов для больных или престарелых ветеранов. Я считаю эти велосипедные прогулки своими лучшими детскими воспоминаниями… Я лечу вниз с пологих длинных холмов, ветер бьет в лицо, я чувствую себя свободным и декламирую вслух стихи. Моя сестра выбрала в колледже курс викторианской поэзии. Когда она его окончила, я взял у нее учебник и перечитывал его снова и снова, запоминая простые стихи с сильным ритмом – например, «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда; некоторые стихи из сборника «Шропширский парень» Хаусмена – «О вишня, всех дерев милей…» и «Двадцатилетний и одинокий»; кое-что из фицджеральдовских переводов Омара Хайяма; «Шильонский узник» Байрона и стихи Теннисона. Одной из моих любимых была баллада «Ганга Дин» Киплинга. Я до сих пор храню фонографическую запись этого стихотворения, которую сделал в маленькой студии звукозаписи неподалеку от бейсбольного стадиона, когда мне было тринадцать. На одной ее стороне была записана моя речь для бар-мицвы (естественно, на английском), а на обороте я декламировал «Ганга Дин» и «Атаку легкой бригады» Теннисона. Да, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что эти моменты, когда я несся с холма под певучие строки стихов, были для меня самыми счастливыми.
Доктор Ялом: Наше время почти истекло, но прежде чем мы прервемся, позволь мне сказать, что я оценил масштаб трудностей, с которыми ты сталкиваешься. Ты застрял между двумя мирами: ты не знаешь и не уважаешь прежний мир, но пока еще не видишь врат нового. Это порождает сильную тревожность, и тебе понадобится длительная психотерапия, чтобы с ней справиться. Я рад, что ты решил прийти повидаться со мной, – ты небезнадежен, и у меня есть предчувствие, что с тобой все будет в порядке.
Глава седьмая
Игрок
Восемь часов. Утро среды. Я позавтракал и иду по дорожке через сад к своему кабинету, останавливаясь ненадолго, чтобы поздороваться с бонсаем и выдернуть пару сорняков. Я знаю, что эти травки тоже имеют право на существование, но не могу позволить им пить воду, которая нужна бонсаю. Я очень доволен – у меня впереди четыре часа, которые я безраздельно посвящу писательству. Я горю нетерпением приступить к работе, но, как всегда, не могу удержаться и проверяю электронную почту, обещая себе, что потрачу на ответы не более тридцати минут. Первое сообщение приветствует меня.
Напоминание: СЕГОДНЯ ИГРА у меня дома. Двери открываются в 6:15. Вас ждет превосходное угощение. Есть придется быстро – игра начинается ровно в 6:45. Тащите чемодан денег! Кеван
Первый порыв – сразу удалить письмо, но я останавливаю себя и пытаюсь прочувствовать пронзающую меня тоску. Я начал играть в покер более сорока лет назад, но больше играть не могу, поскольку непоправимо ухудшившееся зрение делает игру слишком дорогостоящей: неверное распознавание карт каждый раз обходится мне как минимум в одну-две крупные ставки. Я долго упорствовал, не желая отказываться от покера. Старение – это когда сдаешь одну чертову позицию за другой. Я не играю уже около четырех лет, но приятели продолжают присылать мне приглашения в знак любезности.
Я отказался и от тенниса, и от бега трусцой, и от плавания с аквалангом, но отказ от покера – это совсем другое дело. Прочие занятия в большей степени являются «сольными», в то время как покер – социальное времяпрепровождение: эти милые люди были моими товарищами по играм, и я очень по ним скучаю. О, конечно, время от времени мы собираемся вместе на обед (бросаем монетки или наскоро играем один круг покера за ресторанным столиком, чтобы решить, кто оплатит счет), но это не то же самое: мне не хватает драйва, ощущения риска.
Я всегда обожал трепет, вызываемый азартными играми, но теперь все, что мне осталось, – это подбивать на пари свою жену. Пари насчет совершенно дурацких вещей: к примеру, она хочет, чтобы я надел на званый вечер галстук, а я отвечаю: «Спорим на двадцать долларов, что сегодня на вечеринке не будет ни одного мужчины в галстуке?» В прошлом жена не обращала внимания на мои подначки, но с тех пор, как я перестал играть в покер, она время от времени подыгрывает мне, соглашаясь побиться об заклад.
Такие игры давно стали частью моей жизни. Насколько давно? Телефонный разговор, случившийся пару лет назад, принес кое-какие ответы. Это был Шелли Фишер, с которым я учился до пятого класса и с тех пор не разговаривал. У Шелли есть внучатая племянница. Она учится на психолога, и недавно, во время ее приезда в гости, Шелли увидел, что она читает одну из моих книг, «Дар психотерапии». «Эй, да я же знаком с этим парнем!» – воскликнул он.
Он нашел номер моей сестры в телефонном справочнике Вашингтона и позвонил ей, чтобы попросить мой номер. Мы с Шелли долго беседовали, предаваясь воспоминаниям, как каждый день вместе ходили в школу, как играли в боулинг, в карты и степбол, как собирали бейсбольные карточки.
На следующий день Шел снова позвонил мне: «Ирв, вчера ты говорил, что тебе нужна обратная связь. Так вот, я только что вспомнил еще одну вещь о тебе: у тебя была проблема с азартными играми. Ты заставлял меня играть в кункен[12 - Азартная карточная игра, возникшая в Греции. – Прим. науч. ред.] с бейсбольными карточками в качестве ставок. Ты хотел заключать пари буквально на все: помню, как-то раз тебе вздумалось биться о заклад по поводу цвета следующей машины, которая проедет по улице. И я помню, с каким азартом ты играл в нелегальную лотерею»[13 - Азартная игра, распространенная в основном в бедных районах США. В ней требовалось угадать три цифры, которые будут случайным образом выбраны и объявлены на следующий день. – Прим. науч. ред.].
«Играл в нелегальную лотерею» – много лет я и не думал об этом. Слова Шелли разбудили старинное воспоминание. Когда мне было одиннадцать-двенадцать, отец превратил свою продуктовую лавку в магазин спиртных напитков, и жизнь моих родителей стала чуточку легче: больше не нужно было выбрасывать испортившиеся продукты, ездить в пять утра на оптовый продуктовый рынок, разделывать говяжьи туши. Но жизнь стала и более опасной: ограбления в наших местах были не такой уж редкостью, и по субботним вечерам в подсобке нашего магазина прятался вооруженный охранник. Днем магазин наводняли весьма одиозные персонажи: среди наших постоянных покупателей были сутенеры, проститутки, воры, просто любители выпить и горькие пьяницы, букмекеры и сборщики ставок в нелегальных лотереях.
Как-то раз я помогал отцу отнести заказ – несколько ящиков скотча и бурбона – в машину Дюка. Дюк был одним из наших лучших покупателей, и я восхищался его стилем: трость с набалдашником из слоновой кости, изысканное голубое двубортное пальто из кашемира, голубая мягкая фетровая шляпа в тон и сверкающий белый «Кадиллак» длиною в милю. Когда мы добрались до машины, припаркованной в переулочке в полуквартале от магазина, я спросил, следует ли мне поставить ящик в багажник, и отец с Дюком хмыкнули в ответ.
«Дюк, а не показать ли ему твой багажник?» – предложил отец. Дюк милостиво открыл багажник «Кадиллака» и сказал: «Здесь не так уж много места, сынок!» Я заглянул внутрь, и глаза у меня полезли на лоб. Семьдесят лет спустя я по-прежнему ясно вижу эту сцену: багажник был доверху забит стопками наличных – банкнот всевозможных номиналов, перевязанных толстыми резинками, а несколько больших брезентовых мешков распирало от монет, пересыпавшихся через край.
Дюк занимался нелегальной лотереей. Вот как это было устроено: каждый день игроки в моем районе делали ставки (часто совсем маленькие – десять центов) на трехзначное число у своих «жучков». Если они угадывали верно, то «попадали в масть, черт возьми», и им выплачивали шестьдесят долларов на десятицентовую ставку – шанс составлял 1 к 600. Но, разумеется, реальный шанс составлял 1 к 1000, так что букмекеры гребли прибыли лопатой. Этим ежедневно обновлявшимся числом нельзя было манипулировать, оно выводилось по известной всем формуле, основанной на общей сумме, которую поставили на трех избранных забегах на местных скачках. Хотя очевидно, что шансы были против игроков, существовали и два момента в их пользу: маленькие суммы ставок и неумирающая надежда на внезапную улыбку фортуны. Эта надежда слегка облегчала постоянное отчаяние этих людей, вызванное нищетой.
Доктор Ялом: Как ты это объясняешь?
Ирвин: Наверное, они хотят избавить нас от ужасов. Я помню послепобедные выпуски новостей в кинотеатрах, где показывали лагеря и горы трупов, которые сгребали бульдозерами. Я был в шоке – я был совершенно не готов к такому и, боюсь, никогда не смогу забыть это зрелище.
Доктор Ялом: Ты знаешь, чего родители хотят для тебя?
Ирвин: Да – чтобы я получил образование и был американцем. Они мало знают об этом новом мире. Когда они прибыли в Соединенные Штаты, у них не было никакого официального образования – я имею в виду, никакого вообще… если не считать обязательных курсов для тех, кто хочет стать гражданами США. Как и большинство известных мне евреев, они – «люди книги», и я полагаю… нет, знаю, что они радуются всякий раз, видя меня за книгой. Они никогда не мешают мне, когда я читаю. Однако я не вижу у них никаких признаков желания просвещаться самим. Думаю, родители понимают, что эта возможность для них упущена – настолько они задавлены тяжким трудом. Каждый вечер они с ног валятся от усталости. Должно быть, это вызывает у них смешанные чувства: они усердно трудятся, чтобы я мог получить такую роскошь, как образование, но при этом не могут не понимать, что каждая книга, каждая прочитанная мною страница уводят меня все дальше и дальше от них.
Доктор Ялом: Я все думаю о том, как ты ел эти гамбургеры из «Литл Таверн»… Это был первый шаг. Как звук рожка, возвещающий начало долгой кампании.
Ирвин: Да, я развязал долгую войну за независимость, и все ее первые стычки были вокруг еды. Еще до бар-мицвы я высмеивал ортодоксальные правила потребления пищи. Эти правила – просто анекдот какой-то: они бессмысленны и, более того, отсекают меня от остальных американцев. Когда я иду на бейсбольный матч «Вашингтон Сенаторз» (стадион «Гриффит» находится всего в паре кварталов от магазина моего отца), я, в отличие от друзей, не могу съесть хот-дог. Запрещены даже яичный салат или сэндвич с запеченным сыром, потому что, как объясняет мой отец, нож, которым режут сэндвич, мог использоваться для нарезки сэндвича с ветчиной. Тогда я возражаю: «А я попрошу, чтобы его не резали». «Нет! Подумай о тарелке, на которую могли класть ветчину, – говорят мне отец или мать. – Трейф, все это трейф». Можете представить себе, доктор Ялом, каково слышать это, когда тебе тринадцать? Безумие! Вселенная огромна – триллионы звезд, рождающихся и умирающих, природные катастрофы, случающиеся на земле каждую минуту, – а мои родители утверждают, что Богу больше нечем заняться, кроме как проверять ножи в закусочной на наличие молекул ветчины?!
Доктор Ялом: Ты серьезно? Ты действительно так мыслишь в столь юном возрасте?
Ирвин: Всегда! Я интересуюсь астрономией, я сам собрал телескоп, и всякий раз, когда я гляжу в небо, меня просто потрясает, насколько крохотны и незначительны мы в этом великом порядке вещей. Мне кажется очевидным, что древние пытались справиться с чувством собственной незначительности, изобретя какого-то бога, который считал нас, людей, столь важными птицами, что ему понадобилось уделять все свое внимание надзору за каждым нашим поступком. А еще мне кажется очевидным, что мы пытаемся смягчить сам факт смертности, изобретя небеса и другие фантазии со сказками, у которых есть одна общая тема – «мы не умираем», мы продолжаем существовать, переходя в иную реальность.
Доктор Ялом: У тебя действительно возникают такие мысли в твоем возрасте?
Ирвин: У меня они возникают столько, сколько я себя помню. Я держу их при себе. Но, говоря начистоту и строго между нами, я считаю религии и идеи о жизни после смерти самым затянувшимся мошенничеством в мире. Оно служит определенной цели – обеспечивает религиозным вождям комфортную жизнь и смягчает страх человечества перед смертью. Но какой ценой! Это делает нас инфантильными, мешает разглядеть естественный порядок вещей.
Доктор Ялом: Мошенничество? Какое резкое суждение! Почему ты так стремишься оскорбить несколько миллиардов людей?
Ирвин: Эй-эй, вы же сами просили меня свободно ассоциировать! Помните? Обычно я держу все это при себе.
Доктор Ялом: Совершенно верно. Я действительно просил тебя об этом, ты сделал, как я сказал, а теперь я тебя за это же шпыняю. Приношу свои извинения. И позволь спросить тебя о кое-чем еще. Ты говоришь о страхе смерти и жизни после смерти. Мне интересны твои личные переживания, связанные со смертью.
Ирвин: Первое воспоминание – смерть моей кошки. Мне тогда было лет десять. Мы всегда держали в магазине пару кошек, чтобы они ловили мышей и крыс, и я часто играл с ними. И вот одну из них, мою любимицу – забыл, как ее звали, – сбила машина. Я нашел ее у обочины; она еще дышала. Я побежал в магазин, добыл из ларя с мясом (мой отец был заодно и мясником) кусок печенки, отрезал маленький ломтик и поднес его прямо к мордочке кошки. Печенка была ее любимой едой. Но она не стала есть, и вскоре ее глаза закрылись навсегда. Знаете, мне стыдно, что я забыл ее имя и называю просто «кошкой», ведь мы вместе провели немало замечательных часов, когда она сидела у меня на коленях, громко мурлыча, а я поглаживал ее, читая книгу.
Если говорить о смерти человека… В третьем классе начальной школы вместе со мной учился один мальчик. Я не помню его имени, но, кажется, мы звали его по инициалам – Эл-И. У него были белые волосы – наверное, он был альбиносом, – и его мать давала ему с собой в школу необычные бутерброды, например, с сыром и маринованным огурцом. Я никогда прежде не слышал, что в бутерброды можно класть маринованные огурцы. Так странно, что некоторые случайные вещи столь глубоко западают в память!
Однажды Эл-И не пришел в школу, а на следующий день учительница объявила, что он заболел и умер. Вот и все. Я не припоминаю никакой конкретной реакции – ни своей, ни кого-либо из моих одноклассников. Но во всем этом есть один необычный момент: лицо Эл-И отчетливо запечатлелось в моей памяти. Я до сих пор могу его ясно представить: это удивленное выражение лица, белесые волосы, стоящие торчком из-за короткой стрижки…
Доктор Ялом: И это необычно – потому что…
Ирвин: Необычно, что его образ остался таким четким. Это странно, потому что я не слишком близко его знал. Кажется, он учился в моем классе всего год. Более того, он чем-то болел, и мать сама возила его в школу и из школы, так что мы никогда не играли и не возвращались домой вместе. В классе было много других детей, которых я знал гораздо лучше, однако их лиц я совершенно не помню.
Доктор Ялом: И это означает, что…
Ирвин: Это, очевидно, означает, что смерть привлекла мое внимание, но я предпочел не думать о ней напрямую.
Доктор Ялом: Случались ли моменты, когда ты все же думал о ней напрямую?
Ирвин: Это довольно туманное воспоминание. Я помню, как однажды бродил по своему району, наигравшись на пинбольном автомате в дешевом магазинчике. И на меня – буквально как гром среди ясного неба – обрушилась мысль, что я тоже умру, как и все остальные, ныне живущие или жившие когда-то. Это единственное, что я помню – помимо того, что этот момент стал для меня первым осознанием собственной смертности. А еще я не мог подолгу думать об этом и, разумеется, никогда ни с кем об этом не говорил. До этого нашего разговора.
Доктор Ялом: Почему «разумеется»?
Ирвин: Моя жизнь – это жизнь очень замкнутого человека. Я ни с кем не могу поделиться такими мыслями.
Доктор Ялом: Означает ли замкнутость одиночество?
Ирвин: О да!
Доктор Ялом: Что приходит тебе на ум, когда ты думаешь об «одиночестве»?
Ирвин: Я представляю, как еду на велосипеде по старому Солджерс Хоум. Это был такой большой парк, примерно в десяти кварталах от отцовского магазина…
Доктор Ялом: Ты всегда говоришь «отцовский магазин», а не «мой дом».
Ирвин: Да, это вы хорошо подметили, доктор Ялом! Я тоже только что обратил на это внимание. Мне ужасно стыдно за свой дом… Мне приходит на ум… Я ведь по-прежнему свободно ассоциирую, верно?
Доктор Ялом: Верно. Продолжай.
Ирвин: На ум сразу приходит субботний вечер и празднование дня рождения, на которое меня пригласили, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, в очень богатом доме – я такие видел только в голливудских фильмах, а больше нигде. Это был дом девочки по имени Джуди Стейнберг, с которой я познакомился и в которую влюбился в летнем лагере, – кажется, мы даже целовались. Мать отвезла меня в гости, но приехать и забрать не смогла, потому что в магазине вечером шла самая горячая торговля. Так что после вечеринки Джуди с матерью повезли меня домой. Я ощущал беспросветное унижение при мысли, что они увидят нашу халупу! Поэтому я попросил их высадить меня раньше, за несколько домов от моего, у скромного, но более приличного коттеджа, и притворился, что живу в нем. Я стоял на крыльце и махал им, пока они не уехали. Но сомневаюсь, что мне удалось их обмануть. При одной мысли об этом меня передергивает.
Доктор Ялом: Давай вернемся к тому, что ты говорил раньше. Расскажи мне подробнее о своих одиноких велосипедных прогулках в парке Солджерс Хоум.
Ирвин: Это был чудесный парк, занимавший несколько сотен акров и почти пустой, если не считать нескольких домов для больных или престарелых ветеранов. Я считаю эти велосипедные прогулки своими лучшими детскими воспоминаниями… Я лечу вниз с пологих длинных холмов, ветер бьет в лицо, я чувствую себя свободным и декламирую вслух стихи. Моя сестра выбрала в колледже курс викторианской поэзии. Когда она его окончила, я взял у нее учебник и перечитывал его снова и снова, запоминая простые стихи с сильным ритмом – например, «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда; некоторые стихи из сборника «Шропширский парень» Хаусмена – «О вишня, всех дерев милей…» и «Двадцатилетний и одинокий»; кое-что из фицджеральдовских переводов Омара Хайяма; «Шильонский узник» Байрона и стихи Теннисона. Одной из моих любимых была баллада «Ганга Дин» Киплинга. Я до сих пор храню фонографическую запись этого стихотворения, которую сделал в маленькой студии звукозаписи неподалеку от бейсбольного стадиона, когда мне было тринадцать. На одной ее стороне была записана моя речь для бар-мицвы (естественно, на английском), а на обороте я декламировал «Ганга Дин» и «Атаку легкой бригады» Теннисона. Да, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что эти моменты, когда я несся с холма под певучие строки стихов, были для меня самыми счастливыми.
Доктор Ялом: Наше время почти истекло, но прежде чем мы прервемся, позволь мне сказать, что я оценил масштаб трудностей, с которыми ты сталкиваешься. Ты застрял между двумя мирами: ты не знаешь и не уважаешь прежний мир, но пока еще не видишь врат нового. Это порождает сильную тревожность, и тебе понадобится длительная психотерапия, чтобы с ней справиться. Я рад, что ты решил прийти повидаться со мной, – ты небезнадежен, и у меня есть предчувствие, что с тобой все будет в порядке.
Глава седьмая
Игрок
Восемь часов. Утро среды. Я позавтракал и иду по дорожке через сад к своему кабинету, останавливаясь ненадолго, чтобы поздороваться с бонсаем и выдернуть пару сорняков. Я знаю, что эти травки тоже имеют право на существование, но не могу позволить им пить воду, которая нужна бонсаю. Я очень доволен – у меня впереди четыре часа, которые я безраздельно посвящу писательству. Я горю нетерпением приступить к работе, но, как всегда, не могу удержаться и проверяю электронную почту, обещая себе, что потрачу на ответы не более тридцати минут. Первое сообщение приветствует меня.
Напоминание: СЕГОДНЯ ИГРА у меня дома. Двери открываются в 6:15. Вас ждет превосходное угощение. Есть придется быстро – игра начинается ровно в 6:45. Тащите чемодан денег! Кеван
Первый порыв – сразу удалить письмо, но я останавливаю себя и пытаюсь прочувствовать пронзающую меня тоску. Я начал играть в покер более сорока лет назад, но больше играть не могу, поскольку непоправимо ухудшившееся зрение делает игру слишком дорогостоящей: неверное распознавание карт каждый раз обходится мне как минимум в одну-две крупные ставки. Я долго упорствовал, не желая отказываться от покера. Старение – это когда сдаешь одну чертову позицию за другой. Я не играю уже около четырех лет, но приятели продолжают присылать мне приглашения в знак любезности.
Я отказался и от тенниса, и от бега трусцой, и от плавания с аквалангом, но отказ от покера – это совсем другое дело. Прочие занятия в большей степени являются «сольными», в то время как покер – социальное времяпрепровождение: эти милые люди были моими товарищами по играм, и я очень по ним скучаю. О, конечно, время от времени мы собираемся вместе на обед (бросаем монетки или наскоро играем один круг покера за ресторанным столиком, чтобы решить, кто оплатит счет), но это не то же самое: мне не хватает драйва, ощущения риска.
Я всегда обожал трепет, вызываемый азартными играми, но теперь все, что мне осталось, – это подбивать на пари свою жену. Пари насчет совершенно дурацких вещей: к примеру, она хочет, чтобы я надел на званый вечер галстук, а я отвечаю: «Спорим на двадцать долларов, что сегодня на вечеринке не будет ни одного мужчины в галстуке?» В прошлом жена не обращала внимания на мои подначки, но с тех пор, как я перестал играть в покер, она время от времени подыгрывает мне, соглашаясь побиться об заклад.
Такие игры давно стали частью моей жизни. Насколько давно? Телефонный разговор, случившийся пару лет назад, принес кое-какие ответы. Это был Шелли Фишер, с которым я учился до пятого класса и с тех пор не разговаривал. У Шелли есть внучатая племянница. Она учится на психолога, и недавно, во время ее приезда в гости, Шелли увидел, что она читает одну из моих книг, «Дар психотерапии». «Эй, да я же знаком с этим парнем!» – воскликнул он.
Он нашел номер моей сестры в телефонном справочнике Вашингтона и позвонил ей, чтобы попросить мой номер. Мы с Шелли долго беседовали, предаваясь воспоминаниям, как каждый день вместе ходили в школу, как играли в боулинг, в карты и степбол, как собирали бейсбольные карточки.
На следующий день Шел снова позвонил мне: «Ирв, вчера ты говорил, что тебе нужна обратная связь. Так вот, я только что вспомнил еще одну вещь о тебе: у тебя была проблема с азартными играми. Ты заставлял меня играть в кункен[12 - Азартная карточная игра, возникшая в Греции. – Прим. науч. ред.] с бейсбольными карточками в качестве ставок. Ты хотел заключать пари буквально на все: помню, как-то раз тебе вздумалось биться о заклад по поводу цвета следующей машины, которая проедет по улице. И я помню, с каким азартом ты играл в нелегальную лотерею»[13 - Азартная игра, распространенная в основном в бедных районах США. В ней требовалось угадать три цифры, которые будут случайным образом выбраны и объявлены на следующий день. – Прим. науч. ред.].
«Играл в нелегальную лотерею» – много лет я и не думал об этом. Слова Шелли разбудили старинное воспоминание. Когда мне было одиннадцать-двенадцать, отец превратил свою продуктовую лавку в магазин спиртных напитков, и жизнь моих родителей стала чуточку легче: больше не нужно было выбрасывать испортившиеся продукты, ездить в пять утра на оптовый продуктовый рынок, разделывать говяжьи туши. Но жизнь стала и более опасной: ограбления в наших местах были не такой уж редкостью, и по субботним вечерам в подсобке нашего магазина прятался вооруженный охранник. Днем магазин наводняли весьма одиозные персонажи: среди наших постоянных покупателей были сутенеры, проститутки, воры, просто любители выпить и горькие пьяницы, букмекеры и сборщики ставок в нелегальных лотереях.
Как-то раз я помогал отцу отнести заказ – несколько ящиков скотча и бурбона – в машину Дюка. Дюк был одним из наших лучших покупателей, и я восхищался его стилем: трость с набалдашником из слоновой кости, изысканное голубое двубортное пальто из кашемира, голубая мягкая фетровая шляпа в тон и сверкающий белый «Кадиллак» длиною в милю. Когда мы добрались до машины, припаркованной в переулочке в полуквартале от магазина, я спросил, следует ли мне поставить ящик в багажник, и отец с Дюком хмыкнули в ответ.
«Дюк, а не показать ли ему твой багажник?» – предложил отец. Дюк милостиво открыл багажник «Кадиллака» и сказал: «Здесь не так уж много места, сынок!» Я заглянул внутрь, и глаза у меня полезли на лоб. Семьдесят лет спустя я по-прежнему ясно вижу эту сцену: багажник был доверху забит стопками наличных – банкнот всевозможных номиналов, перевязанных толстыми резинками, а несколько больших брезентовых мешков распирало от монет, пересыпавшихся через край.
Дюк занимался нелегальной лотереей. Вот как это было устроено: каждый день игроки в моем районе делали ставки (часто совсем маленькие – десять центов) на трехзначное число у своих «жучков». Если они угадывали верно, то «попадали в масть, черт возьми», и им выплачивали шестьдесят долларов на десятицентовую ставку – шанс составлял 1 к 600. Но, разумеется, реальный шанс составлял 1 к 1000, так что букмекеры гребли прибыли лопатой. Этим ежедневно обновлявшимся числом нельзя было манипулировать, оно выводилось по известной всем формуле, основанной на общей сумме, которую поставили на трех избранных забегах на местных скачках. Хотя очевидно, что шансы были против игроков, существовали и два момента в их пользу: маленькие суммы ставок и неумирающая надежда на внезапную улыбку фортуны. Эта надежда слегка облегчала постоянное отчаяние этих людей, вызванное нищетой.