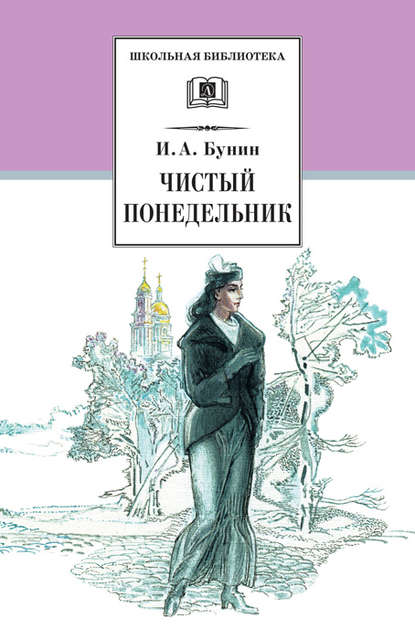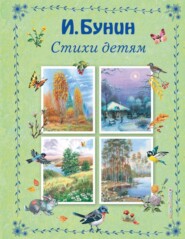По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чистый понедельник (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С Богом! – говорит подавальщик.
И первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле… Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок…
Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара…
На сумерки буен ветер загулял,
Широки? мои ворота растворял, —
начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:
Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал…
1900
Сосны[7 - Сосны (с. 47). – Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь.В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает, что Бунин послал Чехову «оттиск… рассказа» («Жизнь Бунина», с. 133). Чехов ответил письмом: «Во-первых, большое спасибо за присланный оттиск, во-вторых, „Сосны" – это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона» (Чехов А. П. Собр. соч. Т. 12. М., 1964. С. 428–429).]
I
Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи…
Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году…
«Чем не сказочный бор?» – думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.
– Есть ли жив-человек в этих хижинах? – говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.
Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»
Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью… И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.
В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне, – не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.
Ходит сон по сеням,
А дрёма по дверям, —
поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.
Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза.
– Спите? – спрашивает Федосья осторожным шепотом.
– Нет… А что? Это ты, Федосья?
– Я-с, – отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. – Ай я вас разбудила?
– Нет… Ты что?
Вместо ответа Федосья оборачивается к двери – хорошо ли притворила? – и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.
– Там пыль! – говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке. – Что, давно вечер-то по часам?
– Половина десятого.
Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:
– Ах, Господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут – замерзнут!
И вдруг быстро прибавляет:
– Постойте, – в каком ухе звенит?
– В правом, – отвечаю я. – Нынче они не поедут…
– Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится…
И, увлеченная думами о вьюге, Федосья начинает:
– Так-то на со?роки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось…
Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве, – певуче и глухо говорит во мне голос старика пастуха, который часто рассказывает мне сказки, – не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша…»
Лес гудит, точно ветер дует в тысячу эоловых арф, заглушённых стенами и вьюгой. «Ходит сон по сеням, а дрема по дверям», и, намаявшись за день, поевши «соснового» хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых Ты, Господи, веси!
Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.
– Ох, Господи! – говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь. – Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? – прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.
– Рано еще…
– А мой сгад – нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!
Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.
Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.
– Хорошо у нас! – говорил он мне часто. – Главное дело – лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда: есть лес – в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился… Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной – и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по лесу – лес из лесу выходит, синеет, а там прогалина, крест из села виден… Придешь, заснешь – глядь, уж опять утро и опять пошел на работу… была бы шея – хомут найдется! Говорят – живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить, – не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано, – и шабаш.
И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу – Митрофан шел беспрекословно… И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы, – перед смертью.
– За траву не удержишься! – говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу.
И кто знает, – не прав ли был он?
«Умер, погиб, не выдержал, – значит, так надо!» – думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.
В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, смутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, – совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией Матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу…
На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но ох как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть… Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул орга?на. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная куда…
И первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле… Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок…
Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара…
На сумерки буен ветер загулял,
Широки? мои ворота растворял, —
начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:
Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал…
1900
Сосны[7 - Сосны (с. 47). – Журн. «Мир Божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь.В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает, что Бунин послал Чехову «оттиск… рассказа» («Жизнь Бунина», с. 133). Чехов ответил письмом: «Во-первых, большое спасибо за присланный оттиск, во-вторых, „Сосны" – это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона» (Чехов А. П. Собр. соч. Т. 12. М., 1964. С. 428–429).]
I
Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи…
Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году…
«Чем не сказочный бор?» – думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.
– Есть ли жив-человек в этих хижинах? – говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.
Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»
Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью… И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.
В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне, – не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.
Ходит сон по сеням,
А дрёма по дверям, —
поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.
Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза.
– Спите? – спрашивает Федосья осторожным шепотом.
– Нет… А что? Это ты, Федосья?
– Я-с, – отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. – Ай я вас разбудила?
– Нет… Ты что?
Вместо ответа Федосья оборачивается к двери – хорошо ли притворила? – и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.
– Там пыль! – говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке. – Что, давно вечер-то по часам?
– Половина десятого.
Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:
– Ах, Господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут – замерзнут!
И вдруг быстро прибавляет:
– Постойте, – в каком ухе звенит?
– В правом, – отвечаю я. – Нынче они не поедут…
– Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится…
И, увлеченная думами о вьюге, Федосья начинает:
– Так-то на со?роки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось…
Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве, – певуче и глухо говорит во мне голос старика пастуха, который часто рассказывает мне сказки, – не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша…»
Лес гудит, точно ветер дует в тысячу эоловых арф, заглушённых стенами и вьюгой. «Ходит сон по сеням, а дрема по дверям», и, намаявшись за день, поевши «соснового» хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых Ты, Господи, веси!
Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.
– Ох, Господи! – говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь. – Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? – прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.
– Рано еще…
– А мой сгад – нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!
Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.
Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.
– Хорошо у нас! – говорил он мне часто. – Главное дело – лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда: есть лес – в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажился… Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной – и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по лесу – лес из лесу выходит, синеет, а там прогалина, крест из села виден… Придешь, заснешь – глядь, уж опять утро и опять пошел на работу… была бы шея – хомут найдется! Говорят – живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить, – не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано, – и шабаш.
И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу – Митрофан шел беспрекословно… И разладила его путь только болезнь, когда пришлось пролежать больше месяца в темноте избы, – перед смертью.
– За траву не удержишься! – говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу.
И кто знает, – не прав ли был он?
«Умер, погиб, не выдержал, – значит, так надо!» – думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.
В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, смутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, – совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией Матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу…
На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но ох как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть… Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул орга?на. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная куда…