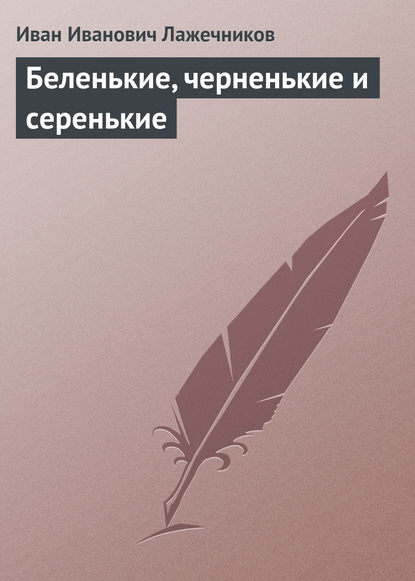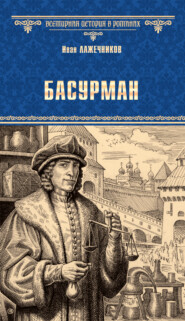По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беленькие, черненькие и серенькие
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Довольно было всех этих выходок, чтобы ожесточить мужа. Но, как вспышки, они скоро проходили, уступая глубокому, искреннему раскаянию. Кто увидал бы в это время несчастную, пожалел бы ее. Она падала перед ним на колени, целовала его руки, обливала их слезами и умоляла простить ее безрассудство, клянясь, что исправится. Волгин, добрый до бесконечности, любя еще жену и стараясь сам себе оправдать эти вспышки одной безмерной любовью к нему, великодушно прощал. И мир воцарялся между супругами хоть на несколько недель. Тем более Волгин считал долгом быть снисходительнее, чем Лукерия Павловна была в интересном положении. Каких странностей и капризов не приписывают этому положению! И он любил относить к нему ж припадки ее ревности. Зато сколько утешений принесет обоим супругам первенец их! Благоразумие, мир, счастье должен он был водворить в семействе! Такими надеждами лелеял себя Волгин и окружил жену заботами и угождениями, как нежный любовник.
Был летний месяц. Они поехали на несколько недель в деревню. На беду случилось, что в это время приехала к ним замужняя дочь его родной тетки, женщина очень приятная и любезная. Прием ей сделан был радушный. И хозяева, и гостья были веселы. Волгин повел кузину показать ей хорошенький свой сад, которым любил особенно заниматься. Жена, по нездоровью, осталась дома, но, подстрекаемая своим демоном, не могла противиться его наущению и отправилась вслед за ними. Она не пошла по дорожкам, а стала пробираться кустами. Вдруг видит, муж и кузина его идут рука под руку… они смеются… потом как будто поцелуй… Никакого поцелуя не было: ей все мерещилось. Лукерия Павловна, не помня, в каком она положении, бросается вперед и падает на пень… Ушиб был силен, страдания велики; но ни одного стона не вырвалось из груди ее. Чего не вытерпела она, один Бог знает! Скрывшись за кустом, Лукерия Павловна дала пройти мимо ее мужу и гостье и потом кое-как дотащилась до своей спальни, не сказав никому, что с ней случилось. На другой день родился мертвый ребенок. Причина этого несчастного случая была скрыта и от мужа. Положение ее сделалось опасно, но через два месяца она оправилась с помощью искусного врача и сладкой уверенности, что муж ее любит, потому что во все время болезни почти неотлучно находился у ее постели, как самая усердная сиделка. Урок был ужасный! Между тем от болезни и беспрестанных душевных тревог Лукерия Павловна начала худеть и дурнеть. Глаза ее впали, в них потух прежний блеск и что-то дикое выражалось по временам, как у зверя, который хочет, но боится броситься на свою жертву; кожа ее приняла шафранный цвет. Зеркало и демон ее каждый день наговаривали ей, что муж, который моложе ее и так хорош собой, должен скоро перестать ее любить. Ревность ее, которая с каждым днем росла более и более, стала изобретать для себя разные видения и избирать низкие средства, чтобы удовлетворить себя. Наконец в два последующие года страсть эта приняла такие ужасающие размеры, что сделала для Волгина дом его настоящим адом. Я забыл сказать, что через несколько месяцев после их свадьбы он вышел в отставку; а теперь, потеряв всякое терпение, решился бежать от жены и вступить вновь в службу с той надеждой, что откроется морская кампания или ученая экспедиция, которая отделит его на несколько тысяч верст от домашнего тирана. Если б он уехал, жена преследовала бы его на край света: были уж и на это намеки.
В эти два года Волгин был истинным мучеником. Лукерия Павловна, как стойкий аргус, следила все его поступки, все его шаги. Подкупала людей, чтобы ей доносили, куда муж ездил, с кем видается, что делает. Люди брали деньги, смеясь над ней же, но не могли лгать на барина, и потому эти средства сделались для нее недостаточны и неверны. Иногда, вечером, надев сапог своей горничной и безобразный капор, отправлялась к дому, где находился ее муж, и выведывала через какого-нибудь подосланного постороннего человека, кто из дам были в доме. И если случалось, что ей назовут имя женщины, на которую падало ее подозрение, то, по возвращении мужа, сыпались на него упреки, от которых он убегал в свой кабинет, где и запирался. Но и через дверь слышалось еще долго ее беснование. Письма его, если были приносимы в его отсутствие, подвергались ее контролю, после чего она их вновь запечатывала, как могла. Все шкатулки его были перерыты… Волгин хотя и замечал эти проделки, но, не имея особенных секретов от жены, пожимал только плечами и молчал. Когда ж письмо получалось при нем, Лукерия Павловна была уж тут, в его кабинете, и из-за плеча его старалась прочесть, не скрывается ли какой-нибудь тайной связи в послании. Муж преспокойно отдавал ей письмо и просил прочесть его вслух, так как она все руки хорошо разбирает, а почерк этого письма неразборчив. Казалось, нельзя было иметь большого терпения и снисхождения. Этими-то орудиями он хотел победить ревность жены. Иногда покажется ей, что муж чем-то смущен; что при внезапном появлении ее он чего-то испугался, и начнет требовать у него отчета в таких чувствах, от которых он был совершенно далек. «Скажи мне, друг мой, милый мой, – говорила она ему, – если ты действительно любишь кого, так лучше признайся мне… Для тебя я пожертвую своей любовью: откройся мне, ради Бога, я тебе все прощу». – «Никого не люблю и лгать на себя не намерен», – отвечал резко Волгин на подобные вопросы, делаемые для того, чтобы вовлечь его в ловушку. До такого простодушия и ослепления доходила безумная страсть! В другой раз представится ей, что из его комнаты вышла какая-то женщина, и уж ей слышится шелест женской одежды… На всех хорошеньких женщин в деревне она злилась и всегда искала случая чем-нибудь оскорбить их. Но горничным ее доставалось больше всех: они терпели настоящую пытку. То взглянула слишком умильно на барина, то оделась пощеголеватее, чтобы понравиться барину. Одна из них вздумала кокетливо убрать свою чудную, густую косу, и коса была острижена. Другая, по подозрению, совершенно несправедливому, отдана замуж за горбуна-крестьянина.
Часто эти бешеные припадки кончались тем, что она становилась на колени перед мужем и умоляла прибить ее.
– За кого принимаешь меня, безумная? – говорил Волгин. – Унизиться до того, чтобы наложить руку на жену?.. Это может сделать только пьяный лакей или мужик. Довольно стыда и от твоих дел; не с обеих же сторон безумствовать и позориться перед людьми и Богом.
Еще чаще кончались припадки ревности истерикой и ужасными страданиями. Какие чувства могли оставить в сердце мужа все эти сцены, кроме ожесточения? Только изредка сострадал он несчастной, как будто больной, одержимой неисцелимой болезнью.
На третий год своего замужества Лукерия Павловна сделалась опять беременна. Радоваться будущему появлению в свет сына или дочери не мог уже Волгин по-прежнему. Что ожидает это дитя, когда оно осмыслится, когда поймет ужасный характер матери, несчастное положение отца и станет посредником между ними? Может статься, отец вынужден будет бежать от жены и ребенка своего; может статься, этого ребенка выучат ненавидеть имя отца. В Лукерии Павловне, несмотря на ее положение, не произошло никакой благоприятной перемены; казалось, ее ревность достигла высшей силы своего безумия. Сыскалась женщина, старушка, присланная ей матерью, как будто из ада, именно для того, чтобы следить за поступками Волгина. Из угождения барыне своей она старалась потворничать ее страсти. Между разными клеветами эта мегера передала однажды горяченькую весть, что видели, как Иван Сергеевич ласкал дочь своего садовника. Может быть, и действительно Волгин сказал пятнадцатилетней девочке ласковое слово, потрепал ее рукой по розовой щечке – небольшое еще преступление, тем более, что девочке был он крестным отцом! Ее до сих пор любила сама Лукерия Павловна, знавшая, что отец и мать воспитывали дочь в строгих правилах. Но довольно искры, брошенной в душу ревнивой женщины, чтобы произвесть пожар. Лукерия Павловна потребовала от мужа вопиющей несправедливости, выдать пятнадцатилетнюю девочку замуж, и за крестьянина. Волгин возразил, что девочка слишком молода, дочь любимого им, заслуженного дворового человека, никакого преступления не сделала, что крестнице своей готовит он женихом сына своего приказчика из другой деревни. Отказ этот возбудил новые подозрения. Лукерия Павловна стала горячо настаивать. Муж отказался наотрез.
– Итак довольно несчастных из угождения твоей ревности, – прибавил он, – глубоко раскаиваюсь в том, что был участником в этих гнусных делах.
– Так выбирай любое, – сказала Лукерия Павловна, – или дочь садовника завтра замуж, или завтра меня не будет на свете.
– Делай, что хочешь, – отвечал с твердостью Волгин, – а я не отступлю от своего решения. Бог и совесть мне это приказывают.
Тогда произошла сцена ужасная. Когда я слушал рассказ о ней, сердце мое обливалось кровью. Довольно, если я скажу, что эта женщина, превратившаяся в дикого зверя, в минуту исступления стала бить себя в грудь… потом удары сыпались по чем попало… Волгин, перед этим только что выходивший из двери, тотчас возвратился, но не имел времени остановить ее. Лукерия Павловна на другой день родила сына, носившего слишком явные признаки ушибов и прожившего только одни сутки. Молоко бросилось у ней в голову, и она лишилась рассудка навсегда! Да, навсегда, несмотря на все пособия искуснейших врачей столицы, куда несчастный муж отвез ее, несмотря на все попечения и заботы, которым усердно посвятил себя. Было отчего и самому ему сойти с ума! В несколько дней показались у него седины на голове. Целые полгода не отлучался он от жены. Что ж? сыскались люди, которые с голоса отца и матери Лукерии Павловны осуждали Волгина, говорили, что причиной ее сумасшествия ветреный образ его жизни и худое обращение с женой. Но совесть его была чиста, он ни в чем себя упрекнуть не мог. Лучшие лета его жизни принесены ей в жертву; не век же ему было оставаться зрителем и участником невыносимых страданий. Волгин уехал из дому своего, оставив Лукерию Павловну на попечение домового врача и избранной наемной прислуги, и вступил вновь на службу.
Долго еще преследовали его ужасные видения… Во всех морских сражениях, в которых случалось ему участвовать, он искал смерти и не нашел ее. В продолжении пяти лет получались им одни и те же извещения, что жена его все в том же состоянии. Один врач не мог вынести более двух лет тяжкого ухаживания за сумасшедшей. Отец и мать взяли ее к себе, и также долго не выдержали этого бремени. Принуждены были перевесть ее в дом умалишенных. Через несколько времени Волгин получает письмо из Петербурга от одного из двух братьев отца своего. Дядя описывал ему безнадежное состояние Лукерии Павловны и советовал расторгнуть брак, столько лет существовавший только по имени. «Я старый вдовец, – писал ему дядя, – детей не имею; брат мой также; ты один после нас остаешься из нашего рода. Неужели погаснуть ему? Тебе только тридцать два года. За легкомысленный поступок молодости, за необдуманный шаг ты уже заплатил девятью годами страданий. Природа, закон, справедливость и Бог приказывают тебе выйти из твоего настоящего положения. Выбери себе жену по сердцу, только чтоб была гораздо моложе тебя. Не смотри на богатство, на блестящее наружное воспитание; ты сам богат, все наше с братом достанется тебе же. Пускай выбор твой падет на бедную, хоть самую бедную дворянку, но только с добрым сердцем, скромную. Верь моим предсказаниям, ты еще будешь счастлив. Приезжай в Петербург; посмотри, какие у нас милые, образованные, воспитанные в строгих религиозных правилах девицы выходят из института. С стряпчими советовался о твоем деле; головой ручаются за успешный исход его. Препятствий нет и быть не может. Еще скажу тебе, писал к Сизокрылову (супруга его отошла на вечное житье; всему злу корень была. Еще бы сказал… да грех тревожить память покойников недобрыми словами). Получил от него ответ благосклонный. Чего ж ему? Возвратили все имение дочери со всеми доходами за несколько прошедших лет и все приданое ее до последней нитки. Теперь стал мягко стлать. Пишет, что христианский долг повелевает ему помочь тебе в расторжении брака. Тебя во всем оправдывает. Это письмо будет служить важным документом, когда начнется дело. Видел я и ее, несчастную, в заведении… В несколько минут она мне рассказала (и всякому рассказывает) ужасные вещи, которые только беснующаяся ревнивая женщина может изобрести. Я, старик, краснел, слушая ее… Если б женщина в полном разуме сказала бы вслух то, что эта несчастная говорила, она достойна была бы позорного столба. Как описать тебе ее наружность! Это пятидесятилетняя женщина, остов человека, готовый разрушиться. Доктора говорят, что она может скоро умереть и может еще несколько лет протянуть».
При чтении этих строк Волгин облил их слезами. Это была последняя дань женщины, которая так долго носила его имя. Но с этого времени сердце его раскрылось для надежд лучшей жизни. Он сделался неравнодушен к советам дяди, вышел в отставку и начал дело о разводе. В первой инстанции духовного суда оно было решено; в высшей должно было скоро решиться также благоприятно для него. Как писал дядя, законных препятствий, наконец, не оказалось. Но во время ожидания этого окончательного решения умер другой дядя, оставивший племяннику в наследство имение в Холоденском уезде. Встреча с Катей на Москве-реке была роковая. Сама судьба указывала ему будущую подругу его жизни. Он видел в ней благодетельного гения, пришедшего избавить его от ужасных оков, в которых до сих пор находился. Первый взгляд на нее, первые слова, ее сказанные, решили его участь. Познакомившись с Катей, он нашел в ней ту избранную, которую назначал ему дядя в письме своем. Она воспитывалась в Смольном монастыре, была скромна, добра, образована и любила его – в этом он уверился. Волгин, приехав в Холодню, боялся сблизиться с ней, как будто совесть запрещала ему вступать в новые сердечные связи, которые законы не могли еще освятить. Мы видели, однако ж, что противиться влечению сердца он не был в состоянии.
И прежде знакомства своего с дочерью Горлицына отдано им было, раз навсегда, его людям приказание сказывать везде, где не знали его несчастной истории, что он вдовец. «Таким образом, – думал он, – избавлюсь от тягостных расспросов и сожалений». Полюбив же Катю, радовался, что сделал это распоряжение, без которого был бы ему загражден путь к сердцу ее; но по временам не мог не тревожиться за последствия этой уловки, противной его благородным правилам. Дело сделанное поправить было невозможно. Только уверившись во взаимных чувствах к нему Кати, Иван Сергеевич открыл все дяде своему и умолял его поспешить окончанием дела. «Высвободите меня, – писал он к нему, – из ужасного положения, в которое я себя вновь поставил, и откройте мне доступ к моему благополучию». Дядя в ответ посылал ему свое благословение и обнадеживал, что решение дела не замедлит. Сказать же Горлицыну, что брак еще не уничтожен, когда это обстоятельство было скрыто прежде, боялся, не решался Волгин. Между тем новая гроза вставала над его головой.
В таком состоянии были дела его, когда мы в Холодне расстались с ними и с семейством Горлицына.
Вскоре после того в Холодню пришел пехотный полк. Военный блестящий строй, развевающиеся знамена, изувеченные в славных екатерининских битвах статные офицеры, ловко выкидывающие разные фигуры своими эспантонами, грохот барабанов, торжественная музыка, – все это было ново в уездном городке. Спавшее до сих пор население его проснулось и зашевелилось. Толпа дивилась треугольным шляпам на офицерах и солдатах, пучкам их и пуклям, красным отворотам, и бегала за военными, как за пришельцами из чужой земли. Во время вечерней зари весь город стекался около гауптвахты. Это был настоящий праздник. И в сердцах прекрасного пола забил барабан тревогу. В полку было несколько красивых отважных офицеров, готовых идти смело на всякий приступ.
Военные имеют особенный дар тотчас по приходе на новые квартиры узнавать, где живут хорошенькие дамы и девицы. Разумеется, большая часть их познакомились с Горлицыными и стали оспаривать друг у друга счастье понравиться Кате. Со всеми была она свободна, приветлива, ровна, старалась, как молодая хозяйка, чтобы в доме отца ее не скучали, но никому не показывала предпочтения. Как скоро же замечала, что за ней начинают слишком ревностно ухаживать, умела скоро дать знать своему поклоннику, что это ей не нравится и успеха его искательству не будет. Никогда самый храбрый из этих рыцарей не осмеливался переступить границ уважения к ней. Столько было скромности, приличия, достоинства в дочери бедного соляного пристава! В это самое время вставала для этих рыцарей новая звезда, которая хотя давно блистала на холоденском горизонте, но не имела еще поклонников. Это была Прасковья Михайловна Пшеницына. Гостеприимный дом мужа ее был открыт для всех, и офицеры хлынули туда вслед за своим генералом Эс-м, молодым, красивым. Оставался только геройски верен знамени Кати Горлицыной один офицер, приятной наружности и с прекрасными душевными качествами. Он влюбился в Катю. Поощряемый своим сердцем и опираясь на преимущества хорошего состояния, он не мог думать, чтобы дочь бедного соляного пристава не склонилась, наконец, на постоянство его почтительной, бескорыстной любви. В Волгине же, у которого была уже седина в голове, хотя приятном и достойном всякого уважения человеке, не видал опасного соперника. Этого молодого человека звали Селезневым.
Катя не поощряла его никакими надеждами, но и не отталкивала резкими выходками и была с ним равно любезна, тем более что отец полюбил Селезнева от души. Эта партия льстила Горлицыну, потому что он видел в нем достойного, благородного, пылкого искателя руки его дочери, идущего скорым шагом и прямым путем к цели своей. «Вот этак по-нашему!» говорил он сам с собой. В Волгине же начал несколько сомневаться. Иван Сергеевич казался ему каким-то рыцарем печального образа, под непроницаемой броней таинственности, нерешительным, колеблющимся. Все это не скрылось от глаз Волгина и прибавило новые страдания к тем, которые он терпел от невозможности сделать предложение Кате.
Между тем нужды начинали сильно осаждать Горлицына. С приездом его дочери бюджет его доходов и расходов совершенно изменился. Доходы уменьшились важной статьей – дом уж ничего не приносил. Расходы значительно выросли. Для Кати нужно было держать получше стол; приличие требовало угощать посетителей чаем, закуской. Эти угощения считались необходимыми, чтобы не показаться голыми бедняками и не пристыдить Катю. Посетителей нельзя же не принимать, чтобы Кате не было скучно, да и неловко принимать одного Волгина. Любовь отца рассчитывала также на верного женишка между ними. Прибавилось два человека прислуги; надо было их одеть и накормить. Хорошо еще, что Катя на деньги, полученные ею при выпуске из института, составила себе порядочный гардероб. Но мало ли что нужно девице, выезжающей в свет, хотя и холоденский? Разные вещицы для нее, которые у зажиточных людей считаются ничтожными безделками, опустошали также кошелек Горлицына, и без того скудный. Катя, жившая на всем готовом в институте, не имела понятия о том, что надо издерживать на нее и что мог отец ее издерживать. Должность соляного пристава, конечно, очень скромная; отец ее небогат, потому что не имеет каменного дома, экипажа, большой прислуги, – это знала она; но не воображала, чтобы он мог нуждаться в необходимом. Настоящую же нужду, бедность, не иначе представляла себе, как в лохмотьях, протягивающую руку для подаяния. Маленькие остатки от собственных ее деньжонок почти все мало-помалу перешли к таким беднякам. Впрочем, желая ознакомиться с домашним хозяйством (не даром же называли ее молодой хозяйкой!) и облегчить отцу занятия по этой части, она просила поручить ей эти занятия. Но Горлицын, упрямо, под разными предлогами, отказывался посвятить ее в тайны домашнего очага. Он хотел оставить ее в спокойном, счастливом неведении его скудных средств. Зачем ее, такую молодую, довольную своей судьбой, знакомить с горькой существенностью? Радости, как певуньи-птички, свили себе гнездо в ее сердце; спугнешь их, не скоро загонишь назад. Людям строго наказано было скрывать от Кати все, что могло ее огорчить или потревожить.
Когда она еще не приезжала из Петербурга, Александр Иваныч не стыдился ходить с своим кулечком в лавки и на рынок. Что ему были мнения холоденских жителей! Но когда поселилась в доме петербургская, воспитанная девица, на которую обратил внимание богатый сосед, Горлицын стал стыдиться этого кулечка. Он передал его Филемону. Хозяйство от такого распоряжения не потерпело; напротив того, верный слуга покупал все дешевле своего барина, да еще умел, за недостатком денег, кредитоваться то у одного, то у другого торговца. Но и кредит начал мало-помалу колебаться. «Больно горды вы с барином, – говорили Филемону лавочники. – То-то бы ломаться не надо. Что за честь, когда нечего есть!» Такие отзывы очень раздражали старого слугу.
Грозно, настойчиво осаждали враги, называемые нуждами, домик холоденского соляного пристава и с каждым днем все теснее и теснее обступали его.
Даже в присутствии Кати крепко задумывался иногда Горлицын. Забывшись, он что-то бормотал про себя и перебирал пальцами, как будто делал какие-то выкладки.
– Что это вы, папаша, ныне так скучны? – говорила Катя, ласкаясь к отцу. – Все считаете по пальцам. Уж не беспокоят ли вас какие счеты?
– На службе не без забот, душа моя, – отвечал Горлицын. – Однако ж, все пустяки! Показалось мне, в нескольких кулях соли обчелся.
– Чтобы мне поручить вашу счетную книгу? Ведь я знаю тройное правило, а это правило золотое, пригодно во всех случаях жизни, говаривал мне учитель. Хотите, я вам сочту, сколько у вас зерен соли в магазине? Положим, в фунте столько-то зерен, в пуде столько-то фунтов, в куле – пудов, в магазине – кулей. Проэкзаменуйте-ка меня.
Горлицын засмеялся и сказал:
– Кто ж считает зерна соли? Ведь это все равно, что сосчитать песчинки на берегу реки.
– Ну, так я вам сочту приход и расход ваших денег с моего приезда, и выведу остаток. Положим, у вас было такого-то числа 2,157 рублей 63 7/8 копейки…
– Полно ты, моя милая счетчица, – перебил Катю отец, у которого сердце сжалось еще сильнее, когда она произнесла гигантскую сумму его мнимого богатства. – Верю, что ты арифметику хорошо знаешь, да твоя мне не годится… Вот, как выйдешь замуж…
– Что ж вы меня так скоро гоните от себя?
– Гнать?.. Можно ли, душа моя?.. Ты мне одна отрада на свете. Да ведь когда-нибудь надо. Сыскался бы добрый человек, так я бы сам к вам перебрался.
– А, например, кого бы вы выбрали мне? – спросила лукаво Катя.
– Например, вот Селезнева.
– Селезнева?.. – И неудовольствие изобразилось на лице Кати.
– Молодой человек очень достойный. Он мне уж делал предложение…
– Что ж вы ему сказали?
– Просил подождать. Знаю, сосед был бы больше по сердцу, да… чудак какой-то… Вот уж слишком три месяца к нам ходит, ухаживает за тобой и только… серьезного ничего… Где ж? такой богатый человек, может быть, и знатная родня… а мы живем в хижине, званием невелички… Уж не потешается ли, как игрушкой, от скуки?..
– Потешается?.. Не может быть, неправда! – сказала с одушевлением Катя; но, поняв, что слишком резко отвечала отцу и могла этим оскорбить его, стала к нему ласкаться и промолвила: – Зачем же, папаша, обижать напрасно доброго, благородного человека?
Катя не могла ничего более сказать, заплакала и упала на грудь отца. Александр Иваныч заметил, что любовь пустила слишком глубокие корни в сердце дочери, крепко смутился и проговорил:
– Ну, виноват, душечка; так к слову сказалось… Прости мне. Времени у тебя впереди много. Господу поручаю тебя и твою судьбу. Он лучше нас все устроит.
Этот разговор оставил, однако ж, тяжелое впечатление на душе Кати и заставил ее придумывать, что бы могло остановить Волгина сделать отцу предложение, Волгина, который, казалось, так ее любит. Обманывать ее он не может, нет и сто раз нет!
Когда Катя вышла из комнаты отца, он грустно проводил ее глазами, покачал головой и опять впал в глубокое раздумье, и опять стал перебирать пальцами. «Жалованье взято вперед за два месяца: статья конченная. Занять у Пшеницыных? Неловко: по службе имеет отношения. За послугу надо быть благодарным». Сколько знает он людей, которые, задолжав усердным кредиторам, делались их ревностными слугами; как часто благодарность вводила в нечистые дела!.. «У предводителя? Просить, ох, тяжело!.. Дадут, чем отдать?.. Предводитель же сам не Бог знает какой богач, ждать долго не может. Еще более запутаешься. Заложи серебряные часы, подарок жены на второй день брака? Разве прибавить к ним обручальные кольца?.. Пожалуй, скрепя сердце, он послал бы их с Филемоном к какому-нибудь ростовщику. Но что даст за них ростовщик? Безделицу, а возьмет жидовские проценты. Заложить дом? Но завтра ж он может умереть, и какое наследство оставит дочери?..»
Приближался час, когда Горлицын мог отчаянно сказать – незнаменитое, хотя пригодное на этот случай, изречение Франциска I после поражения под Павией: все потеряно, кроме чести! Нет, роковые слова чиновника-бедняка, у которого есть дочь, нежно любимая – слова, много значащие, хотя и очень простые: осьмушку чаю, фунт сахару на завтрашний день! Год жизни за осьмушку чаю, за фунт сахару!
Правда, были еще у Горлицына два средства отдалить этот роковой час и взять передышку от бремени нужд, которые на него налегали. Первое средство предложил ему усердный Филемон в одно из совещаний, на которые они сошлись тайно от всех; другое само собой представилось Александру Иванычу в минуты отчаянного его положения.
Филемону передал по секрету старый инвалид, приставленный к соляному магазину, что в этом магазине есть несколько десятков лишних кулей, накопившихся с годами, оттого что у Александра Иваныча не было или было очень мало утечки и усушки, положенных даже законом. Неровен час, приедет ревизор, да еще взыщет за лишнюю соль; пойдут допросы, откуда взялась. Что скажешь? как отделаешься от этих зубастых допросов? Для безопасности должно, без греха можно, ее продать. Инвалид и старый слуга берутся это сделать так, что никто не узнает. А денежки можно выручить хорошие.
– Продать, из казенного места, казенное добро в свою пользу? Посягнуть на воровство первый раз в жизни? Сделать дольщиками этого воровства слугу и сторожа? Да как ты осмелился мне это предложить, сударь ты мой? Да я тебя упеку и с твоим инвалидом, куда ворон костей не заносит! Что мне ревизор? Соль налицо; не бесчестно, не с корыстными умыслами копил!.. Я сам донесу по начальству, и делу конец.
Такой резкой исповедью Александр Иваныч осыпал Филемона, словно картечью; но слуга не струсил. Раздосадованный, что его золотой совет, так хитро и с таким усердием придуманный, не удался, он нагрубил первый раз в жизни своему барину и покончил тем, что предсказывал ему суму, да и несчастной дочке такую же участь. Горлицын в сердцах вытолкал его из двери. После такой неудачи и оскорбления, старый слуга впервые в жизни запил, и так запил, что не мог идти на рынок. Эту обязанность исполнила Бавкида, не преминув сначала поколотить порядком своего супруга. Новый удар принял бедный Горлицын в сердце, будто истинное наказание Божье.
Другое средство избавиться от всех этих мирских, треволнений было – прибегнуть к секретной шкатулке, в которой хранилась экономическая сумма, накопленная в столько лет к приезду дочери. В шкатулке уже близ ста рублей. Но деньги эти назначены Кате; они сделались ее добром, ее собственностью. Что ж? он займет не у чужого, у дочери. Придут более счастливьте дни, и деньги возвратятся на свое место. Решено: секретная шкатулка – единственный источник, из которого можно почерпнуть без укора совести. Не то завтра у Кати не будет чаю, завтра… мало ли чего не будет?
В раздумье ходил Александр Иваныч несколько времени по своей комнате взад и вперед, тяжелыми шагами, которые отдавались в потолок Катиной спальни. Вещее чувство сказало ей, что отец ее чем-нибудь необыкновенно озабочен. Грустный, пасмурный вид, которого она прежде в нем не замечала, какая-то скрытность в поступках, тяжелые шаги, никогда так сильно не раздававшиеся над ее головой, – все это встревожило ее, и она решилась идти к отцу наверх.
В это время Александр Иваныч, достав заветный ящик, бледный, дрожащими руками отпер его, будто собирался украсть чужие деньги. Только что успел он взглянуть на свое сокровище, как дверь тихо отворилась. В страхе он опустил руки, затрясся, хотел что-то сказать, но не мог выговорить слова. Жалкий, умиленный вид имел он, будто застигнутый воришка. Шкатулка была наполнена почти доверху крупной и мелкой серебряной монетой. В первые минуты Катя не могла приписать смущение отца ничему другому, как испугу, что застала его над деньгами, которые он старался скрыть от нее… Она всплеснула руками и промолвила:
Был летний месяц. Они поехали на несколько недель в деревню. На беду случилось, что в это время приехала к ним замужняя дочь его родной тетки, женщина очень приятная и любезная. Прием ей сделан был радушный. И хозяева, и гостья были веселы. Волгин повел кузину показать ей хорошенький свой сад, которым любил особенно заниматься. Жена, по нездоровью, осталась дома, но, подстрекаемая своим демоном, не могла противиться его наущению и отправилась вслед за ними. Она не пошла по дорожкам, а стала пробираться кустами. Вдруг видит, муж и кузина его идут рука под руку… они смеются… потом как будто поцелуй… Никакого поцелуя не было: ей все мерещилось. Лукерия Павловна, не помня, в каком она положении, бросается вперед и падает на пень… Ушиб был силен, страдания велики; но ни одного стона не вырвалось из груди ее. Чего не вытерпела она, один Бог знает! Скрывшись за кустом, Лукерия Павловна дала пройти мимо ее мужу и гостье и потом кое-как дотащилась до своей спальни, не сказав никому, что с ней случилось. На другой день родился мертвый ребенок. Причина этого несчастного случая была скрыта и от мужа. Положение ее сделалось опасно, но через два месяца она оправилась с помощью искусного врача и сладкой уверенности, что муж ее любит, потому что во все время болезни почти неотлучно находился у ее постели, как самая усердная сиделка. Урок был ужасный! Между тем от болезни и беспрестанных душевных тревог Лукерия Павловна начала худеть и дурнеть. Глаза ее впали, в них потух прежний блеск и что-то дикое выражалось по временам, как у зверя, который хочет, но боится броситься на свою жертву; кожа ее приняла шафранный цвет. Зеркало и демон ее каждый день наговаривали ей, что муж, который моложе ее и так хорош собой, должен скоро перестать ее любить. Ревность ее, которая с каждым днем росла более и более, стала изобретать для себя разные видения и избирать низкие средства, чтобы удовлетворить себя. Наконец в два последующие года страсть эта приняла такие ужасающие размеры, что сделала для Волгина дом его настоящим адом. Я забыл сказать, что через несколько месяцев после их свадьбы он вышел в отставку; а теперь, потеряв всякое терпение, решился бежать от жены и вступить вновь в службу с той надеждой, что откроется морская кампания или ученая экспедиция, которая отделит его на несколько тысяч верст от домашнего тирана. Если б он уехал, жена преследовала бы его на край света: были уж и на это намеки.
В эти два года Волгин был истинным мучеником. Лукерия Павловна, как стойкий аргус, следила все его поступки, все его шаги. Подкупала людей, чтобы ей доносили, куда муж ездил, с кем видается, что делает. Люди брали деньги, смеясь над ней же, но не могли лгать на барина, и потому эти средства сделались для нее недостаточны и неверны. Иногда, вечером, надев сапог своей горничной и безобразный капор, отправлялась к дому, где находился ее муж, и выведывала через какого-нибудь подосланного постороннего человека, кто из дам были в доме. И если случалось, что ей назовут имя женщины, на которую падало ее подозрение, то, по возвращении мужа, сыпались на него упреки, от которых он убегал в свой кабинет, где и запирался. Но и через дверь слышалось еще долго ее беснование. Письма его, если были приносимы в его отсутствие, подвергались ее контролю, после чего она их вновь запечатывала, как могла. Все шкатулки его были перерыты… Волгин хотя и замечал эти проделки, но, не имея особенных секретов от жены, пожимал только плечами и молчал. Когда ж письмо получалось при нем, Лукерия Павловна была уж тут, в его кабинете, и из-за плеча его старалась прочесть, не скрывается ли какой-нибудь тайной связи в послании. Муж преспокойно отдавал ей письмо и просил прочесть его вслух, так как она все руки хорошо разбирает, а почерк этого письма неразборчив. Казалось, нельзя было иметь большого терпения и снисхождения. Этими-то орудиями он хотел победить ревность жены. Иногда покажется ей, что муж чем-то смущен; что при внезапном появлении ее он чего-то испугался, и начнет требовать у него отчета в таких чувствах, от которых он был совершенно далек. «Скажи мне, друг мой, милый мой, – говорила она ему, – если ты действительно любишь кого, так лучше признайся мне… Для тебя я пожертвую своей любовью: откройся мне, ради Бога, я тебе все прощу». – «Никого не люблю и лгать на себя не намерен», – отвечал резко Волгин на подобные вопросы, делаемые для того, чтобы вовлечь его в ловушку. До такого простодушия и ослепления доходила безумная страсть! В другой раз представится ей, что из его комнаты вышла какая-то женщина, и уж ей слышится шелест женской одежды… На всех хорошеньких женщин в деревне она злилась и всегда искала случая чем-нибудь оскорбить их. Но горничным ее доставалось больше всех: они терпели настоящую пытку. То взглянула слишком умильно на барина, то оделась пощеголеватее, чтобы понравиться барину. Одна из них вздумала кокетливо убрать свою чудную, густую косу, и коса была острижена. Другая, по подозрению, совершенно несправедливому, отдана замуж за горбуна-крестьянина.
Часто эти бешеные припадки кончались тем, что она становилась на колени перед мужем и умоляла прибить ее.
– За кого принимаешь меня, безумная? – говорил Волгин. – Унизиться до того, чтобы наложить руку на жену?.. Это может сделать только пьяный лакей или мужик. Довольно стыда и от твоих дел; не с обеих же сторон безумствовать и позориться перед людьми и Богом.
Еще чаще кончались припадки ревности истерикой и ужасными страданиями. Какие чувства могли оставить в сердце мужа все эти сцены, кроме ожесточения? Только изредка сострадал он несчастной, как будто больной, одержимой неисцелимой болезнью.
На третий год своего замужества Лукерия Павловна сделалась опять беременна. Радоваться будущему появлению в свет сына или дочери не мог уже Волгин по-прежнему. Что ожидает это дитя, когда оно осмыслится, когда поймет ужасный характер матери, несчастное положение отца и станет посредником между ними? Может статься, отец вынужден будет бежать от жены и ребенка своего; может статься, этого ребенка выучат ненавидеть имя отца. В Лукерии Павловне, несмотря на ее положение, не произошло никакой благоприятной перемены; казалось, ее ревность достигла высшей силы своего безумия. Сыскалась женщина, старушка, присланная ей матерью, как будто из ада, именно для того, чтобы следить за поступками Волгина. Из угождения барыне своей она старалась потворничать ее страсти. Между разными клеветами эта мегера передала однажды горяченькую весть, что видели, как Иван Сергеевич ласкал дочь своего садовника. Может быть, и действительно Волгин сказал пятнадцатилетней девочке ласковое слово, потрепал ее рукой по розовой щечке – небольшое еще преступление, тем более, что девочке был он крестным отцом! Ее до сих пор любила сама Лукерия Павловна, знавшая, что отец и мать воспитывали дочь в строгих правилах. Но довольно искры, брошенной в душу ревнивой женщины, чтобы произвесть пожар. Лукерия Павловна потребовала от мужа вопиющей несправедливости, выдать пятнадцатилетнюю девочку замуж, и за крестьянина. Волгин возразил, что девочка слишком молода, дочь любимого им, заслуженного дворового человека, никакого преступления не сделала, что крестнице своей готовит он женихом сына своего приказчика из другой деревни. Отказ этот возбудил новые подозрения. Лукерия Павловна стала горячо настаивать. Муж отказался наотрез.
– Итак довольно несчастных из угождения твоей ревности, – прибавил он, – глубоко раскаиваюсь в том, что был участником в этих гнусных делах.
– Так выбирай любое, – сказала Лукерия Павловна, – или дочь садовника завтра замуж, или завтра меня не будет на свете.
– Делай, что хочешь, – отвечал с твердостью Волгин, – а я не отступлю от своего решения. Бог и совесть мне это приказывают.
Тогда произошла сцена ужасная. Когда я слушал рассказ о ней, сердце мое обливалось кровью. Довольно, если я скажу, что эта женщина, превратившаяся в дикого зверя, в минуту исступления стала бить себя в грудь… потом удары сыпались по чем попало… Волгин, перед этим только что выходивший из двери, тотчас возвратился, но не имел времени остановить ее. Лукерия Павловна на другой день родила сына, носившего слишком явные признаки ушибов и прожившего только одни сутки. Молоко бросилось у ней в голову, и она лишилась рассудка навсегда! Да, навсегда, несмотря на все пособия искуснейших врачей столицы, куда несчастный муж отвез ее, несмотря на все попечения и заботы, которым усердно посвятил себя. Было отчего и самому ему сойти с ума! В несколько дней показались у него седины на голове. Целые полгода не отлучался он от жены. Что ж? сыскались люди, которые с голоса отца и матери Лукерии Павловны осуждали Волгина, говорили, что причиной ее сумасшествия ветреный образ его жизни и худое обращение с женой. Но совесть его была чиста, он ни в чем себя упрекнуть не мог. Лучшие лета его жизни принесены ей в жертву; не век же ему было оставаться зрителем и участником невыносимых страданий. Волгин уехал из дому своего, оставив Лукерию Павловну на попечение домового врача и избранной наемной прислуги, и вступил вновь на службу.
Долго еще преследовали его ужасные видения… Во всех морских сражениях, в которых случалось ему участвовать, он искал смерти и не нашел ее. В продолжении пяти лет получались им одни и те же извещения, что жена его все в том же состоянии. Один врач не мог вынести более двух лет тяжкого ухаживания за сумасшедшей. Отец и мать взяли ее к себе, и также долго не выдержали этого бремени. Принуждены были перевесть ее в дом умалишенных. Через несколько времени Волгин получает письмо из Петербурга от одного из двух братьев отца своего. Дядя описывал ему безнадежное состояние Лукерии Павловны и советовал расторгнуть брак, столько лет существовавший только по имени. «Я старый вдовец, – писал ему дядя, – детей не имею; брат мой также; ты один после нас остаешься из нашего рода. Неужели погаснуть ему? Тебе только тридцать два года. За легкомысленный поступок молодости, за необдуманный шаг ты уже заплатил девятью годами страданий. Природа, закон, справедливость и Бог приказывают тебе выйти из твоего настоящего положения. Выбери себе жену по сердцу, только чтоб была гораздо моложе тебя. Не смотри на богатство, на блестящее наружное воспитание; ты сам богат, все наше с братом достанется тебе же. Пускай выбор твой падет на бедную, хоть самую бедную дворянку, но только с добрым сердцем, скромную. Верь моим предсказаниям, ты еще будешь счастлив. Приезжай в Петербург; посмотри, какие у нас милые, образованные, воспитанные в строгих религиозных правилах девицы выходят из института. С стряпчими советовался о твоем деле; головой ручаются за успешный исход его. Препятствий нет и быть не может. Еще скажу тебе, писал к Сизокрылову (супруга его отошла на вечное житье; всему злу корень была. Еще бы сказал… да грех тревожить память покойников недобрыми словами). Получил от него ответ благосклонный. Чего ж ему? Возвратили все имение дочери со всеми доходами за несколько прошедших лет и все приданое ее до последней нитки. Теперь стал мягко стлать. Пишет, что христианский долг повелевает ему помочь тебе в расторжении брака. Тебя во всем оправдывает. Это письмо будет служить важным документом, когда начнется дело. Видел я и ее, несчастную, в заведении… В несколько минут она мне рассказала (и всякому рассказывает) ужасные вещи, которые только беснующаяся ревнивая женщина может изобрести. Я, старик, краснел, слушая ее… Если б женщина в полном разуме сказала бы вслух то, что эта несчастная говорила, она достойна была бы позорного столба. Как описать тебе ее наружность! Это пятидесятилетняя женщина, остов человека, готовый разрушиться. Доктора говорят, что она может скоро умереть и может еще несколько лет протянуть».
При чтении этих строк Волгин облил их слезами. Это была последняя дань женщины, которая так долго носила его имя. Но с этого времени сердце его раскрылось для надежд лучшей жизни. Он сделался неравнодушен к советам дяди, вышел в отставку и начал дело о разводе. В первой инстанции духовного суда оно было решено; в высшей должно было скоро решиться также благоприятно для него. Как писал дядя, законных препятствий, наконец, не оказалось. Но во время ожидания этого окончательного решения умер другой дядя, оставивший племяннику в наследство имение в Холоденском уезде. Встреча с Катей на Москве-реке была роковая. Сама судьба указывала ему будущую подругу его жизни. Он видел в ней благодетельного гения, пришедшего избавить его от ужасных оков, в которых до сих пор находился. Первый взгляд на нее, первые слова, ее сказанные, решили его участь. Познакомившись с Катей, он нашел в ней ту избранную, которую назначал ему дядя в письме своем. Она воспитывалась в Смольном монастыре, была скромна, добра, образована и любила его – в этом он уверился. Волгин, приехав в Холодню, боялся сблизиться с ней, как будто совесть запрещала ему вступать в новые сердечные связи, которые законы не могли еще освятить. Мы видели, однако ж, что противиться влечению сердца он не был в состоянии.
И прежде знакомства своего с дочерью Горлицына отдано им было, раз навсегда, его людям приказание сказывать везде, где не знали его несчастной истории, что он вдовец. «Таким образом, – думал он, – избавлюсь от тягостных расспросов и сожалений». Полюбив же Катю, радовался, что сделал это распоряжение, без которого был бы ему загражден путь к сердцу ее; но по временам не мог не тревожиться за последствия этой уловки, противной его благородным правилам. Дело сделанное поправить было невозможно. Только уверившись во взаимных чувствах к нему Кати, Иван Сергеевич открыл все дяде своему и умолял его поспешить окончанием дела. «Высвободите меня, – писал он к нему, – из ужасного положения, в которое я себя вновь поставил, и откройте мне доступ к моему благополучию». Дядя в ответ посылал ему свое благословение и обнадеживал, что решение дела не замедлит. Сказать же Горлицыну, что брак еще не уничтожен, когда это обстоятельство было скрыто прежде, боялся, не решался Волгин. Между тем новая гроза вставала над его головой.
В таком состоянии были дела его, когда мы в Холодне расстались с ними и с семейством Горлицына.
Вскоре после того в Холодню пришел пехотный полк. Военный блестящий строй, развевающиеся знамена, изувеченные в славных екатерининских битвах статные офицеры, ловко выкидывающие разные фигуры своими эспантонами, грохот барабанов, торжественная музыка, – все это было ново в уездном городке. Спавшее до сих пор население его проснулось и зашевелилось. Толпа дивилась треугольным шляпам на офицерах и солдатах, пучкам их и пуклям, красным отворотам, и бегала за военными, как за пришельцами из чужой земли. Во время вечерней зари весь город стекался около гауптвахты. Это был настоящий праздник. И в сердцах прекрасного пола забил барабан тревогу. В полку было несколько красивых отважных офицеров, готовых идти смело на всякий приступ.
Военные имеют особенный дар тотчас по приходе на новые квартиры узнавать, где живут хорошенькие дамы и девицы. Разумеется, большая часть их познакомились с Горлицыными и стали оспаривать друг у друга счастье понравиться Кате. Со всеми была она свободна, приветлива, ровна, старалась, как молодая хозяйка, чтобы в доме отца ее не скучали, но никому не показывала предпочтения. Как скоро же замечала, что за ней начинают слишком ревностно ухаживать, умела скоро дать знать своему поклоннику, что это ей не нравится и успеха его искательству не будет. Никогда самый храбрый из этих рыцарей не осмеливался переступить границ уважения к ней. Столько было скромности, приличия, достоинства в дочери бедного соляного пристава! В это самое время вставала для этих рыцарей новая звезда, которая хотя давно блистала на холоденском горизонте, но не имела еще поклонников. Это была Прасковья Михайловна Пшеницына. Гостеприимный дом мужа ее был открыт для всех, и офицеры хлынули туда вслед за своим генералом Эс-м, молодым, красивым. Оставался только геройски верен знамени Кати Горлицыной один офицер, приятной наружности и с прекрасными душевными качествами. Он влюбился в Катю. Поощряемый своим сердцем и опираясь на преимущества хорошего состояния, он не мог думать, чтобы дочь бедного соляного пристава не склонилась, наконец, на постоянство его почтительной, бескорыстной любви. В Волгине же, у которого была уже седина в голове, хотя приятном и достойном всякого уважения человеке, не видал опасного соперника. Этого молодого человека звали Селезневым.
Катя не поощряла его никакими надеждами, но и не отталкивала резкими выходками и была с ним равно любезна, тем более что отец полюбил Селезнева от души. Эта партия льстила Горлицыну, потому что он видел в нем достойного, благородного, пылкого искателя руки его дочери, идущего скорым шагом и прямым путем к цели своей. «Вот этак по-нашему!» говорил он сам с собой. В Волгине же начал несколько сомневаться. Иван Сергеевич казался ему каким-то рыцарем печального образа, под непроницаемой броней таинственности, нерешительным, колеблющимся. Все это не скрылось от глаз Волгина и прибавило новые страдания к тем, которые он терпел от невозможности сделать предложение Кате.
Между тем нужды начинали сильно осаждать Горлицына. С приездом его дочери бюджет его доходов и расходов совершенно изменился. Доходы уменьшились важной статьей – дом уж ничего не приносил. Расходы значительно выросли. Для Кати нужно было держать получше стол; приличие требовало угощать посетителей чаем, закуской. Эти угощения считались необходимыми, чтобы не показаться голыми бедняками и не пристыдить Катю. Посетителей нельзя же не принимать, чтобы Кате не было скучно, да и неловко принимать одного Волгина. Любовь отца рассчитывала также на верного женишка между ними. Прибавилось два человека прислуги; надо было их одеть и накормить. Хорошо еще, что Катя на деньги, полученные ею при выпуске из института, составила себе порядочный гардероб. Но мало ли что нужно девице, выезжающей в свет, хотя и холоденский? Разные вещицы для нее, которые у зажиточных людей считаются ничтожными безделками, опустошали также кошелек Горлицына, и без того скудный. Катя, жившая на всем готовом в институте, не имела понятия о том, что надо издерживать на нее и что мог отец ее издерживать. Должность соляного пристава, конечно, очень скромная; отец ее небогат, потому что не имеет каменного дома, экипажа, большой прислуги, – это знала она; но не воображала, чтобы он мог нуждаться в необходимом. Настоящую же нужду, бедность, не иначе представляла себе, как в лохмотьях, протягивающую руку для подаяния. Маленькие остатки от собственных ее деньжонок почти все мало-помалу перешли к таким беднякам. Впрочем, желая ознакомиться с домашним хозяйством (не даром же называли ее молодой хозяйкой!) и облегчить отцу занятия по этой части, она просила поручить ей эти занятия. Но Горлицын, упрямо, под разными предлогами, отказывался посвятить ее в тайны домашнего очага. Он хотел оставить ее в спокойном, счастливом неведении его скудных средств. Зачем ее, такую молодую, довольную своей судьбой, знакомить с горькой существенностью? Радости, как певуньи-птички, свили себе гнездо в ее сердце; спугнешь их, не скоро загонишь назад. Людям строго наказано было скрывать от Кати все, что могло ее огорчить или потревожить.
Когда она еще не приезжала из Петербурга, Александр Иваныч не стыдился ходить с своим кулечком в лавки и на рынок. Что ему были мнения холоденских жителей! Но когда поселилась в доме петербургская, воспитанная девица, на которую обратил внимание богатый сосед, Горлицын стал стыдиться этого кулечка. Он передал его Филемону. Хозяйство от такого распоряжения не потерпело; напротив того, верный слуга покупал все дешевле своего барина, да еще умел, за недостатком денег, кредитоваться то у одного, то у другого торговца. Но и кредит начал мало-помалу колебаться. «Больно горды вы с барином, – говорили Филемону лавочники. – То-то бы ломаться не надо. Что за честь, когда нечего есть!» Такие отзывы очень раздражали старого слугу.
Грозно, настойчиво осаждали враги, называемые нуждами, домик холоденского соляного пристава и с каждым днем все теснее и теснее обступали его.
Даже в присутствии Кати крепко задумывался иногда Горлицын. Забывшись, он что-то бормотал про себя и перебирал пальцами, как будто делал какие-то выкладки.
– Что это вы, папаша, ныне так скучны? – говорила Катя, ласкаясь к отцу. – Все считаете по пальцам. Уж не беспокоят ли вас какие счеты?
– На службе не без забот, душа моя, – отвечал Горлицын. – Однако ж, все пустяки! Показалось мне, в нескольких кулях соли обчелся.
– Чтобы мне поручить вашу счетную книгу? Ведь я знаю тройное правило, а это правило золотое, пригодно во всех случаях жизни, говаривал мне учитель. Хотите, я вам сочту, сколько у вас зерен соли в магазине? Положим, в фунте столько-то зерен, в пуде столько-то фунтов, в куле – пудов, в магазине – кулей. Проэкзаменуйте-ка меня.
Горлицын засмеялся и сказал:
– Кто ж считает зерна соли? Ведь это все равно, что сосчитать песчинки на берегу реки.
– Ну, так я вам сочту приход и расход ваших денег с моего приезда, и выведу остаток. Положим, у вас было такого-то числа 2,157 рублей 63 7/8 копейки…
– Полно ты, моя милая счетчица, – перебил Катю отец, у которого сердце сжалось еще сильнее, когда она произнесла гигантскую сумму его мнимого богатства. – Верю, что ты арифметику хорошо знаешь, да твоя мне не годится… Вот, как выйдешь замуж…
– Что ж вы меня так скоро гоните от себя?
– Гнать?.. Можно ли, душа моя?.. Ты мне одна отрада на свете. Да ведь когда-нибудь надо. Сыскался бы добрый человек, так я бы сам к вам перебрался.
– А, например, кого бы вы выбрали мне? – спросила лукаво Катя.
– Например, вот Селезнева.
– Селезнева?.. – И неудовольствие изобразилось на лице Кати.
– Молодой человек очень достойный. Он мне уж делал предложение…
– Что ж вы ему сказали?
– Просил подождать. Знаю, сосед был бы больше по сердцу, да… чудак какой-то… Вот уж слишком три месяца к нам ходит, ухаживает за тобой и только… серьезного ничего… Где ж? такой богатый человек, может быть, и знатная родня… а мы живем в хижине, званием невелички… Уж не потешается ли, как игрушкой, от скуки?..
– Потешается?.. Не может быть, неправда! – сказала с одушевлением Катя; но, поняв, что слишком резко отвечала отцу и могла этим оскорбить его, стала к нему ласкаться и промолвила: – Зачем же, папаша, обижать напрасно доброго, благородного человека?
Катя не могла ничего более сказать, заплакала и упала на грудь отца. Александр Иваныч заметил, что любовь пустила слишком глубокие корни в сердце дочери, крепко смутился и проговорил:
– Ну, виноват, душечка; так к слову сказалось… Прости мне. Времени у тебя впереди много. Господу поручаю тебя и твою судьбу. Он лучше нас все устроит.
Этот разговор оставил, однако ж, тяжелое впечатление на душе Кати и заставил ее придумывать, что бы могло остановить Волгина сделать отцу предложение, Волгина, который, казалось, так ее любит. Обманывать ее он не может, нет и сто раз нет!
Когда Катя вышла из комнаты отца, он грустно проводил ее глазами, покачал головой и опять впал в глубокое раздумье, и опять стал перебирать пальцами. «Жалованье взято вперед за два месяца: статья конченная. Занять у Пшеницыных? Неловко: по службе имеет отношения. За послугу надо быть благодарным». Сколько знает он людей, которые, задолжав усердным кредиторам, делались их ревностными слугами; как часто благодарность вводила в нечистые дела!.. «У предводителя? Просить, ох, тяжело!.. Дадут, чем отдать?.. Предводитель же сам не Бог знает какой богач, ждать долго не может. Еще более запутаешься. Заложи серебряные часы, подарок жены на второй день брака? Разве прибавить к ним обручальные кольца?.. Пожалуй, скрепя сердце, он послал бы их с Филемоном к какому-нибудь ростовщику. Но что даст за них ростовщик? Безделицу, а возьмет жидовские проценты. Заложить дом? Но завтра ж он может умереть, и какое наследство оставит дочери?..»
Приближался час, когда Горлицын мог отчаянно сказать – незнаменитое, хотя пригодное на этот случай, изречение Франциска I после поражения под Павией: все потеряно, кроме чести! Нет, роковые слова чиновника-бедняка, у которого есть дочь, нежно любимая – слова, много значащие, хотя и очень простые: осьмушку чаю, фунт сахару на завтрашний день! Год жизни за осьмушку чаю, за фунт сахару!
Правда, были еще у Горлицына два средства отдалить этот роковой час и взять передышку от бремени нужд, которые на него налегали. Первое средство предложил ему усердный Филемон в одно из совещаний, на которые они сошлись тайно от всех; другое само собой представилось Александру Иванычу в минуты отчаянного его положения.
Филемону передал по секрету старый инвалид, приставленный к соляному магазину, что в этом магазине есть несколько десятков лишних кулей, накопившихся с годами, оттого что у Александра Иваныча не было или было очень мало утечки и усушки, положенных даже законом. Неровен час, приедет ревизор, да еще взыщет за лишнюю соль; пойдут допросы, откуда взялась. Что скажешь? как отделаешься от этих зубастых допросов? Для безопасности должно, без греха можно, ее продать. Инвалид и старый слуга берутся это сделать так, что никто не узнает. А денежки можно выручить хорошие.
– Продать, из казенного места, казенное добро в свою пользу? Посягнуть на воровство первый раз в жизни? Сделать дольщиками этого воровства слугу и сторожа? Да как ты осмелился мне это предложить, сударь ты мой? Да я тебя упеку и с твоим инвалидом, куда ворон костей не заносит! Что мне ревизор? Соль налицо; не бесчестно, не с корыстными умыслами копил!.. Я сам донесу по начальству, и делу конец.
Такой резкой исповедью Александр Иваныч осыпал Филемона, словно картечью; но слуга не струсил. Раздосадованный, что его золотой совет, так хитро и с таким усердием придуманный, не удался, он нагрубил первый раз в жизни своему барину и покончил тем, что предсказывал ему суму, да и несчастной дочке такую же участь. Горлицын в сердцах вытолкал его из двери. После такой неудачи и оскорбления, старый слуга впервые в жизни запил, и так запил, что не мог идти на рынок. Эту обязанность исполнила Бавкида, не преминув сначала поколотить порядком своего супруга. Новый удар принял бедный Горлицын в сердце, будто истинное наказание Божье.
Другое средство избавиться от всех этих мирских, треволнений было – прибегнуть к секретной шкатулке, в которой хранилась экономическая сумма, накопленная в столько лет к приезду дочери. В шкатулке уже близ ста рублей. Но деньги эти назначены Кате; они сделались ее добром, ее собственностью. Что ж? он займет не у чужого, у дочери. Придут более счастливьте дни, и деньги возвратятся на свое место. Решено: секретная шкатулка – единственный источник, из которого можно почерпнуть без укора совести. Не то завтра у Кати не будет чаю, завтра… мало ли чего не будет?
В раздумье ходил Александр Иваныч несколько времени по своей комнате взад и вперед, тяжелыми шагами, которые отдавались в потолок Катиной спальни. Вещее чувство сказало ей, что отец ее чем-нибудь необыкновенно озабочен. Грустный, пасмурный вид, которого она прежде в нем не замечала, какая-то скрытность в поступках, тяжелые шаги, никогда так сильно не раздававшиеся над ее головой, – все это встревожило ее, и она решилась идти к отцу наверх.
В это время Александр Иваныч, достав заветный ящик, бледный, дрожащими руками отпер его, будто собирался украсть чужие деньги. Только что успел он взглянуть на свое сокровище, как дверь тихо отворилась. В страхе он опустил руки, затрясся, хотел что-то сказать, но не мог выговорить слова. Жалкий, умиленный вид имел он, будто застигнутый воришка. Шкатулка была наполнена почти доверху крупной и мелкой серебряной монетой. В первые минуты Катя не могла приписать смущение отца ничему другому, как испугу, что застала его над деньгами, которые он старался скрыть от нее… Она всплеснула руками и промолвила:
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67