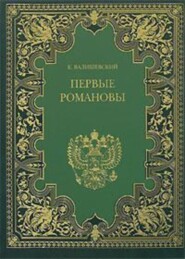По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокруг трона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вокруг трона
Казимир Феликсович Валишевский
Историческое сочинение «Вокруг трона» польско-французского историка Казимира Валишевского (1849-1935) на сегодняшний день является одним из наиболее увлекательных рассказов о сподвижниках и фаворитах Екатерины Великой, их влиянии на жизнь императрицы и всю историю России.
Текст произведения представлен в новой редакции и в современной орфографии.
Казимир Валишевский
Вокруг трона
ПРЕДИСЛОВИЕ
Читатели «Романа Императрицы» знают, что автор рассчитывал дополнить свой труд за счет работ, появляющихся в настоящее время. Он не полагает, что нуждается в оправдании. Какова бы ни была личность, которую мы пытаемся вызвать из прошлого, историческое значение среды, всегда важное, еще более расширяется для первых ролей человеческой драмы: сильных индивидуальностей, энергичных характеров. И оно все увеличивается, доходя как бы до раздвоения нравственной личности в окружающей среде, так что кажется, наконец, будто мы видим в последней как бы продолжение, прямую преемственность этого существа, одаренного чрезвычайной силой.
Екатерина, по преимуществу, принадлежит к этому исключительному разряду. Из всего, составившего ее величие, престиж и обаяние, она, можно сказать, ничего не получила по наследству. Она сама завоевала или создала все, окружавшее ее: дворцы, в которых жила, большей частью выстроены ею самой; людей, служивших ей, она не только выбирала, но – лучше того – сама наложила на них отпечаток, какой ей был нужен, вдохнула в них, следовательно, много своего. Среди ее сотрудников, даже тех, которые внесли в свою службу ей наибольшее количество личных достоинств, инициативы и даже оригинальности, многих она имела полное право назвать своими воспитанниками. И гениальный Потемкин принадлежал к числу их. Из среды ее поклонников некоторые дошли в преклонении перед ее личностью не только до более или менее добровольного самоотречения, но до действительной потери индивидуальности: пример – Гримм. И, таким образом, говоря о нем и других, мне всегда придется говорить о ней, и главным образом о ней. Не потому, что эти лица не были интересны сами по себе: в этой среде, которую я намереваюсь осветить, явится на границах Азии не только Россия, но вся современная Европа – Европа политическая, литературная и философская, в лице некоторых наиболее знаменитых ее представителей; и, показывая Екатерину среди тех, кто способствовал ее величию, я выставляю также соприкосновение двух миров.
Прежде чем приступить к своему труду, я пожелал посетить места, где протекла эта единственная в своем роде жизнь, некоторые стороны которой я намереваюсь воспроизвести. Я надеялся найти там какие-нибудь более определенные, более жизненные следы, чем те, которые может дать историку мертвая буква документа. Увы! Я нашел только полную пустоту, образовавшуюся – уже так скоро! – после всего исчезнувшего. В петербургских дворцах, даже в Эрмитаже – нет ничего или сохранилось очень мало: сгоревшее в царствовании Николая I великолепное здание Растрелли было перестроено с самого основания. В Царском почти ничего не осталось: исчезло все роскошное или изящное, так восхищавшее Сегюра; разрушена та интимная обстановка, среди которой под благосклонным взглядом божества, воспетого Вольтером, состязались в остроумии находчивый принц де Линь, изобретательный Потемкин и несколько грубовато-шутливый Нарышкин. Новое убранство, новые вещи изгладили одно, заняли место другого. Петр Великий в этом отношении оказался счастливее: его деревянный домик, в своей великой бедности и с так много говорящей исторической меблировкой, стоит до сих пор неприкосновенным на хладных берегах, которые Петр сумел вызвать к жизни. Различные мелкие вещи, принадлежавшие внуку Екатерины, благоговейно сохраняются в Царском. Между внуком и бабкой разверзлась пропасть: тут сказалась злопамятность Павла, угрызения совести Александра I. Во дворце Павла помещается учебное заведение, а комната, где император спал в ночь 12 марта 1801 года, превращена в церковь.
В Москве – тоже ничего, а в окрестностях – в Царицыне – развалины на месте одной из любимых резиденций Екатерины!
Люди и события в России сменяются быстро: поздно вступив в историю, как бы спеша жить, этот народ даже будто нарочно помогает разрушительному делу времени. У этого величия и этой цивилизации, едва просуществовавших век, уже есть свои развалины.
Более цельным и узнаваемым образ обаятельной государыни явился передо мной в мемуарах нескольких почитателей старины, набожных хранителей преданий и традиций, которые, однако, тоже изглаживаются. История должна поспешить за ними со своей созидательной работой.
Мне не приходится просить внимания к моему труду: читатель уже почтил меня им. Для тех усилий, которые я еще вложу в свою работу, мне остается только надеяться и впредь на то снисхождение, благотворное действие которого я уже испытал и оценил.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
Глава 1
Государственные люди [1 - «Русский Архив». Различные документы. 1876, I; Arneth. Maria Theresia und Joseph II; Бильбасов. История Екатерины; Blum. Ein russischer Staatsmann (Биография Сиверса); Correspondence politique, Архив французского Министерства иностранных дел; «Политическая переписка» в сборнике Императорского Русского Исторического Общества, тома: X, XIX, XXII, XXVI, XXVII, XXIX, XLVI, XLVII. «Корреспонденция» Миниха, изданная Бюшингом; Григорович. Биография Безбородко; «Записки» князя Долгорукова, Энгельгарта, Греча, Гарновского, Комаровского, лорда Мальмсбера, Палеро; Лазаревский. Малорусские исследования; Лебедев. Граф Панин; Материалы для биографии Безбородко, опубликованные в «Русском Архиве», 1875, II; Journal de Saint-Pеtersbourg; Чтения. 1863; Соловьев. История России. XXV; Терещенко. Биографии министров.]
I. Русские, малороссы и иностранцы. Первые роли и статисты. – Немцы. – II. Панин. – Министр переходного времени. – Борьба с фаворитами. – Личное вмешательство в политику Екатерины. – III. Князь Вяземский – Глебов. – Либерализм и ретроградное направление. – Чернышовы. – IV. Безбородко. – Завтрак, имевший важные последствия. – Императорский фактотум. – Торжество хохла. – Влияние плохо натянутых чулок на карьеру государственного человека. – V. Другой малоросс: граф Разумовский. – Уничтожение гетманства. – Присоединение Малороссии. – VI. Иностранные сотрудники. – Бестужев, Миних. – Сочинитель мадригалов. – VII. Остерман. – Кейзерлинг. – Штакельберг. – Сиверс. – Второй раздел Польши.
I
С 1788 по 1790 г., в течение войны со Швецией, так необдуманно начатой и так мужественно веденной, Екатерина Великая, или, как ее называл Вольтер, Екатерина Великий, пережила, как известно, немало тяжелых часов. Было время, что не получалось ровно никаких известий, и можно было опасаться, что флот Грейга постигла какая-нибудь ужасная катастрофа. Наконец, прибыл курьер от адмирала. Екатерина велела немедленно прочесть себе депеши. Нагнал ли он неприятеля? разбил ли его? Нет еще; но встреча была неминуема; обе эскадры находились друг от друга на расстоянии двенадцати морских миль. Екатерина вопросительно взглянула на окружающих: морская миля, сколько это? Окружающие молчали. Тут был и красавец Мамонов, знавший все – как часто говорила императрица – ничему не учившись. Он молчал, наравне с прочими. Решили послать в Адмиралтейство; но в это время находились в Царском, и пришлось ждать ответа до вечера. Прислали сказать, что морская миля равна семи верстам. Это было большим разочарованием для Екатерины; она сильно рассердилась на своего адмирала: ей бы хотелось, чтоб ее и шведские суда сошлись; а фантастический расчет Адмиралтейства еще увеличивал настоящее расстояние, указанное Грейгом. Вот как ей служили и какие сведения доставляли.
«Я воевала без адмиралов и заключила мир без министров», – говорила она после этого тяжелого времени. Вызванные смесью горечи и гордости, эти слова были совершенно справедливы и могут относиться даже к большей части ее царствования. Однако напрасно Екатерина обвиняла в этом судьбу: она сама относилась очень равнодушно к выбору людей, которые должны были помогать ее начинаниям; по ее мнению, что один человек, что другой – безразлично. Это характеристическая черта ее истории с той точки зрения, с которой мы приступаем к ней теперь. Людей действительно выдающихся было мало среди окружавших ее; ее можно не винить в этом; но и из числа их ни одного нельзя измерить полной величиной, так как она царствовала и правила, и в этом нельзя не видать прямого следствия взглядов и принципов чисто личных, применяемых ею к правлению; а также и особенности ее характера. Между качествами, которыми должен бы отличаться предпочитаемый сотрудник правительницы, она ценила особенно одно: гибкость. Но последняя редко уживается с действительно выдающимся умом. В Екатерине в полной мере была развита наклонность к деспотизму, допустимому при ее положении самодержицы, но также к капризу и причудам – свойствам женщины. Это был самый существенный недостаток ее умственного склада. Но она отличалась вместе с тем способностью извлекать пользу как из своих недостатков, так и достоинств, не стремясь ни к чему более; и это также вело Екатерину к тому, что она мало ценила действительные достоинства сотрудников, которых привлекала. Ей скоро представился случай убедиться, что знание людей, угадывание их способностей и достоинств – не ее ума дело. Ее первый выбор среди высших сановников был несчастлив: он пал на Теплова – попросту плута. При склонности к крайностям, свойственной ее уму, этого было достаточно, чтоб императрица уверилась, что она будет находить Тепловых повсюду и что, следовательно, самое лучшее, что она может сделать – это надеяться в ведении своих дел исключительно на себя. Однако, так как эти дела касались и России, то она поняла, что они слишком сложны и обширны, чтоб ей было возможно выполнить безусловно программу личного управления, возникшую в ее уме тотчас после восшествия на престол – самую исключительную, обширную и вместе с тем удобопонятную, какую можно себе представить. Таким образом у нее появились первые министры, также как главнокомандующие ее армией. А в лице Потемкина у нее даже оказался как бы вице-император, с видом полусамодержца и повелителя. Но наружность, при более близком знакомстве с порядком вещей, мало соответствовала действительности. Эти министры и генералы, даже самый этот alter ego, столь внушительный с виду, были не только орудиями, которыми единственная рука управляла всегда с известной суровостью и незаметно, не давая воли, постоянно грозя сломить их не сегодня-завтра, без всякой возможности сопротивления – это были, по большей части, ее креатуры, в буквальном смысле слова; существа, созданные целиком той же искусной рукой и носящие во всех своих делах ее отпечаток. И, таким образом, история государственных людей и полководцев, прославивших царствование Екатерины, является в значительной степени ее собственной историей.
Но не один только подобный исторический интерес может возбудить в нас желание познакомиться с ними. Я уже несколько раз пытался доказать, что во многих отношениях настоящая России есть только прямое и непосредственное наследие великого царствования. И это особенно справедливо, или, по крайней мере, было справедливо до очень недавнего времени, по отношению к высшему правительственному персоналу. Имена и личности другие, типы же остались неизменными. Вот эти то типы я хочу попытаться осветить, и, пробегая по этой галерее портретов, мы познакомимся с миром, очень недалеким от нас.
Государственных и военных людей, которых мы видим там, можно, вообще, разделить на три категории: чисто русских, малороссов и поляков, смешавшихся без разбора, и иностранцев. Разница в происхождении сказывалась довольно резко в разнице способностей и характеров. Некоторые общие черты сближают две первые группы: натуры одновременно примитивные и чрезвычайно сложные, в которых дикость странным образом смешивается с крайней утонченностью – следствие особого наслоения рас и различных влияний; западная культура, привитая на гнойнике азиатчины, которой молодая русская поросль пропиталась в течение векового рабства. Та же нерадивость и лень с внезапными вспышками бешеной, поразительной энергии; то же восточное презрение ко всякому порядку и всяким правилам; то же отсутствие заботы о времени; та же тонкость и проницательность ума в соединении с обманчивой наивностью; та же склонность к всевозможным видам удовольствия; тот же необузданный темперамент; то же богатство воображения в изыскании наслаждений; наконец, та же гибкость, помогающая с постоянной и чрезвычайной легкостью покоряться всем переменам положения, состояния и занятий, браться за всякие должности, повиноваться беспрекословно всем капризам повелителя, доходить до крайних пределов послушания, слепого, наивного, невозмутимого и всегда между тем сохранять способность подняться, одним прыжком перескочив через все перенесенные неудачи, выбраться из тины, где завязала нога, и жестоко отмстить за все. С одной стороны – со стороны малорусской – более богатая натура и разнообразие ресурсов следствие еще большей амальгамы первоначальных элементов: наносные пласты казачества, куда приплывали и где задерживались обломки различных искателей приключений, принадлежавших ко всем европейским народам; греческие и польские отложения, медленно осевшие на русском основании; более устойчивости в уме, но менее постоянства в характере; более развития, но большая испорченность. Что же касается иностранцев, то, несмотря на всю их многочисленность, их значение во время этого царствования невелико. Между ними не выдвигается на первый план ни одной личности: ни влиятельного министра, ни фаворита. Они – за одним, двумя исключениями – не поднимаются выше статистов. Эпоха им не благоприятствовала. Чтобы успеть в чем-нибудь и выдвинуться вперед, им не достает именно главного качества, так ценимого Екатериной – той покорной и эластичной гибкости, которой обязаны были своим успехом Потемкин и его соперники. По большей части немцы – народ корыстолюбивый и покорный – они служат, как им платят, гнут спину, но без изящества; они плоски и негибки, мрачны и печальны в душе, где взращивают изумительный цветник германской флоры: сентиментальность и дикую гордость, грубость и поэзию, мещанские добродетели и философский ум. – И все это замечательным образом уживается с карьерой добросовестного чиновника или придворного. Однако не станем слишком злословить на их счет, как к тому замечается за последнее время наклонность в России. И совершенно напрасно, потому что они создали Россию такою, какова она есть. Да, они обработали своими трудолюбивыми руками эту упорядоченную, образованную, открытую для торговли и промышленности Россию, с которой начинает знакомиться теперь Европа. Они построили дороги, прорыли каналы и устроили школы. Как наемники, – я уже сказал это – как люди, которым платят и которых отпускают, когда их дело окончено. И справедливость требует, чтобы при просмотре их маршрута, обращалось внимание на их формуляр. К тому же, в великой славянской империи во время царствования Екатерины одну главную роль постоянно и великолепно исполняло лицо иностранного, именно немецкого происхождения – она сама. Забыть это – значило бы оказать большую несправедливость как ей, так и ее отечеству.
II
Великим государственным человеком первой половины царствования – насколько таковой мог существовать – был Панин – чисто русский по происхождению, несмотря на некоторые старания доказать его генеалогическое происхождение от итальянских родичей. Во Флоренции, в удобную минуту, проявилась семья Паньини – так же, как раньше во Франции семья Биронов, – которая заявила кстати об общем происхождении. Первые шаги Никиты Панина на политическом поприще, его участие в придворных интригах, волновавших царствование Елизаветы, уже известны читателю.[2 - См. Роман императрицы.] Из министров Екатерины он был почти единственным, имевшим прошлое и принесшим, таким образом, в управление делами уже готовые взгляды или, по крайней мере, умственные наклонности, в которых императрица могла видеть не просто отражение собственных взглядов. И его работа на посту министра, поэтому, является переходной эпохой, подготовившей путь к постепенному сосредоточению власти в одном лице, которое императрица желала и сумела провести и для которого требовались другие сотрудники. Это было дело, приводившееся в исполнение искусно, терпеливо, безостановочно, начиная с самого первого часа. Даже во время государственного переворота 11 июля 1762 г. к фельдмаршалу Салтыкову был отправлен курьер с подписанным императрицей приказанием от Коллегии Иностранных Дел немедленно очистить прусскую территорию ввиду мира, который Петр III решил заключить, чему и Екатерина, поддерживаемая Паниным, тоже сочувствовала. Но тот же курьер вез собственноручную записку Екатерины, помеченную тем же днем, где императрица советовала фельдмаршалу держаться распоряжений, уже сделанных им при получении известий о петербургских событиях, и имевших в виду именно двинуть войска, состоявшие под его командой дальше, и закончить занятие завоеванных областей. Однако на этот раз Панину удалось настоять на своем. Но не всегда он бывал так удачлив. Настала минута, в конце его карьеры, когда он сохранял только декоративную сторону положения, в которое постоянно вторгалась самовластная самодержица и вечные хулители – ее фавориты. Уже великое дело – суметь удержаться в этом положении, если и не с блеском, то все же прилично, до самого конца. В этом Панину помогало замечательное хладнокровие, такт и выдержка; а, может быть, его недостатки даже больше, чем достоинства. Главными его помощниками были его вошедшая в поговорку лень, изнеженная жизнь, которую он вел, и беззаботность – смесь скептицизма и умственной лени, – введенная им для себя в систему.
Постоянно пытаясь подставить ему ногу и мало-помалу вытеснить из положения, которое она ему создала, и сохраняя только наружный почет, Екатерина, тем не менее, долго смотрела на своего первого министра, как на человека необходимого.
«Что же мне делать?» – отвечала она резко Орловым, указывавшим на проступки Панина и на его ухаживание за графиней Строгановой, у ног которой он забывал о государственных делах. «Императрице я нужнее, чем она мне», – со своей стороны говорил Панин графу Шереметьеву, за дочь которого сватался, когда Екатерина уже предназначила богатую наследницу одному из братьев тогдашнего фаворита. Орловым опять пришлось уступить; сама императрица продиктовала глас семьи, письмо с отказом, и графиня Шереметьева стала бы Паниной, если бы не неожиданное вмешательство смерти в эту семейную драму.
«Г. Панин, без сомнения, человек умный; манеры у него благородные, непринужденные. В нем есть задатки добросовестности, которые, к его чести, всегда проявляются и показывают действительную чувствительность. Он способен и сообразителен; он приятный собеседник, несмотря на то, что ему чрезвычайно трудно говорить последовательно, что он увлекается и при этом бывает часто нескромен. Но, несмотря на все эти преимущества, он далек от того, чтобы быть великим министром. Его лень и нерадивость невозможно выразить. Он проводит жизнь с женщинами и второстепенными придворными. С делами, даже первой важности, он не спешит. В нем все вкусы и причуды изнеженного молодого человека; мало образования; весьма несовершенное знание европейских государств; упрямство во многом, непостоянство в склонностях и отвращение к некоторым личностям; соединение мелкого ума, не идущего далее мельчайших подробностей, с желанием все видеть в широких размерах, в то время как он забывает самые главные вещи... Он весь в руках канцелярских служащих, злоупотребляющих его слабостью и в то же время громко попирающих его нерадение; одним словом твердый и правдивый в одном – в своем подчинении Его Прусскому Величеству...»
Таков нелестный портрет, который рисует в 1772 г. Сабатье де Кабр в своем письме из Петербурга к герцогу Эгильонскому. Он беспристрастен, потому что признает неподкупность первого министра, прибавляя при этом: «и, может быть, это единственный русский в этом отношении». Год спустя его преемник, Дюран, дает следующую характеристику: «Этот Панин человек добрый, но беспечный, ленивый и развратный, бессильный физически, безвольный и вялый умственно. Я знаю Паниных с малолетства. Министр был рядовым в военной гвардии... Он понадобился императрице Елизавете для другого... и оказался для этого негодным. Его отправили в Швецию. Он прожил там двенадцать лет. Сон, брюхо, девки были его государственными делами».
«Чувственный по темпераменту и изленившийся», пишет со своей стороны шевалье де Корброн, другой французский уполномоченный, и подкрепляет свою оценку пикантными анекдотами. Нолькен, шведский посланник, которого Панин удерживал к обеду, извинялся необходимостью отправить депеши, не терпящая отлагательства. Тогда Панин с самым небрежным видом сказал ему:
– Видно, барон, что вы не привыкли к большим делам, если отправка какой-нибудь депеши мешает вам пообедать.
Для проверки этих согласных свидетельств мы имеем распорядок дня министра, записанный в 1781 г. маркизом де Верак. По его словам, министр имел обыкновение ложиться около пяти-шести часов утра «из-за беспокойства, которое ему причиняли ноги». Он вставал в два часа и принимался за туалет, продолжавшийся очень долго, благодаря его недугам. В четыре часа он принимал лиц, обыкновенно его ожидавших; но тут уже подавали обед; после него прогулка в экипаже и часовой отдых. В половине восьмого министр принимал своих обычных гостей, и день кончен. «Промежуток от половины седьмого до половины восьмого был единственным временем, когда с ним можно было говорить о делах; но состояние его здоровья постоянно доставляло ему благовидный предлог, чтобы не давать положительного ответа».
Приблизительно то же самое говорит Лаво в своих мемуарах, впрочем, вообще мало достойных доверия:
«Он очень любил еду, женщин и игру; от постоянной еды и сна его тело представляло одну массу жира. Он вставал в полдень; его приближенные рассказывали ему смешные вещи до часу; тогда он пил шоколад и принимался за туалет, продолжавшийся до трех часов. Около половины четвертого подавался обед, затягивавшийся до пяти часов. В шесть министр ложился отдохнуть и спал до восьми. Его лакеям стоило большого труда разбудить его, поднять и заставить держаться на ногах. По окончании второго туалета начиналась игра, оканчивавшаяся около одиннадцати. За игрой следовал ужин, а после ужина опять начиналась игра. Около трех часов ночи министр уходил к себе и работал с Бакуниным, главным чиновником его департамента. Спать он ложился обыкновенно в пять часов утра».
А между тем, во время пребывания де Верака в Петербурге Панин был лицом, официально заведовавшим внешними сношениями большого государства, и Иосиф II, посетивший около этого времени северную столицу, думая о Каунице, не мог не удивляться. Он писал матери: «У этого человека все только одни слова, а дела мало... Целый поток запутанных мыслей и выражений, в которых не разберешься».
Правда, французов и австрийцев можно заподозрить в некотором недоброжелательстве к решительному стороннику прусского союза. Но свидетельство, уже не подлежащее с этой точки зрения никакому подозрению – это свидетельство англичан. Панин стоит за них так же, как за Пруссию. Однако и они говорят в том же духе. Кэскарт жалуется в 1771 году на трудность увидаться и поговорить с первым министром: утром он невидим, а после обеда на прогулку. Сама императрица видится с ним только раз в неделю. Истинная причина, заставляющая государыню держать на посту такого бездеятельного министра – его нерадивость. Императрица не считает его достаточно деятельным, чтобы попытаться произвести переворот в пользу Павла. А Гаррис в 1778 г. пишет в депеше, адресованной главе Foreign Office: [3 - Министерство иностранных дел.] «Вы не поверите мне, если я скажу вам, что в сутки Панин посвящает не больше получаса делам, вверенным ему».
Не желаете ли услыхать голос самой Екатерины в этом концерте? Он тоже весьма выразителен. Мы уже упоминали в одном месте, как однажды она занялась несколько мрачной игрой, состоявшей в предсказании, от чего может умереть то или другое из приближенных к ней лиц. Против фамилии Панина она написала:
«Если ему случится поторопиться».
И между тем в довольно длинном списке министров, служивших императрице, он в конце концов, кажется, способен более остальных выдержать суд потомства. Гаррис, одно время имевший причины жаловаться на него и даже заподозривший Панина однажды в желании отравить его салатом, не может не похвалить честность и прямодушие министра во всех переговорах, где он участвует один. Он тоже считает его неподкупным. – «Потому что Фридрих лучше платил ему», – замечает от себя издатель записок Гарриса. То же думали в Панине и в Версале. Но во всяком случае этот пункт остается сомнительным. Этот странный человек, при своих несомненных слабостях и слишком очевидных низменных наклонностях, не раз проявлял как в частной, так и в общественной жизни действительно возвышенные взгляды и чувства. Это видно отчасти и из корреспонденции Фридриха с его петербургским посланником бароном Сольмсом. В 1764 г. Фридрих настаивает на необходимости воспрепятствовать полякам отказаться от их liberum veto. Панин же восстает против этого: зачем мешать этой нации «выйти из того подобия варварства, в котором ее держит это злоупотребление свободой?» Польша сильная и крепко привязанная к России – вот его идеал... В 1774 г., когда Фридрих добился своего, Панин получил свою долю наследства после несчастной разделенной республики: десятки тысяч польских душ, подаренных ему императрицей. Он отдал их своим чиновникам, не желая извлекать выгоды из сделки, которую не одобрял. Когда разразилась ужасная пугачевщина, Панину, уже давно устраненному от управления делами все усиливающимся влиянием Потемкина, ежедневно терпевшему унижения и обиды от этого соперника, которого он считал недостойным, представлялся случай отомстить. Фаворит, «ничего не понимающий и не желающий понять», был не такой человек, чтобы справиться с грозой. Смелость и искусство, на которые он был способен, обнаруживались пока только в происках с заднего крыльца и будуарных победах. Сидя сложа руки и сохраняя бездействие, к которому его принудили, Панин мог быть уверен в отмщении за себя. Но он и не думает об этом. «Надо спасти государство, – пишет он брату, – а после того уж можно уступить свое место господствующим фаворитам и окончательно сойти со сцены».
Но он не ушел в назначенный им таким образом час, и это было несчастьем для оставленной им памяти. И особенно с этой минуты, при его положении министра не у дел, к которому он возвратился после победы, началось его умственное и нравственное падение.
Екатерина испытывала досаду даже к заботам, которыми он окружал семью наследника, его воспитанника. «Можно подумать, что мои дети и внуки больше его, чем мои». Управление Министерством иностранных дел, во главе которого он остается только формально, официально передается в 1871 г. Остерману. Об этом извещаются иностранные послы. Он уже не получает депеш; ему разрешается не присутствовать в совете; он отпускает своих секретарей и остается в Петербурге – по его собственным словам – только для того, чтоб императрица всегда имела перед глазами памятник своей неблагодарности. Он умер два года спустя, и Екатерина посвятила ему в своей переписке с Гриммом надгробную надпись, не оставляющую желать ничего лучшего из памятников этого рода. За человеком, еще казавшимся ей необходимым в 1767 г., она не признает другого таланта, кроме умения выставить напоказ достоинства, не принадлежащие ему. «Никто не владел этим искусством в большем совершенстве. Из ничего он умел устроить себе великолепную одежду из чужих перьев, и чем менее она принадлежала ему, тем более он величался ею, для того, чтоб его считали отцом ребенка, которым обыкновенно он бывал обязан другому».[4 - Переписка с Гриммом. Сборник Императорского Русского Исторического Общества.]
Другому? Вероятно, одному из Орловых или Потемкину. Конечно смелый ум первых и необузданный характер второго мало были способны ужиться с холодным, уравновешенным умом Панина и должны были в конце концов устранить его; но характер и взгляды самой Екатерины, насколько мы их знаем, еще действительнее способствовали этому. «Она отделалась от него из зависти и самолюбия, – писал де Верак в 1781 г., – чтоб не могли сказать, что он принимал участие в успехах, о которых она мечтает. Как только ей показалось, что она может обойтись без него, она решила его судьбу».
Устранение от дел и, наконец, исчезновение Панина совпадают с торжеством австрийской политики на берегах Невы и окончательным разрушением прусского союза. Однако между этими двумя событиями нет, по крайней мере прямого, отношения как между причиной и следствием. Панин, правда, был защитником этого союза. «Не бойтесь, – говорил он в 1783 г. Сольмсу, – пока не услышите, что мою постель вынесли из дворца...» Постель его оставалась во дворце до 1783 г.; но влияние прекратилось гораздо раньше этого времени. Несмотря на его несочувствие, раздел Польши считается одним из блестящих дел его карьеры. Два другие – как злобно заметили, – обмен Голштинии на шесть кораблей, которых Дания так никогда и не доставила, и – воспитание Павла. Это тоже может служить надгробной надписью, не уступающей Екатерининской.
Вспомогательную причину несогласия, с первого часа возникшего между императрицей и министром и окончившегося устранением последнего, следует видеть в либеральных идеях, внесенных в управление воспитателем Павла. И Екатерина со своей стороны внесла такие же; но мы знаем, как она их применила. Панин отказался последовать за ней в такой быстрой перемене. Говорили о проекте конституционной реформы, которую он якобы выработал в 1776 г. сообща с первой женой великого князя. В этом году великая княгиня Наталья умерла от родов, и стали ходить зловещие слухи, обвинявшие повивальную бабку, помогавшую великой княгине. «Несомненно, – пишет в своих записках князь Долгорукий, – что эта женщина разбогатела, и что Потемкин бывал у нее».
Одно достоверно: что, постепенно удаляясь от философского и гуманитарного идеала, улыбавшегося ей в молодые годы, и с каждым днем утверждаясь в своих наклонностях к личной и непосредственной власти, Екатерина все менее и менее оказывалась расположенной терпеть вокруг себя людей с умом и характером Панина. Чтоб заменить их, она придумала и создала тип чиновников совершенно новый, по крайней мере в России: людей простых, трудолюбивых, занятых исключительно своим делом; не желавших задаваться никакими вопросами, выходящими за обычные рамки того, что от них требовалось; честных, по крайней мере относительно, и безусловно послушных. Найдя князя Вяземского и поставив его на место генерал-прокурора империи, она думала, что нашла искомое.
III
Это была должность чрезвычайной важности. Генерал-прокурор был тогда начальником всех отдельных прокуроров, состоявших при каждом департаменте Сената и служивших там представителями непосредственных действий центральной власти, т. е. государя. Так как между этими департаментами было разделено почти все высшее управление страны, то глава их был одновременно и министром финансов, и министром юстиции, и почти министром внутренних дел. Предшественник Вяземского, Глебов, был креатурой Петра III. Когда он занял этот пост в час смерти Елизаветы, он уже совершил все проступки, которыми мотивировалась его отставка. Между прочим, с помощью второстепенного чиновника Крылова он без пощады обирал иркутских купцов. В качестве понудительной меры им применялась пытка. Один купец, поднятый на дыбу, провисел на ней три часа и умер, заплатив 30 тысяч рублей, которые Глебов и его сообщник разделили между собой. По доносу Крылов был в 1760 году наказан кнутом на одной из площадей Иркутска и осужден на вечную каторгу; но Глебов сделался генерал-прокурором. Только в 1764 г., спустя два года по своем вступления на престол, Екатерина узнала обо всем происходившем в Сибири или, по крайней мере, о роли, которую играл в том ее генерал-прокурор. Она удовольствовалась приказанием ему подать в отставку. В 1773 г. он снова поступил на службу и был членом суда, судившего Пугачева; в том же году он получил генерал-губернаторство в Смоленске, скопил в короткое время до полумиллиона и снова был отозван. Он умер членом Правительствующего Сената. Екатерина не могла слишком близко следить за выбором своих сенаторов. Князь Вяземский составлял исключение. Говорят, что когда он вышел в отставку, у него оказалось два-три миллиона; между тем как, поступая на службу, он имел всего шесть серебряных приборов. Но он составил себе это состояние в течение многих лет. Глебов же шел слишком быстро.
Сын флотского лейтенанта и воспитанник кадетского корпуса, служивший в армии, где дослужился до чина генерал квартирмейстера, Вяземский не казался специально подготовленным для административных и судебных функций, предназначавшихся ему Екатериной. В аттестате, выданном ему по окончании курса в корпусе – единственном полученном за всю его жизнь – сказано: «знает историю и фортификацию; рисует масляными красками пейзажи; говорит и пишет по-немецки; учился всеобщей истории, географии по картам Хоманна и современной истории; немного фехтует и танцует менуэт».[5 - «Биография министров» Терещенко.] Однако этот танцор менуэта проявил знание, благодаря которому в продолжение четверти века пользовался доверием и милостью своей властной повелительницы: он умел повиноваться. И больше того: он служил для Екатерины олицетворением понимания вопросов правления иначе, чем понимала их она, приняв бразды правления, но к какому склонялась она все больше, чем больше осваивалась со своим положением самодержицы. Он сделался душой консервативной и ретроградной партии, главой целого ряда старорусских, яростных противников всех реформ и врагом всякого иностранного влияния. Наука, литература, искусства нашли в нем далеко не мецената. Он страшно спорил с княгиней Дашковой, – урезывая ее академический бюджет и преследуя ее сочинения. Он отзывался о каждом плохом ремесленнике: «Поэт», или «Художник». Это не мешало Екатерине по своему покровительствовать живописи и поэзии; она, по-видимому, воображала, что для этого достаточно ее существования, и была благодарна Вяземскому за пример воздержания, который он подавал ей в этом отношении. Он позволял ей все же казаться и чувствовать себя щедрой путем сравнения и реабилитировать себя в собственных глазах за измену, в которой она не могла не чувствовать себя виновной перед своими прежними взглядами и наклонностями. И в нравственной ломке, которую ей пришлось пережить, удаляясь от всего этого, Вяземский помог ей совершить самые трудные шаги. Она держала его на своей службы в продолжение тридцати лет.
Он был вполне русский, как Панин и Глебов, как и Чернышевы – по крайней мере, довольно сомнительно, чтобы последние были польского происхождения, которое возводят к пятнадцатому веку. Чернышевы принадлежали к древнему дворянскому роду, долгое время не выдвигавшемуся вперед. Их целый ряд. Три брата: Захар, Петр и Иван, блиставшие при Екатерине, принадлежали к младшей ветви. Старший стал известен только впоследствии, когда в 1811 году, получив вместе с Александром Чернышевым дипломатическую миссию в Париж, воспользовался ею, чтоб посетить тайком канцелярию министерства иностранных дел. Барон Биньон, сопровождавший Чернышева на обратном пути по варшавской дороге и шутивший над его необыкновенно отдувшимися карманами, не подозревал, что в них скрывалось. Этот дипломат с двойной миссией – можно бы сказать, «с двойным дном» – сделался министром при Николае. Глава младшей ветви Григорий Петрович был обязан возвышением женитьбе на Евдокии Ивановне Ржевской, последней любовнице Петра I, которую слухи винили в преждевременной кончине царя. Чувствуя в себе болезнь, которая свела его в могилу, и подозревая ее происхождение, Петр удовольствовался тем, что, признав мужа виновной, приказал «выпороть Евдокию». Евдокию высекли, но царю от этого не стало лучше. У Григория Петровича было четверо сыновей. Старший был послом в Копенгагене, потом в Берлине и в Лондоне, где у него произошла знаменитая встреча с дю Шателэ, который, видя, что у него отнимают место, отбил его у непрошеного гостя; и, наконец, в Париже, где он не заявил себя ничем более блестящим. Из трех других, Андрей, пользовавшийся милостями Екатерины еще в бытность ее великой княгиней, сошел со сцены еще до ее восшествия на престол; Захару, тоже бывшему близким к императрице, чуть было также не пришлось стушеваться. Находясь в июле 1762 г. в главной квартире Фридриха, куда Петр послал его с предложениями мира и союза, он совершенно потерял голову при известии о государственном перевороте и послал прошение об отставке. Екатерина приняла ее, «потому что он не хотел более служить ни ей, ни отечеству». Однако она простила необдуманный поступок, дала Захару гвардейский полк и назначила вице-президентом военной коллегии. Два года спустя, в 1764 г., он снова напортил себе: во время обсуждения в коллегии дела одного офицера, обвинявшегося во взяточничестве, он осмелился приписать на полях резолюции: «Государыня должна простить». Екатерина не допускала, чтоб распоряжались так ее волей или милостью. Панин спас виновного. Ему казалось выгоднее поддержать старый фавор Чернышевых против нового фавора Орловых – одну семью в ущерб другой. Действительно, в 1772 году Захар и его брат Иван соединились с ним, чтобы подготовить падение Григория Орлова, но тотчас же переменили фронт, чтоб подорвать кредит самого первого министра, казалось, стоявшего на дороге их новых домогательств. Борьба продолжалась до 1780 г. Тогда появился третий вор, примиривший всех: Захара Чернышева, отняв у него портфель вице-президента военной коллегии, и Панина, оставив за ним только почетный титул его должности. Григория Орлова заместил и отмстил за него Потемкин. Захар отправился губернатором в Москву, где он умер, спустя четыре года. Иван отделался легче. Екатерина назначила его – сама, вероятно, не зная почему – президентом адмиралтейской коллегии. Он ездил морем в Лондон, сопровождая в качестве секретаря дядю Петра: это единственное, что давало ему право на полученную должность. В действительности же, как прежде, так и после, флотом управлял Алексей Орлов, понимавший в этом деле не больше Чернышева, но умевший выбирать своих подчиненных. Как вполне светский человек и приятный собеседник, Иван Чернышев служил украшением двора Екатерины. Павел, желавший видеть во флоте моряков, решился произвести его в фельдмаршалы. «В моряка пресных вод и маршала соленых», как говорили тогда.
Честолюбие, беспокойное, суетливое и сварливое, было двигательной пружиной всей этой семьи. «Эти люди», – пишет Дюран в 1773 г., – «всегда хотят быть не тем, что они есть. Когда один из них был прокурором Сената, он желал быть в адмиралтейской коллегии; когда он попал туда, он пожелал стать посланником; будучи посланником, он не останавливался ни перед какой глупостью, чтоб вернуться во флот; а потом чтобы стать министром иностранных дел. Если б ему удалось, он пожелал бы стать государем». Екатерина не обращала на все это внимания. Она, без сомнения, оценивала по достоинству этих карьеристов и, вероятно, разделяла мнения Гарриса, говорившего о них в 1782 г. в своих набросках для английского министерства иностранных дел об Императорском Петербургском дворе: «Шуваловы, Строгановы и Чернышевы остаются тем, чем были всегда: «парижскими парикмахерами». Сабатье признавал, впрочем, за Захаром административные способности, искупавшие «всю низость его души». Что же касается притязаний Чернышева стать «русским Шуазёлем», то они казались Сабатье такими же дерзкими, как Кэткарту, предшественнику Гарриса.
Казимир Феликсович Валишевский
Историческое сочинение «Вокруг трона» польско-французского историка Казимира Валишевского (1849-1935) на сегодняшний день является одним из наиболее увлекательных рассказов о сподвижниках и фаворитах Екатерины Великой, их влиянии на жизнь императрицы и всю историю России.
Текст произведения представлен в новой редакции и в современной орфографии.
Казимир Валишевский
Вокруг трона
ПРЕДИСЛОВИЕ
Читатели «Романа Императрицы» знают, что автор рассчитывал дополнить свой труд за счет работ, появляющихся в настоящее время. Он не полагает, что нуждается в оправдании. Какова бы ни была личность, которую мы пытаемся вызвать из прошлого, историческое значение среды, всегда важное, еще более расширяется для первых ролей человеческой драмы: сильных индивидуальностей, энергичных характеров. И оно все увеличивается, доходя как бы до раздвоения нравственной личности в окружающей среде, так что кажется, наконец, будто мы видим в последней как бы продолжение, прямую преемственность этого существа, одаренного чрезвычайной силой.
Екатерина, по преимуществу, принадлежит к этому исключительному разряду. Из всего, составившего ее величие, престиж и обаяние, она, можно сказать, ничего не получила по наследству. Она сама завоевала или создала все, окружавшее ее: дворцы, в которых жила, большей частью выстроены ею самой; людей, служивших ей, она не только выбирала, но – лучше того – сама наложила на них отпечаток, какой ей был нужен, вдохнула в них, следовательно, много своего. Среди ее сотрудников, даже тех, которые внесли в свою службу ей наибольшее количество личных достоинств, инициативы и даже оригинальности, многих она имела полное право назвать своими воспитанниками. И гениальный Потемкин принадлежал к числу их. Из среды ее поклонников некоторые дошли в преклонении перед ее личностью не только до более или менее добровольного самоотречения, но до действительной потери индивидуальности: пример – Гримм. И, таким образом, говоря о нем и других, мне всегда придется говорить о ней, и главным образом о ней. Не потому, что эти лица не были интересны сами по себе: в этой среде, которую я намереваюсь осветить, явится на границах Азии не только Россия, но вся современная Европа – Европа политическая, литературная и философская, в лице некоторых наиболее знаменитых ее представителей; и, показывая Екатерину среди тех, кто способствовал ее величию, я выставляю также соприкосновение двух миров.
Прежде чем приступить к своему труду, я пожелал посетить места, где протекла эта единственная в своем роде жизнь, некоторые стороны которой я намереваюсь воспроизвести. Я надеялся найти там какие-нибудь более определенные, более жизненные следы, чем те, которые может дать историку мертвая буква документа. Увы! Я нашел только полную пустоту, образовавшуюся – уже так скоро! – после всего исчезнувшего. В петербургских дворцах, даже в Эрмитаже – нет ничего или сохранилось очень мало: сгоревшее в царствовании Николая I великолепное здание Растрелли было перестроено с самого основания. В Царском почти ничего не осталось: исчезло все роскошное или изящное, так восхищавшее Сегюра; разрушена та интимная обстановка, среди которой под благосклонным взглядом божества, воспетого Вольтером, состязались в остроумии находчивый принц де Линь, изобретательный Потемкин и несколько грубовато-шутливый Нарышкин. Новое убранство, новые вещи изгладили одно, заняли место другого. Петр Великий в этом отношении оказался счастливее: его деревянный домик, в своей великой бедности и с так много говорящей исторической меблировкой, стоит до сих пор неприкосновенным на хладных берегах, которые Петр сумел вызвать к жизни. Различные мелкие вещи, принадлежавшие внуку Екатерины, благоговейно сохраняются в Царском. Между внуком и бабкой разверзлась пропасть: тут сказалась злопамятность Павла, угрызения совести Александра I. Во дворце Павла помещается учебное заведение, а комната, где император спал в ночь 12 марта 1801 года, превращена в церковь.
В Москве – тоже ничего, а в окрестностях – в Царицыне – развалины на месте одной из любимых резиденций Екатерины!
Люди и события в России сменяются быстро: поздно вступив в историю, как бы спеша жить, этот народ даже будто нарочно помогает разрушительному делу времени. У этого величия и этой цивилизации, едва просуществовавших век, уже есть свои развалины.
Более цельным и узнаваемым образ обаятельной государыни явился передо мной в мемуарах нескольких почитателей старины, набожных хранителей преданий и традиций, которые, однако, тоже изглаживаются. История должна поспешить за ними со своей созидательной работой.
Мне не приходится просить внимания к моему труду: читатель уже почтил меня им. Для тех усилий, которые я еще вложу в свою работу, мне остается только надеяться и впредь на то снисхождение, благотворное действие которого я уже испытал и оценил.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
Глава 1
Государственные люди [1 - «Русский Архив». Различные документы. 1876, I; Arneth. Maria Theresia und Joseph II; Бильбасов. История Екатерины; Blum. Ein russischer Staatsmann (Биография Сиверса); Correspondence politique, Архив французского Министерства иностранных дел; «Политическая переписка» в сборнике Императорского Русского Исторического Общества, тома: X, XIX, XXII, XXVI, XXVII, XXIX, XLVI, XLVII. «Корреспонденция» Миниха, изданная Бюшингом; Григорович. Биография Безбородко; «Записки» князя Долгорукова, Энгельгарта, Греча, Гарновского, Комаровского, лорда Мальмсбера, Палеро; Лазаревский. Малорусские исследования; Лебедев. Граф Панин; Материалы для биографии Безбородко, опубликованные в «Русском Архиве», 1875, II; Journal de Saint-Pеtersbourg; Чтения. 1863; Соловьев. История России. XXV; Терещенко. Биографии министров.]
I. Русские, малороссы и иностранцы. Первые роли и статисты. – Немцы. – II. Панин. – Министр переходного времени. – Борьба с фаворитами. – Личное вмешательство в политику Екатерины. – III. Князь Вяземский – Глебов. – Либерализм и ретроградное направление. – Чернышовы. – IV. Безбородко. – Завтрак, имевший важные последствия. – Императорский фактотум. – Торжество хохла. – Влияние плохо натянутых чулок на карьеру государственного человека. – V. Другой малоросс: граф Разумовский. – Уничтожение гетманства. – Присоединение Малороссии. – VI. Иностранные сотрудники. – Бестужев, Миних. – Сочинитель мадригалов. – VII. Остерман. – Кейзерлинг. – Штакельберг. – Сиверс. – Второй раздел Польши.
I
С 1788 по 1790 г., в течение войны со Швецией, так необдуманно начатой и так мужественно веденной, Екатерина Великая, или, как ее называл Вольтер, Екатерина Великий, пережила, как известно, немало тяжелых часов. Было время, что не получалось ровно никаких известий, и можно было опасаться, что флот Грейга постигла какая-нибудь ужасная катастрофа. Наконец, прибыл курьер от адмирала. Екатерина велела немедленно прочесть себе депеши. Нагнал ли он неприятеля? разбил ли его? Нет еще; но встреча была неминуема; обе эскадры находились друг от друга на расстоянии двенадцати морских миль. Екатерина вопросительно взглянула на окружающих: морская миля, сколько это? Окружающие молчали. Тут был и красавец Мамонов, знавший все – как часто говорила императрица – ничему не учившись. Он молчал, наравне с прочими. Решили послать в Адмиралтейство; но в это время находились в Царском, и пришлось ждать ответа до вечера. Прислали сказать, что морская миля равна семи верстам. Это было большим разочарованием для Екатерины; она сильно рассердилась на своего адмирала: ей бы хотелось, чтоб ее и шведские суда сошлись; а фантастический расчет Адмиралтейства еще увеличивал настоящее расстояние, указанное Грейгом. Вот как ей служили и какие сведения доставляли.
«Я воевала без адмиралов и заключила мир без министров», – говорила она после этого тяжелого времени. Вызванные смесью горечи и гордости, эти слова были совершенно справедливы и могут относиться даже к большей части ее царствования. Однако напрасно Екатерина обвиняла в этом судьбу: она сама относилась очень равнодушно к выбору людей, которые должны были помогать ее начинаниям; по ее мнению, что один человек, что другой – безразлично. Это характеристическая черта ее истории с той точки зрения, с которой мы приступаем к ней теперь. Людей действительно выдающихся было мало среди окружавших ее; ее можно не винить в этом; но и из числа их ни одного нельзя измерить полной величиной, так как она царствовала и правила, и в этом нельзя не видать прямого следствия взглядов и принципов чисто личных, применяемых ею к правлению; а также и особенности ее характера. Между качествами, которыми должен бы отличаться предпочитаемый сотрудник правительницы, она ценила особенно одно: гибкость. Но последняя редко уживается с действительно выдающимся умом. В Екатерине в полной мере была развита наклонность к деспотизму, допустимому при ее положении самодержицы, но также к капризу и причудам – свойствам женщины. Это был самый существенный недостаток ее умственного склада. Но она отличалась вместе с тем способностью извлекать пользу как из своих недостатков, так и достоинств, не стремясь ни к чему более; и это также вело Екатерину к тому, что она мало ценила действительные достоинства сотрудников, которых привлекала. Ей скоро представился случай убедиться, что знание людей, угадывание их способностей и достоинств – не ее ума дело. Ее первый выбор среди высших сановников был несчастлив: он пал на Теплова – попросту плута. При склонности к крайностям, свойственной ее уму, этого было достаточно, чтоб императрица уверилась, что она будет находить Тепловых повсюду и что, следовательно, самое лучшее, что она может сделать – это надеяться в ведении своих дел исключительно на себя. Однако, так как эти дела касались и России, то она поняла, что они слишком сложны и обширны, чтоб ей было возможно выполнить безусловно программу личного управления, возникшую в ее уме тотчас после восшествия на престол – самую исключительную, обширную и вместе с тем удобопонятную, какую можно себе представить. Таким образом у нее появились первые министры, также как главнокомандующие ее армией. А в лице Потемкина у нее даже оказался как бы вице-император, с видом полусамодержца и повелителя. Но наружность, при более близком знакомстве с порядком вещей, мало соответствовала действительности. Эти министры и генералы, даже самый этот alter ego, столь внушительный с виду, были не только орудиями, которыми единственная рука управляла всегда с известной суровостью и незаметно, не давая воли, постоянно грозя сломить их не сегодня-завтра, без всякой возможности сопротивления – это были, по большей части, ее креатуры, в буквальном смысле слова; существа, созданные целиком той же искусной рукой и носящие во всех своих делах ее отпечаток. И, таким образом, история государственных людей и полководцев, прославивших царствование Екатерины, является в значительной степени ее собственной историей.
Но не один только подобный исторический интерес может возбудить в нас желание познакомиться с ними. Я уже несколько раз пытался доказать, что во многих отношениях настоящая России есть только прямое и непосредственное наследие великого царствования. И это особенно справедливо, или, по крайней мере, было справедливо до очень недавнего времени, по отношению к высшему правительственному персоналу. Имена и личности другие, типы же остались неизменными. Вот эти то типы я хочу попытаться осветить, и, пробегая по этой галерее портретов, мы познакомимся с миром, очень недалеким от нас.
Государственных и военных людей, которых мы видим там, можно, вообще, разделить на три категории: чисто русских, малороссов и поляков, смешавшихся без разбора, и иностранцев. Разница в происхождении сказывалась довольно резко в разнице способностей и характеров. Некоторые общие черты сближают две первые группы: натуры одновременно примитивные и чрезвычайно сложные, в которых дикость странным образом смешивается с крайней утонченностью – следствие особого наслоения рас и различных влияний; западная культура, привитая на гнойнике азиатчины, которой молодая русская поросль пропиталась в течение векового рабства. Та же нерадивость и лень с внезапными вспышками бешеной, поразительной энергии; то же восточное презрение ко всякому порядку и всяким правилам; то же отсутствие заботы о времени; та же тонкость и проницательность ума в соединении с обманчивой наивностью; та же склонность к всевозможным видам удовольствия; тот же необузданный темперамент; то же богатство воображения в изыскании наслаждений; наконец, та же гибкость, помогающая с постоянной и чрезвычайной легкостью покоряться всем переменам положения, состояния и занятий, браться за всякие должности, повиноваться беспрекословно всем капризам повелителя, доходить до крайних пределов послушания, слепого, наивного, невозмутимого и всегда между тем сохранять способность подняться, одним прыжком перескочив через все перенесенные неудачи, выбраться из тины, где завязала нога, и жестоко отмстить за все. С одной стороны – со стороны малорусской – более богатая натура и разнообразие ресурсов следствие еще большей амальгамы первоначальных элементов: наносные пласты казачества, куда приплывали и где задерживались обломки различных искателей приключений, принадлежавших ко всем европейским народам; греческие и польские отложения, медленно осевшие на русском основании; более устойчивости в уме, но менее постоянства в характере; более развития, но большая испорченность. Что же касается иностранцев, то, несмотря на всю их многочисленность, их значение во время этого царствования невелико. Между ними не выдвигается на первый план ни одной личности: ни влиятельного министра, ни фаворита. Они – за одним, двумя исключениями – не поднимаются выше статистов. Эпоха им не благоприятствовала. Чтобы успеть в чем-нибудь и выдвинуться вперед, им не достает именно главного качества, так ценимого Екатериной – той покорной и эластичной гибкости, которой обязаны были своим успехом Потемкин и его соперники. По большей части немцы – народ корыстолюбивый и покорный – они служат, как им платят, гнут спину, но без изящества; они плоски и негибки, мрачны и печальны в душе, где взращивают изумительный цветник германской флоры: сентиментальность и дикую гордость, грубость и поэзию, мещанские добродетели и философский ум. – И все это замечательным образом уживается с карьерой добросовестного чиновника или придворного. Однако не станем слишком злословить на их счет, как к тому замечается за последнее время наклонность в России. И совершенно напрасно, потому что они создали Россию такою, какова она есть. Да, они обработали своими трудолюбивыми руками эту упорядоченную, образованную, открытую для торговли и промышленности Россию, с которой начинает знакомиться теперь Европа. Они построили дороги, прорыли каналы и устроили школы. Как наемники, – я уже сказал это – как люди, которым платят и которых отпускают, когда их дело окончено. И справедливость требует, чтобы при просмотре их маршрута, обращалось внимание на их формуляр. К тому же, в великой славянской империи во время царствования Екатерины одну главную роль постоянно и великолепно исполняло лицо иностранного, именно немецкого происхождения – она сама. Забыть это – значило бы оказать большую несправедливость как ей, так и ее отечеству.
II
Великим государственным человеком первой половины царствования – насколько таковой мог существовать – был Панин – чисто русский по происхождению, несмотря на некоторые старания доказать его генеалогическое происхождение от итальянских родичей. Во Флоренции, в удобную минуту, проявилась семья Паньини – так же, как раньше во Франции семья Биронов, – которая заявила кстати об общем происхождении. Первые шаги Никиты Панина на политическом поприще, его участие в придворных интригах, волновавших царствование Елизаветы, уже известны читателю.[2 - См. Роман императрицы.] Из министров Екатерины он был почти единственным, имевшим прошлое и принесшим, таким образом, в управление делами уже готовые взгляды или, по крайней мере, умственные наклонности, в которых императрица могла видеть не просто отражение собственных взглядов. И его работа на посту министра, поэтому, является переходной эпохой, подготовившей путь к постепенному сосредоточению власти в одном лице, которое императрица желала и сумела провести и для которого требовались другие сотрудники. Это было дело, приводившееся в исполнение искусно, терпеливо, безостановочно, начиная с самого первого часа. Даже во время государственного переворота 11 июля 1762 г. к фельдмаршалу Салтыкову был отправлен курьер с подписанным императрицей приказанием от Коллегии Иностранных Дел немедленно очистить прусскую территорию ввиду мира, который Петр III решил заключить, чему и Екатерина, поддерживаемая Паниным, тоже сочувствовала. Но тот же курьер вез собственноручную записку Екатерины, помеченную тем же днем, где императрица советовала фельдмаршалу держаться распоряжений, уже сделанных им при получении известий о петербургских событиях, и имевших в виду именно двинуть войска, состоявшие под его командой дальше, и закончить занятие завоеванных областей. Однако на этот раз Панину удалось настоять на своем. Но не всегда он бывал так удачлив. Настала минута, в конце его карьеры, когда он сохранял только декоративную сторону положения, в которое постоянно вторгалась самовластная самодержица и вечные хулители – ее фавориты. Уже великое дело – суметь удержаться в этом положении, если и не с блеском, то все же прилично, до самого конца. В этом Панину помогало замечательное хладнокровие, такт и выдержка; а, может быть, его недостатки даже больше, чем достоинства. Главными его помощниками были его вошедшая в поговорку лень, изнеженная жизнь, которую он вел, и беззаботность – смесь скептицизма и умственной лени, – введенная им для себя в систему.
Постоянно пытаясь подставить ему ногу и мало-помалу вытеснить из положения, которое она ему создала, и сохраняя только наружный почет, Екатерина, тем не менее, долго смотрела на своего первого министра, как на человека необходимого.
«Что же мне делать?» – отвечала она резко Орловым, указывавшим на проступки Панина и на его ухаживание за графиней Строгановой, у ног которой он забывал о государственных делах. «Императрице я нужнее, чем она мне», – со своей стороны говорил Панин графу Шереметьеву, за дочь которого сватался, когда Екатерина уже предназначила богатую наследницу одному из братьев тогдашнего фаворита. Орловым опять пришлось уступить; сама императрица продиктовала глас семьи, письмо с отказом, и графиня Шереметьева стала бы Паниной, если бы не неожиданное вмешательство смерти в эту семейную драму.
«Г. Панин, без сомнения, человек умный; манеры у него благородные, непринужденные. В нем есть задатки добросовестности, которые, к его чести, всегда проявляются и показывают действительную чувствительность. Он способен и сообразителен; он приятный собеседник, несмотря на то, что ему чрезвычайно трудно говорить последовательно, что он увлекается и при этом бывает часто нескромен. Но, несмотря на все эти преимущества, он далек от того, чтобы быть великим министром. Его лень и нерадивость невозможно выразить. Он проводит жизнь с женщинами и второстепенными придворными. С делами, даже первой важности, он не спешит. В нем все вкусы и причуды изнеженного молодого человека; мало образования; весьма несовершенное знание европейских государств; упрямство во многом, непостоянство в склонностях и отвращение к некоторым личностям; соединение мелкого ума, не идущего далее мельчайших подробностей, с желанием все видеть в широких размерах, в то время как он забывает самые главные вещи... Он весь в руках канцелярских служащих, злоупотребляющих его слабостью и в то же время громко попирающих его нерадение; одним словом твердый и правдивый в одном – в своем подчинении Его Прусскому Величеству...»
Таков нелестный портрет, который рисует в 1772 г. Сабатье де Кабр в своем письме из Петербурга к герцогу Эгильонскому. Он беспристрастен, потому что признает неподкупность первого министра, прибавляя при этом: «и, может быть, это единственный русский в этом отношении». Год спустя его преемник, Дюран, дает следующую характеристику: «Этот Панин человек добрый, но беспечный, ленивый и развратный, бессильный физически, безвольный и вялый умственно. Я знаю Паниных с малолетства. Министр был рядовым в военной гвардии... Он понадобился императрице Елизавете для другого... и оказался для этого негодным. Его отправили в Швецию. Он прожил там двенадцать лет. Сон, брюхо, девки были его государственными делами».
«Чувственный по темпераменту и изленившийся», пишет со своей стороны шевалье де Корброн, другой французский уполномоченный, и подкрепляет свою оценку пикантными анекдотами. Нолькен, шведский посланник, которого Панин удерживал к обеду, извинялся необходимостью отправить депеши, не терпящая отлагательства. Тогда Панин с самым небрежным видом сказал ему:
– Видно, барон, что вы не привыкли к большим делам, если отправка какой-нибудь депеши мешает вам пообедать.
Для проверки этих согласных свидетельств мы имеем распорядок дня министра, записанный в 1781 г. маркизом де Верак. По его словам, министр имел обыкновение ложиться около пяти-шести часов утра «из-за беспокойства, которое ему причиняли ноги». Он вставал в два часа и принимался за туалет, продолжавшийся очень долго, благодаря его недугам. В четыре часа он принимал лиц, обыкновенно его ожидавших; но тут уже подавали обед; после него прогулка в экипаже и часовой отдых. В половине восьмого министр принимал своих обычных гостей, и день кончен. «Промежуток от половины седьмого до половины восьмого был единственным временем, когда с ним можно было говорить о делах; но состояние его здоровья постоянно доставляло ему благовидный предлог, чтобы не давать положительного ответа».
Приблизительно то же самое говорит Лаво в своих мемуарах, впрочем, вообще мало достойных доверия:
«Он очень любил еду, женщин и игру; от постоянной еды и сна его тело представляло одну массу жира. Он вставал в полдень; его приближенные рассказывали ему смешные вещи до часу; тогда он пил шоколад и принимался за туалет, продолжавшийся до трех часов. Около половины четвертого подавался обед, затягивавшийся до пяти часов. В шесть министр ложился отдохнуть и спал до восьми. Его лакеям стоило большого труда разбудить его, поднять и заставить держаться на ногах. По окончании второго туалета начиналась игра, оканчивавшаяся около одиннадцати. За игрой следовал ужин, а после ужина опять начиналась игра. Около трех часов ночи министр уходил к себе и работал с Бакуниным, главным чиновником его департамента. Спать он ложился обыкновенно в пять часов утра».
А между тем, во время пребывания де Верака в Петербурге Панин был лицом, официально заведовавшим внешними сношениями большого государства, и Иосиф II, посетивший около этого времени северную столицу, думая о Каунице, не мог не удивляться. Он писал матери: «У этого человека все только одни слова, а дела мало... Целый поток запутанных мыслей и выражений, в которых не разберешься».
Правда, французов и австрийцев можно заподозрить в некотором недоброжелательстве к решительному стороннику прусского союза. Но свидетельство, уже не подлежащее с этой точки зрения никакому подозрению – это свидетельство англичан. Панин стоит за них так же, как за Пруссию. Однако и они говорят в том же духе. Кэскарт жалуется в 1771 году на трудность увидаться и поговорить с первым министром: утром он невидим, а после обеда на прогулку. Сама императрица видится с ним только раз в неделю. Истинная причина, заставляющая государыню держать на посту такого бездеятельного министра – его нерадивость. Императрица не считает его достаточно деятельным, чтобы попытаться произвести переворот в пользу Павла. А Гаррис в 1778 г. пишет в депеше, адресованной главе Foreign Office: [3 - Министерство иностранных дел.] «Вы не поверите мне, если я скажу вам, что в сутки Панин посвящает не больше получаса делам, вверенным ему».
Не желаете ли услыхать голос самой Екатерины в этом концерте? Он тоже весьма выразителен. Мы уже упоминали в одном месте, как однажды она занялась несколько мрачной игрой, состоявшей в предсказании, от чего может умереть то или другое из приближенных к ней лиц. Против фамилии Панина она написала:
«Если ему случится поторопиться».
И между тем в довольно длинном списке министров, служивших императрице, он в конце концов, кажется, способен более остальных выдержать суд потомства. Гаррис, одно время имевший причины жаловаться на него и даже заподозривший Панина однажды в желании отравить его салатом, не может не похвалить честность и прямодушие министра во всех переговорах, где он участвует один. Он тоже считает его неподкупным. – «Потому что Фридрих лучше платил ему», – замечает от себя издатель записок Гарриса. То же думали в Панине и в Версале. Но во всяком случае этот пункт остается сомнительным. Этот странный человек, при своих несомненных слабостях и слишком очевидных низменных наклонностях, не раз проявлял как в частной, так и в общественной жизни действительно возвышенные взгляды и чувства. Это видно отчасти и из корреспонденции Фридриха с его петербургским посланником бароном Сольмсом. В 1764 г. Фридрих настаивает на необходимости воспрепятствовать полякам отказаться от их liberum veto. Панин же восстает против этого: зачем мешать этой нации «выйти из того подобия варварства, в котором ее держит это злоупотребление свободой?» Польша сильная и крепко привязанная к России – вот его идеал... В 1774 г., когда Фридрих добился своего, Панин получил свою долю наследства после несчастной разделенной республики: десятки тысяч польских душ, подаренных ему императрицей. Он отдал их своим чиновникам, не желая извлекать выгоды из сделки, которую не одобрял. Когда разразилась ужасная пугачевщина, Панину, уже давно устраненному от управления делами все усиливающимся влиянием Потемкина, ежедневно терпевшему унижения и обиды от этого соперника, которого он считал недостойным, представлялся случай отомстить. Фаворит, «ничего не понимающий и не желающий понять», был не такой человек, чтобы справиться с грозой. Смелость и искусство, на которые он был способен, обнаруживались пока только в происках с заднего крыльца и будуарных победах. Сидя сложа руки и сохраняя бездействие, к которому его принудили, Панин мог быть уверен в отмщении за себя. Но он и не думает об этом. «Надо спасти государство, – пишет он брату, – а после того уж можно уступить свое место господствующим фаворитам и окончательно сойти со сцены».
Но он не ушел в назначенный им таким образом час, и это было несчастьем для оставленной им памяти. И особенно с этой минуты, при его положении министра не у дел, к которому он возвратился после победы, началось его умственное и нравственное падение.
Екатерина испытывала досаду даже к заботам, которыми он окружал семью наследника, его воспитанника. «Можно подумать, что мои дети и внуки больше его, чем мои». Управление Министерством иностранных дел, во главе которого он остается только формально, официально передается в 1871 г. Остерману. Об этом извещаются иностранные послы. Он уже не получает депеш; ему разрешается не присутствовать в совете; он отпускает своих секретарей и остается в Петербурге – по его собственным словам – только для того, чтоб императрица всегда имела перед глазами памятник своей неблагодарности. Он умер два года спустя, и Екатерина посвятила ему в своей переписке с Гриммом надгробную надпись, не оставляющую желать ничего лучшего из памятников этого рода. За человеком, еще казавшимся ей необходимым в 1767 г., она не признает другого таланта, кроме умения выставить напоказ достоинства, не принадлежащие ему. «Никто не владел этим искусством в большем совершенстве. Из ничего он умел устроить себе великолепную одежду из чужих перьев, и чем менее она принадлежала ему, тем более он величался ею, для того, чтоб его считали отцом ребенка, которым обыкновенно он бывал обязан другому».[4 - Переписка с Гриммом. Сборник Императорского Русского Исторического Общества.]
Другому? Вероятно, одному из Орловых или Потемкину. Конечно смелый ум первых и необузданный характер второго мало были способны ужиться с холодным, уравновешенным умом Панина и должны были в конце концов устранить его; но характер и взгляды самой Екатерины, насколько мы их знаем, еще действительнее способствовали этому. «Она отделалась от него из зависти и самолюбия, – писал де Верак в 1781 г., – чтоб не могли сказать, что он принимал участие в успехах, о которых она мечтает. Как только ей показалось, что она может обойтись без него, она решила его судьбу».
Устранение от дел и, наконец, исчезновение Панина совпадают с торжеством австрийской политики на берегах Невы и окончательным разрушением прусского союза. Однако между этими двумя событиями нет, по крайней мере прямого, отношения как между причиной и следствием. Панин, правда, был защитником этого союза. «Не бойтесь, – говорил он в 1783 г. Сольмсу, – пока не услышите, что мою постель вынесли из дворца...» Постель его оставалась во дворце до 1783 г.; но влияние прекратилось гораздо раньше этого времени. Несмотря на его несочувствие, раздел Польши считается одним из блестящих дел его карьеры. Два другие – как злобно заметили, – обмен Голштинии на шесть кораблей, которых Дания так никогда и не доставила, и – воспитание Павла. Это тоже может служить надгробной надписью, не уступающей Екатерининской.
Вспомогательную причину несогласия, с первого часа возникшего между императрицей и министром и окончившегося устранением последнего, следует видеть в либеральных идеях, внесенных в управление воспитателем Павла. И Екатерина со своей стороны внесла такие же; но мы знаем, как она их применила. Панин отказался последовать за ней в такой быстрой перемене. Говорили о проекте конституционной реформы, которую он якобы выработал в 1776 г. сообща с первой женой великого князя. В этом году великая княгиня Наталья умерла от родов, и стали ходить зловещие слухи, обвинявшие повивальную бабку, помогавшую великой княгине. «Несомненно, – пишет в своих записках князь Долгорукий, – что эта женщина разбогатела, и что Потемкин бывал у нее».
Одно достоверно: что, постепенно удаляясь от философского и гуманитарного идеала, улыбавшегося ей в молодые годы, и с каждым днем утверждаясь в своих наклонностях к личной и непосредственной власти, Екатерина все менее и менее оказывалась расположенной терпеть вокруг себя людей с умом и характером Панина. Чтоб заменить их, она придумала и создала тип чиновников совершенно новый, по крайней мере в России: людей простых, трудолюбивых, занятых исключительно своим делом; не желавших задаваться никакими вопросами, выходящими за обычные рамки того, что от них требовалось; честных, по крайней мере относительно, и безусловно послушных. Найдя князя Вяземского и поставив его на место генерал-прокурора империи, она думала, что нашла искомое.
III
Это была должность чрезвычайной важности. Генерал-прокурор был тогда начальником всех отдельных прокуроров, состоявших при каждом департаменте Сената и служивших там представителями непосредственных действий центральной власти, т. е. государя. Так как между этими департаментами было разделено почти все высшее управление страны, то глава их был одновременно и министром финансов, и министром юстиции, и почти министром внутренних дел. Предшественник Вяземского, Глебов, был креатурой Петра III. Когда он занял этот пост в час смерти Елизаветы, он уже совершил все проступки, которыми мотивировалась его отставка. Между прочим, с помощью второстепенного чиновника Крылова он без пощады обирал иркутских купцов. В качестве понудительной меры им применялась пытка. Один купец, поднятый на дыбу, провисел на ней три часа и умер, заплатив 30 тысяч рублей, которые Глебов и его сообщник разделили между собой. По доносу Крылов был в 1760 году наказан кнутом на одной из площадей Иркутска и осужден на вечную каторгу; но Глебов сделался генерал-прокурором. Только в 1764 г., спустя два года по своем вступления на престол, Екатерина узнала обо всем происходившем в Сибири или, по крайней мере, о роли, которую играл в том ее генерал-прокурор. Она удовольствовалась приказанием ему подать в отставку. В 1773 г. он снова поступил на службу и был членом суда, судившего Пугачева; в том же году он получил генерал-губернаторство в Смоленске, скопил в короткое время до полумиллиона и снова был отозван. Он умер членом Правительствующего Сената. Екатерина не могла слишком близко следить за выбором своих сенаторов. Князь Вяземский составлял исключение. Говорят, что когда он вышел в отставку, у него оказалось два-три миллиона; между тем как, поступая на службу, он имел всего шесть серебряных приборов. Но он составил себе это состояние в течение многих лет. Глебов же шел слишком быстро.
Сын флотского лейтенанта и воспитанник кадетского корпуса, служивший в армии, где дослужился до чина генерал квартирмейстера, Вяземский не казался специально подготовленным для административных и судебных функций, предназначавшихся ему Екатериной. В аттестате, выданном ему по окончании курса в корпусе – единственном полученном за всю его жизнь – сказано: «знает историю и фортификацию; рисует масляными красками пейзажи; говорит и пишет по-немецки; учился всеобщей истории, географии по картам Хоманна и современной истории; немного фехтует и танцует менуэт».[5 - «Биография министров» Терещенко.] Однако этот танцор менуэта проявил знание, благодаря которому в продолжение четверти века пользовался доверием и милостью своей властной повелительницы: он умел повиноваться. И больше того: он служил для Екатерины олицетворением понимания вопросов правления иначе, чем понимала их она, приняв бразды правления, но к какому склонялась она все больше, чем больше осваивалась со своим положением самодержицы. Он сделался душой консервативной и ретроградной партии, главой целого ряда старорусских, яростных противников всех реформ и врагом всякого иностранного влияния. Наука, литература, искусства нашли в нем далеко не мецената. Он страшно спорил с княгиней Дашковой, – урезывая ее академический бюджет и преследуя ее сочинения. Он отзывался о каждом плохом ремесленнике: «Поэт», или «Художник». Это не мешало Екатерине по своему покровительствовать живописи и поэзии; она, по-видимому, воображала, что для этого достаточно ее существования, и была благодарна Вяземскому за пример воздержания, который он подавал ей в этом отношении. Он позволял ей все же казаться и чувствовать себя щедрой путем сравнения и реабилитировать себя в собственных глазах за измену, в которой она не могла не чувствовать себя виновной перед своими прежними взглядами и наклонностями. И в нравственной ломке, которую ей пришлось пережить, удаляясь от всего этого, Вяземский помог ей совершить самые трудные шаги. Она держала его на своей службы в продолжение тридцати лет.
Он был вполне русский, как Панин и Глебов, как и Чернышевы – по крайней мере, довольно сомнительно, чтобы последние были польского происхождения, которое возводят к пятнадцатому веку. Чернышевы принадлежали к древнему дворянскому роду, долгое время не выдвигавшемуся вперед. Их целый ряд. Три брата: Захар, Петр и Иван, блиставшие при Екатерине, принадлежали к младшей ветви. Старший стал известен только впоследствии, когда в 1811 году, получив вместе с Александром Чернышевым дипломатическую миссию в Париж, воспользовался ею, чтоб посетить тайком канцелярию министерства иностранных дел. Барон Биньон, сопровождавший Чернышева на обратном пути по варшавской дороге и шутивший над его необыкновенно отдувшимися карманами, не подозревал, что в них скрывалось. Этот дипломат с двойной миссией – можно бы сказать, «с двойным дном» – сделался министром при Николае. Глава младшей ветви Григорий Петрович был обязан возвышением женитьбе на Евдокии Ивановне Ржевской, последней любовнице Петра I, которую слухи винили в преждевременной кончине царя. Чувствуя в себе болезнь, которая свела его в могилу, и подозревая ее происхождение, Петр удовольствовался тем, что, признав мужа виновной, приказал «выпороть Евдокию». Евдокию высекли, но царю от этого не стало лучше. У Григория Петровича было четверо сыновей. Старший был послом в Копенгагене, потом в Берлине и в Лондоне, где у него произошла знаменитая встреча с дю Шателэ, который, видя, что у него отнимают место, отбил его у непрошеного гостя; и, наконец, в Париже, где он не заявил себя ничем более блестящим. Из трех других, Андрей, пользовавшийся милостями Екатерины еще в бытность ее великой княгиней, сошел со сцены еще до ее восшествия на престол; Захару, тоже бывшему близким к императрице, чуть было также не пришлось стушеваться. Находясь в июле 1762 г. в главной квартире Фридриха, куда Петр послал его с предложениями мира и союза, он совершенно потерял голову при известии о государственном перевороте и послал прошение об отставке. Екатерина приняла ее, «потому что он не хотел более служить ни ей, ни отечеству». Однако она простила необдуманный поступок, дала Захару гвардейский полк и назначила вице-президентом военной коллегии. Два года спустя, в 1764 г., он снова напортил себе: во время обсуждения в коллегии дела одного офицера, обвинявшегося во взяточничестве, он осмелился приписать на полях резолюции: «Государыня должна простить». Екатерина не допускала, чтоб распоряжались так ее волей или милостью. Панин спас виновного. Ему казалось выгоднее поддержать старый фавор Чернышевых против нового фавора Орловых – одну семью в ущерб другой. Действительно, в 1772 году Захар и его брат Иван соединились с ним, чтобы подготовить падение Григория Орлова, но тотчас же переменили фронт, чтоб подорвать кредит самого первого министра, казалось, стоявшего на дороге их новых домогательств. Борьба продолжалась до 1780 г. Тогда появился третий вор, примиривший всех: Захара Чернышева, отняв у него портфель вице-президента военной коллегии, и Панина, оставив за ним только почетный титул его должности. Григория Орлова заместил и отмстил за него Потемкин. Захар отправился губернатором в Москву, где он умер, спустя четыре года. Иван отделался легче. Екатерина назначила его – сама, вероятно, не зная почему – президентом адмиралтейской коллегии. Он ездил морем в Лондон, сопровождая в качестве секретаря дядю Петра: это единственное, что давало ему право на полученную должность. В действительности же, как прежде, так и после, флотом управлял Алексей Орлов, понимавший в этом деле не больше Чернышева, но умевший выбирать своих подчиненных. Как вполне светский человек и приятный собеседник, Иван Чернышев служил украшением двора Екатерины. Павел, желавший видеть во флоте моряков, решился произвести его в фельдмаршалы. «В моряка пресных вод и маршала соленых», как говорили тогда.
Честолюбие, беспокойное, суетливое и сварливое, было двигательной пружиной всей этой семьи. «Эти люди», – пишет Дюран в 1773 г., – «всегда хотят быть не тем, что они есть. Когда один из них был прокурором Сената, он желал быть в адмиралтейской коллегии; когда он попал туда, он пожелал стать посланником; будучи посланником, он не останавливался ни перед какой глупостью, чтоб вернуться во флот; а потом чтобы стать министром иностранных дел. Если б ему удалось, он пожелал бы стать государем». Екатерина не обращала на все это внимания. Она, без сомнения, оценивала по достоинству этих карьеристов и, вероятно, разделяла мнения Гарриса, говорившего о них в 1782 г. в своих набросках для английского министерства иностранных дел об Императорском Петербургском дворе: «Шуваловы, Строгановы и Чернышевы остаются тем, чем были всегда: «парижскими парикмахерами». Сабатье признавал, впрочем, за Захаром административные способности, искупавшие «всю низость его души». Что же касается притязаний Чернышева стать «русским Шуазёлем», то они казались Сабатье такими же дерзкими, как Кэткарту, предшественнику Гарриса.