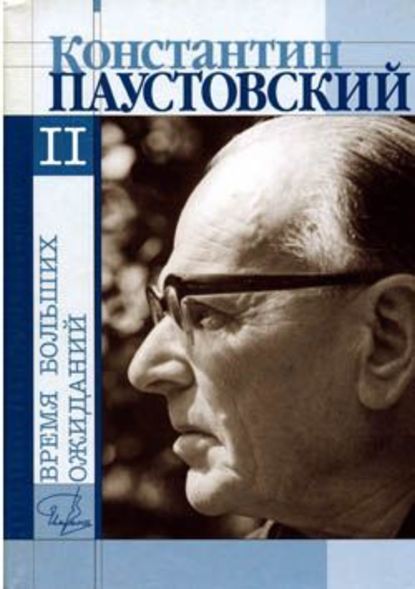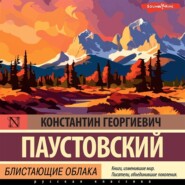По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Романтики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я накинул шинель и вышел. Отряд был чужой. В темноте прошли сестра и мужчина в шинели. Мужчина остановился и попросил закурить. Это был врач, один погон у него болтался на ниточке.
– Вот сестра ищет Третий сибирский отряд, – сказал он, закуривая. – Вы, случайно, его не встречали?
– Я из этого отряда. Отряд прошел днем на Брест.
Сестра схватила меня за руку.
– Наташа? – тихо спросил я. – Неужели вы?
– Я, родной, – сказала она одними губами, – Доктор, вы не беспокойтесь, я найду отряд.
– Ну ладно, – сказал врач и усмехнулся. – Уж эти мне сестры!
Он позвал меня в свой отряд пить чай с ромом и ушел.
Наташа положила руки мне на плечи и долго вглядывалась в лицо. Светили звезды.
– Я совсем не вижу тебя, – тихо сказала она, первый раз говоря мне «ты», и прижалась головой к жесткой шинели. – Как я измучилась! На этой сумасшедшей войне я ради тебя раздала людям столько любви! Я искала тебя. Я надеялась, теряла надежду и была совсем больна, и вот теперь… мне надо рассказать тебе много, страшно много…
Она заплакала.
– Милый, родной, – говорила она, как в лихорадке. – Я стала совсем сумасшедшей. Вокруг болеют тифом, ненавидят, жгут деревни и бросают в колодцы трупы грудных детей, а над всем этим – моя любовь к тебе. Как же это случилось? Я ничего не понимаю.
Мы прошли в сад. Ветер шумел у заборов в мокрых кустах, гулко катились одинокие выстрелы. Мы ходили в темноте по заросшим дорожкам. Я рассказывал о войне, о том чувстве печального и прекрасного, которое тяготеет над каждым моим днем.
– Зачем ты пошел на войну? – резко сказала Наташа. – Она замучит тебя. Ты должен уехать отсюда какими хочешь путями. Дай мне слово. Через месяц я вернусь в Москву, и ты должен быть там. Будет уже осень, мы уедем в деревню, ты станешь много читать и забудешь об этом ужасе. Надо сберечь себя, пока не кончится это дикое время. Тысячи других, мы все можем идти сюда, в грязь, в кровь, во всю эту злобу, но не ты. Не ты! – крикнула она и встала со скамейки. – Ты должен дать радость сотням людей. Потому так и любят тебя, любят, как я, – слепо, навек. Я не могу это передать. Дай мне слово, что ты уедешь отсюда.
– Хорошо.
– Как ты устал, – сказала она тихо и поцеловала меня.
В болотах кричали лягушки, огонь стих, с лип падали мокрые листья. На костельной паперти сидел и стонал глухой старик – костельный сторож.
– Дедушка, – спросила Наташа, – ты что?
– Все ушли в Брест, – ответил старик и сделал попытку встать. – Ксендз и все, родная паненка. Я остался сторожить костел. Старый я, не дойду, умру в дороге.
– Пойдем, дед, – сказал я, подымая его за локоть. – Завтра поедем в Брест, найдем ваших.
Старик снова заплакал.
– Дал бы бог. Хоть умереть со своими. А то – один. Герман близко. Хотел напиться – в колодце лежит убитый.
В отряде санитары накормили его и положили на фурманку.
Ночь я провел в чужом отряде. Было суетливо и шумно. Наташа не отходила от меня, часто смотрела мне в глаза, и губы ее дрожали.
К утру густо, вразброд, пошла через местечко истомленная пехота, и отряд снялся. Я попрощался с Наташей за околицей. Она погладила мои руки, хотела что-то сказать и промолчала.
Я шел обратно. Над шоссе взрывался черный дым фугасных снарядов, у колодца сгрудились пыльным сугробом солдаты и пили мутную воду из закопченных манерок. Они молча глядели на меня.
В полдень пришел с обозом охрипший, осунувшийся Алексей.
Конец
Дни тянулись в безысходных и тяжелых боях. Гром за Бугом не смолкал, в Бресте взрывали крепостные форты, и по ночам раскатисто и страшно ухала земля. В серых и пыльных деревнях валялись тифозные, шел повальный грабеж, сладковатый смрад конской падали перехватывал горло.
В полях желтели цветы горчицы. Закаты были пламенные и холодные.
В Бресте я узнал, что отряд Наташи ушел с Четвертой армией в Кобрин.
Дороги скрипели от беженских обозов, ночью дымно пылали тысячи костров, и штабные автомобили резали лучами белых фонарей пыльную мглу.
Каждый день привозили раненых – злых, обросших кровяной коркой и молчаливых. На расспросы они коротко и неохотно отвечали – «измена».
Это слово прокатилось по фронту, перекинулось в глубокий тыл, и там, в курных халупах и еврейских местечках, где стояли тысячи солдат и офицеров, началось глухое волнение. Ползли упрямые и страшные слухи. Имя Мясоедова шепотом повторялось всюду. Артиллерия отступала впереди обозов. На все вопросы артиллеристы отвечали: «Снарядов нет, измена, палками бейтесь с германцами».
Как-то ночью мы шли целиной, сбившись с пути, и искали выхода на Слонимское шоссе. Было темно и тихо. Над Брестом стояло исполинское зарево.
– Горит Брест, – сказал мне Вебель, ехавший со мной рядом. – Значит, конец.
– Что конец?
– Так… Разве вы не видите, что мы вошли в Россию. Может быть, так пойдем до Москвы.
Мы остановились и долго смотрели на зарево. Багровый дым клубом поднялся к небу.
– Форт взорвали, – сказал Козловский. Он подъехал к нам неслышно.
– Грозно, – сказал он, помолчав. – Что бы мне ни говорили, а в войне есть своя красота. Вот эта, там в Бресте. Это отчаяние. Снова идет Аттила, горят города, и трава не растет под копытами его лошадей. Как это верно.
– А Польша? – спросил я.
– Польша вернется. Польшу жгли и татары и шведы.
На севере началась канонада. Там была тьма, и только в полях страшно далеко грохотали обозы и были слышны протяжные крики. Санитары насторожились. До сих пор орудийный огонь шел позади нас, прихлопывая чугунным громом наши следы. Сейчас он громыхал на фланге.
– Не нравится мне этот огонь, – сказал Козловский. – Должно быть, опять прорвали. Немцы идут маршем.
К рассвету пришли в деревушку. Искали ее на карте и не нашли. Легли в стодоле на сене. Хозяин не хотел открывать стодол и смотрел на нас растерянно и злобно. Вебель приказал выломать замок.
В стодоле было сухо и тепло, под соломой пищали мыши. Всю ночь я ворочался, не спал. Когда кто-нибудь из наших выходил, за открытой дверью дымно розовело небо.
Я лежал и думал. Тысячепудовую тяжесть навалили на плечи, и я, как все, знал только одно – что война теребит саднящую злобу, что мы ходим, говорим, улыбаемся и скрываем друг от друга главное – сознание последнего, непоправимого несчастья.
Перепахали землю, и от нее потянуло нестерпимым смрадом. Что делается в душах солдат, заскорузлых от крови, горьких от гнева и крепкой махорки? Никто не знал. Толком не знали, наверно, и они сами.
Я вспомнил долгие ночи у простого дощатого стола, голос Наташи, севастопольский день, как хрустальный стакан, налитый синей водой. Я хотел так много сказать Наташе там, в Пищице, но спазмы сжали горло, и я молчал. Глаза у нее были тревожные, материнские.