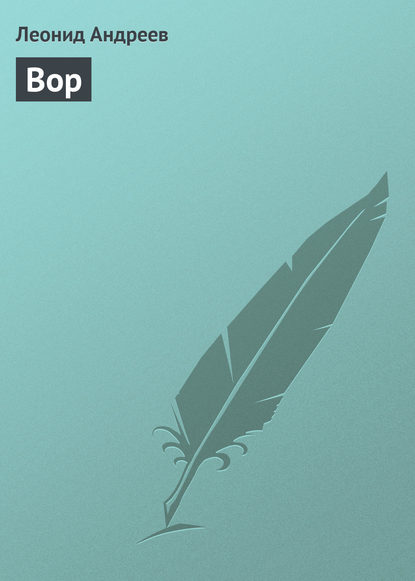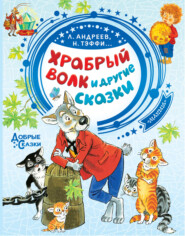По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вор
Год написания книги
1904
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возле самой станции танцевали. Дачники устроили бал: пригласили музыку, навешали вокруг площадки красных и синих фонариков, загнав ночную тьму на самую верхушку деревьев. Гимназисты, барышни в светлых платьях, студенты, какой-то молоденький офицер со шпорами, такой молоденький, как будто он нарочно нарядился военным, – плавно кружились по широкой площадке, поднимая песок ногами и развевающимися платьями. При обманчивом сумеречном свете фонариков все люди казались красивыми, а сами танцующие – какими-то необыкновенными существами, трогательными в своей воздушности и чистоте. Кругом ночь, а они танцуют; если только на десять шагов отойти в сторону от круга, необъятный всевластный мрак поглотит человека, – а они танцуют, и музыка играет для них так обаятельно, так задумчиво и нежно.
Поезд стоит пять минут, и Юрасов вмешивается в толпу любопытных: темным бесцветным кольцом облегли они площадку и цепко держатся за проволоку, такие ненужные, бесцветные. И одни из них улыбаются странною осторожною улыбкой, другие хмуры и печальны – той особенной бледной печалью, какая родится у людей при виде чужого веселья. Но Юрасову весело: вдохновенным взглядом знатока он приглядывается к танцорам, одобряет, легонько притоптывает ногой и внезапно решает:
– Не поеду. Останусь танцевать!
Из круга, небрежно раздвигая толпу, выходят двое: девушка в белом и высокий юноша, почти такой же высокий, как Юрасов. Вдоль полусонных вагонов, в конец дощатой платформы, где сторожко насупился мрак, идут они красивые и как будто несут с собою частицу света: Юрасову положительно кажется, что девушка светится, – так бело ее платье, так черны брови на ее белом лице. С уверенностью человека, который хорошо танцует, Юрасов нагоняет идущих и спрашивает:
– Скажите, пожалуйста, где здесь можно достать билеты на танцы?
У юноши нет усов. Строгим взглядом вполоборота он окидывает Юрасова и отвечает:
– Здесь только свои.
– Я проезжий. Меня зовут Генрих Вальтер.
– Вам же сказано: здесь только свои.
– Меня зовут Генрих Вальтер, Генрих Вальтер.
– Послушайте! – Юноша угрожающе останавливается, но девушка в белом увлекает его.
Если бы она только взглянула на Генриха Вальтера! Но она не смотрит и, вся белая, светящаяся, как облако противу луны, долго еще светится во мраке и бесшумно тает в нем.
– И не надо! – гордо вслед им шепчет Юрасов, а в душе его становится так бело и холодно, как будто снег там выпал – белый, чистый, мертвый снег.
Поезд еще стоит почему-то, и Юрасов прохаживается вдоль вагонов, такой красивый, строгий и важный в своем холодном отчаянии, что теперь никто не принял бы его за вора, трижды судившегося за кражи и много месяцев сидевшего в тюрьме. И он спокоен, все видит, все слышит и понимает, и только ноги у него как резиновые – не чувствуют земли, да в душе что-то умирает, тихо, спокойно, без боли и содрогания. Вот и умерло оно.
Музыка снова играет, и в ее плавные танцующие звуки вмешиваются отрывки странного, пугающего разговора:
– Слушайте, кондуктор, отчего не идет поезд?
Юрасов замедляет шаги и вслушивается. Кондуктор сзади равнодушно отвечает:
– Стоит, стало быть, есть причина. Машинист танцевать пошел.
Пассажир смеется, и Юрасов идет дальше. На обратном пути он слышит, как два кондуктора говорят:
– Будто он в этом поезде.
– А кто же его видел?
– Да никто не видел. Жандарм сказывал.
– Врет твой жандарм, вот что. Тоже не глупее его люди…
Бьет звонок, и Юрасов одну минуту в нерешимости. Но с той стороны, где танцы, идет девушка в белом с кем-то под руку, и он вскакивает на площадку и переходит на другую ее сторону. Так он и не видит ни девушки в белом, ни танцующих; только музыка в одно мгновение обдает его затылок волною горячих звуков, и все пропадает в темноте и молчании ночи. Он один на зыбкой площадке вагона, среди смутных силуэтов ночи; все движется, все идет куда-то, не задевая его, такое постороннее и призрачное, как образы сна для спящего человека.
V
Толкнув дверью Юрасова и не заметив его, через площадку быстро прошел кондуктор с фонарем и скрылся за следующей дверью. Ни его шагов, ни даже хлопанья двери не было слышно за грохотом поезда, но вся его смутная, расплывающаяся фигура с торопливыми наступающими движениями произвела впечатление мгновенного, резко оборванного вскрика. Юрасов похолодел, что-то быстро соображая – и, как огонь, вспыхнула в его мозгу, в его сердце, во всем его теле одна огромная и страшная мысль: его ловят. О нем телеграфировали, его видели, его узнали и теперь ловят по вагонам. Тот «он», о котором так загадочно говорили кондуктора, есть именно Юрасов: и так страшно – узнать и найти себя в каком-то безличном «он», о котором говорят посторонние незнакомые люди.
И теперь они продолжают говорить о «нем», ищут «его». Да, там, от последнего вагона идут, он чувствует это чутьем опытного зверя. Трое или четверо, с фонарями, они рассматривают пассажиров, заглядывают в темные углы, будят спящих, шепчутся между собою – и шаг за шагом, с роковой постепенностью, с беспощадной неизбежностью приближаются к «нему», к Юрасову, к тому, кто стоит на площадке и прислушивается, вытянув шею. И поезд несется с свирепой быстротой, и колеса уже не поют и не говорят. Они кричат железными голосами, они шепчутся потаенно и глухо, они визжат в диком упоении злобою – остервенелая стая разбуженных псов.
Юрасов стискивает зубы и, принуждая себя к неподвижности, соображает: спрыгнуть при такой быстроте нельзя, до ближайшей остановки еще далеко; нужно пройти на перед поезда и там ждать. Пока они обыщут все вагоны, может что-нибудь случиться – та же остановка и замедление хода, и он соскочит. И в первую дверь он входит спокойно, улыбаясь, чтобы не казаться подозрительным, держа наготове изысканно-вежливое и убедительное «pardon!» – но в полутемном вагоне III класса так людно, так перепутано все в хаосе мешков, сундуков, отовсюду протянутых ног, что он теряет надежду добраться до выхода и теряется в чувстве нового неожиданного страха. Как пробиться сквозь эту стену? Люди спят, но их цепкие ноги отовсюду тянутся к проходу и загораживают его: они выходят откуда-то снизу, они свисают с полок, задевая голову и плечи, они перекидываются с одной лавочки на другую – вялые, как будто податливые и страшно враждебные в своем стремлении вернуться на прежнее место, принять прежнюю позу. Как пружины, они сгибаются и выпрямляются вновь, грубо и мертво толкая Юрасова, наводя на него ужас своим бессмысленным и грозным сопротивлением. Наконец он у двери, но, как железные болты, ее перегораживают две ноги в огромных сборчатых сапогах; злобно отброшенные, они упрямо и тупо возвращаются к двери, упираются в нее, выгибаются так, будто у них совсем нет костей – и в узенькую щель едва пролезает Юрасов. Он думал, что это уже площадка, а это только новое отделение вагона – с тою же частою сетью нагроможденных вещей и точно оторванных человеческих членов. И когда, нагнувшись, как бык, он добирается до площадки, глаза его бессмысленны, как у быка, и темный ужас животного, которое преследуют, и оно ничего не понимает, охватывает его черным заколдованным кругом. Он дышит тяжело, прислушивается, ловит в грохоте колес звуки приближающейся погони и, нагнувшись, как бык, превозмогая ужас, идет к темной, безмолвной двери. А за нею снова бестолковая борьба, снова бессмысленное и грозное сопротивление злых человеческих ног.
В вагоне I класса, в узком коридорчике, столпилась у открытого окна кучка знакомых между собою пассажиров, которым не спится. Они стоят, сидят на выдвинутых лавочках, и одна молоденькая дама с вьющимися волосами смотрит в окно. Ветер колышет занавеску, отбрасывает назад колечки волос, и Юрасову кажется, что ветер пахнет какими-то тяжелыми, искусственными, городскими духами.
– Pardon! – говорит он с тоскою. – Pardon. Мужчины медленно и неохотно расступаются, оглядывая недружелюбно Юрасова; дама в окошке не слышит, и другая смешливая дама долго трогает ее за круглое, обтянутое плечо. Наконец она поворачивается и, прежде чем дать дорогу, медленно и страшно долго осматривает Юрасова, его желтые ботинки и пальто из настоящего английского сукна. В глазах у нее темнота ночи, и она щурится, точно раздумывая, пропустить этого господина или нет.
– Pardon! – говорит Юрасов умоляюще, и дама с своей шелестящей шелковой юбкою неохотно придвигается к стене.
А потом снова эти ужасные вагоны III класса – как будто уже десятки, сотни их прошел он, а впереди новые площадки, новые неподатливые двери и цепкие, злые, свирепые ноги. Вот наконец последняя площадка и перед нею темная, глухая стена багажного вагона, и Юрасов на минуту замирает, точно перестает существовать совсем. Что-то бежит мимо, что-то грохочет, и покачивается пол под сгибающимися, дрожащими ногами.
И вдруг он чувствует: стена, холодная и твердая стена, на которую он измученно оперся, тихо и настойчиво отталкивает его. Толкнет и снова толкнет – как живая, как хитрый и осторожный враг, не смеющий напасть открыто. И все то, что испытал и увидел Юрасов, сплетается в его мозгу в одну дикую картину огромной беспощадной погони. Ему кажется, что весь мир, который он считал равнодушным и чужим, теперь поднялся и гонится за ним, задыхаясь и стеная от злобы: и эти сытые, враждебные поля, и задумчивая дама в окошке, и эти переплетающиеся тупо-упрямые и злые ноги. Они сейчас сонны и вялы, но их поднимут, и всею своею топочущей громадой они устремятся за ним, прыгая, скача, давя все, что встретится на пути. Он один – а их тысячи, их миллионы, они весь мир: они сзади его и впереди, и со всех сторон, и нигде нет от них спасенья.
Вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются, и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах, какие-то призрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, одни их зловещие тени бесшумно реют над грохочущим поездом, а там, за несколько вагонов сзади, быть может, за четыре, быть может, только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери… еще одни двери…
Последним усилием воли Юрасов принуждает себя к спокойствию и, медленно оглядевшись, лезет на крышу вагона. Он встал на узенькую железную полоску, закрывающую вход, и, перегнувшись, закинул руки вверх; он почти висит над мутною, живою, зловещей пустотой, охватывающей холодным ветром его ноги. Руки скользят по железу крыши, хватаются за желоб, и он мягко гнется, как бумажный; ноги тщетно ищут опоры, и желтые ботинки, твердые, словно дерево, безнадежно трутся вокруг гладкого, такого же твердого столба – и одну секунду Юрасов переживает чувство падения. Но уже в воздухе, изогнувшись телом, как падающая кошка, он меняет направление и попадает на площадку, одновременно ощущая сильную боль в колене, которым обо что-то ударился, и слыша треск разрывающейся материи. Это зацепилось и разорвалось пальто. И не думая о боли, и не думая ни о чем, Юрасов ощупывает вырванный клок, как будто это самое важное, печально качает головой и причмокивает: тсс!..
После неудачной попытки Юрасов слабеет, и ему хочется лечь на пол, заплакать и сказать: берите меня. И он уже выбирает место, где бы лечь, когда в памяти встают вагоны и переплетающиеся ноги, и он ясно слышит: те, трое или четверо с фонарями, идут. И снова бессмысленный животный ужас овладевает им и бросает его по площадке, как мяч, от одного конца к другому. И уже снова он хочет, бессознательно повторяясь, лезть на крышу вагона – когда огненный хриплый широкозевный рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий, врывается в его уши и гасит сознание. То засвистал над головой паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное. Как будто мир настиг его и всеми своими голосами выкрикнул одно громкое:
– А-га-а-а!..
И когда из мрака впереди пронесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося курьерского поезда, он отбросил железную перекладину и спрыгнул туда, где совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся, и когда поднял лицо со смятыми усами и беззубым ртом, – прямо над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.
Значения их он не понял.
Сентябрь 1904 г.