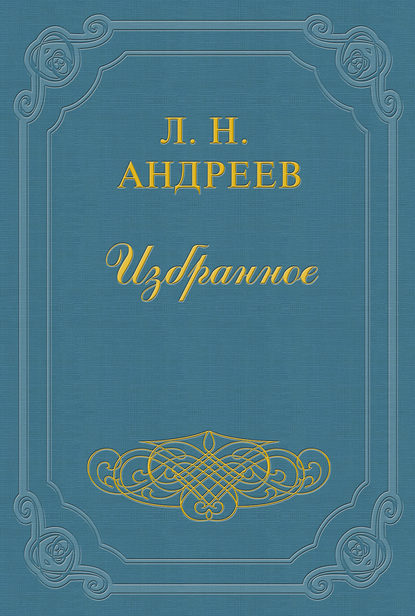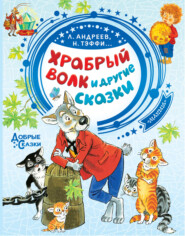По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Младость
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мацнев. До твоих еще писем – я решил внутренно совсем порвать с тобой.
Нечаев. Неужели решил, Всеволод? Да, да, конечно, ты иначе не мог, ты был прав. Но теперь?
Мацнев. Скажи, Иваныч, я не понимаю: ты серьезно любишь ее?
Нечаев. Ах, не в этом дело, Всеволод! Не в том дело, голубчик, серьезно или несерьезно. Если хочешь, я иначе любить даже не умею, как только всей душой… какой иначе смысл в любви? Иначе мерзость, разврат!
Мацнев. Конечно.
Нечаев. Ну да! Но не в том дело, голубчик! Ты, Христа ради, не подумай, что я так… повернулся весь – от неудач в любви. Что за черт, это было бы совсем отвратительно, гнусно и мерзко. Скажем просто: ведь ты сам решительно и при всяких условиях отказываешься от нее?
Мацнев. Да. (Вздыхает.) Но в этом нет заслуги, Иваныч.
Нечаев. Нет, это ты уж оставь! Заслуги! А я был просто глуп, я был мелочен, я просто был скотина, каких полон свет. Именно: скотина! Когда ты уехал, не простившись со мною, – я, брат, верить этому не хотел, я руки себе ломал, я готов был головой биться о стену. Честное слово! Подумай: великое, святое, единственное в жизни – нашу дружбу – я готов был променять, скотина, и на что же? На что, я спрашиваю? На прогулки в саду! На пожатие ручек, на вздорную, призрачную, лживую женскую любовь! Да на тысячу женщин, хотя бы всех их любил, как Зою, я не отдам часа, который мы с тобой! Ты веришь?
Мацнев. Верю, Иваныч.
Нечаев. Спасибо.
Оба вздохнули, молчат.
Что за черт: гляжу кругом и ничего не узнаю! Мне все кажется, что сейчас война и мы в какой-нибудь Маньчжурии… сидим себе и разговариваем. Нет, хорош лунный свет, Сева, от него душа становится чище! Всеволод, а скажи мне, я все не решался тебя спрашивать об этом: ты все так же думаешь о смерти? Ты очень печален, голубчик.
Мацнев. Все так же, Корней. (Вздыхает.)
Нечаев. И?..
Мацнев. Я решил умереть. Скоро. Не спрашивай, Иваныч.
Молчание. Нечаев встает и снова быстро садится.
Ты что, Иваныч?
Нечаев. Ничего. Плохо, Всеволод. Очень-очень плохо!
Мацнев. Ну?
Нечаев. Очень плохо! И это – дружба! И это – одна душа! Смешно, Всеволод, честное слово, смешно! Что же ты думаешь, – что я останусь жить без тебя? Смешно! Буду гулять в саду? Пожимать ручки прекрасным девицам? Носить цветы на твою… скажем просто: могилу? Ах, Мацнев, Мацнев!
Мацнев. Но послушай, Корней!
Нечаев. Ты, может быть, думаешь, что мне очень нужна эта луна? Вся эта красота? Какая трогательная картина: офицер Нечаев гуляет при лунном свете с прекрасной Зоей! Да к черту ее, – раз так, то вот что я тебе скажу! К черту! Ну да, я твердил и теперь твержу: «На заре туманной юности…»
Мацнев. «Всей душой любил я милую» – хорошие слова.
Нечаев. Всей душой любил я милую – ну да, всей душой, а как же? Но разве это я про женщину говорил? Извини, но ты оскорбил меня, когда подумал, что это относится к Зое, к какой-то девчонке, которая сегодня любит одного, завтра другого. Эти слова я принес тебе, нашей с тобой юности, нашей дружбе, а не какой-то – Зое!
Мацнев. Ты прости меня, Иваныч, но как тогда я мог думать иначе? Сам посуди!
Нечаев. Сужу – и ну, конечно, ты был прав тогда… А теперь? – Нет, постой, не говори. А теперь… я не спрашиваю тебя, когда ты решил покончить с собой – сегодня, завтра, через неделю, – но если ты осмелишься умереть один, без меня, то я не знаю что! Я пощечин себе надаю, и все-таки убью себя, но с презрением к себе, ко всему миру – к тебе, Всеволод, который только говорил о дружбе! Молчи, молчи! – Какая луна красивая, черт ее…
Молчание. Нечаев громко, трубным звуком, сморкается и говорит деловым и даже сухим тоном.
Наши не идут, загулялись. Хоть бы облачко одно: действительно, какая неподвижность! – Но скажи, Всеволод, что, собственно, заставило тебя решиться?
Мацнев. Я уже говорил тебе: тоска. Невыносимая, немыслимая, день ото дня растущая тоска… что-то ужасное, Иваныч. Понимаешь: я молод, я совершенно здоров, у меня ничего не болит, – но я не понимаю, зачем все это… и не могу жить! Зачем эта луна? Зачем все так красиво, когда мы все равно умрем? Я встаю утром и спрашиваю себя: зачем я встал? Я ложусь и спрашиваю себя: зачем я лег? А ночью – какие-то дикие кошмары. Ужасно! И ни на что нет ответа, ни на один самый маленький вопрос. Подумай: вот я кончу курс и стану адвокатом, журналистом…
Нечаев. Ты мог бы быть знаменитым адвокатом, Плевакой!
Мацнев. Ну, хорошо, ну, стану я знаменитым адвокатом, а дальше что? Потом женюсь, как отец, и буду иметь собственного Всеволода – а дальше что? Бессмыслица – отвращение! – белка в колесе. И чем красивее вокруг, тем невыносимее для меня. В серые осенние дни я еще спокоен, тогда мне кажется, что я почти умер уже, но вот теперь!.. Как мне схватить и удержать всю эту красоту? Я ее зову, а она молчит! Я к ней протягиваю руки – и в них пусто… а там что-то идет, что-то свершается – нет, ужасная красота! И все обман, и все обман! Ты говоришь: Зоя – да разве это не обман, разве это не та же все – моя мама, твоя, всякая мама, всякая бабушка. Зоя – бабушка! (Смеется.) Ты можешь представить это, Корней?
Нечаев (помолчав). Могу. Ты извини меня, Всеволод, если я не все пойму в твоих словах: ты знаешь, я человек малоразвитой, почти не читаю, и все эти вопросы… Но ты прав.
Мацнев. Уже почти год это у меня. И сколько я перечитал за это время, Корней, все искал ответа… (Смеется.) Ответа! Ответа захотел дурак у моря!
Нечаев. И нет ответа?
Мацнев. Слишком много.
Нечаев (рассудительно). Слишком много – значит, ничего. Я так и думал. Все это прекрасно, об этом ты мне еще расскажешь, но как ты, Всеволод, решил вопрос о родителях? Это вопрос, брат, прости меня – серьезный. У меня родителей нет, я подкидыш, по фамилии Нечаев, что должно было обозначать нечаянную радость, но ты? Тут надо подумать и подумать, как говорится.
Молчание.
Мацнев. Если хочешь, то по-настоящему о своих я не думал, да и думать не хочу. Зачем? Что такое родители, отец, мать, когда все бессмыслица, когда нет ничего! Значит, так нужно, чтобы я умер, а они страдали.
Нечаев. Жестоко это, Сева, слишком жестоко!
Мацнев. Жестоко? А если бы я умер от чахотки или от тифа – ведь я всегда могу умереть от какого-нибудь тифа, – тогда не жестоко? Оставь, Корней! И почему то, что может сделать со мной любая бацилла – того я сам не смею сделать с собой? И у них есть Надя, Васька, славный мальчишка… и оставим их! Я о тебе, Корней, чудак ты мой милый, ты-то зачем со мной покончишь? Это, брат, уже форменная бессмыслица.
Нечаев. Ты это серьезно?
Мацнев. Но подумай сам, Иваныч…
Нечаев. Тогда и я серьезно. Погоди, не сбивай – мне трудно. – Конечно, я человек малоразвитой, армейский офицер, недоучка и во все эти твои тонкости войти не могу, нет. Смысл, бытие-небытие, зачем и к чему – к этому, извини меня, я равнодушен. То есть не то чтобы совсем равнодушен, а вроде этого: не понимаю. Но зато у меня есть свои основания – понимаешь: свои основания. Очень, конечно, возможно, что без тебя я бы никогда не собрался в эту дорогу, но только потому, что слаб характером и дрянь! Вот. – Покурим? – Луна-то как взлезла. – Да. Поставим вопрос просто: как ты думаешь, могу я стать Наполеоном – я тоже офицер, как и он был?
Мацнев (хмуро). Пустяки это, Иваныч.
Нечаев. Нет, брат, не пустяки. Конечно, я так выражаюсь, но дело тут серьезнейшее, брат. Всякий человек имеет право быть Наполеоном, а если он не вышел – то к чертовой матери все! Вот. Конечно, я не честолюбив, – но разве это хорошо? Это-то и есть главная моя подлость, это значит, что и всю жизнь я могу остаться тем же офицеришкой и не подвинуться ни взад, ни вперед. Помнишь, как я собирался готовиться в Академию, петушился… а что вышло? И как я живу? – совестно подумать, в темноте краснеешь: точно и не живу, а сплю. Вот ты приехал, и я с тобой проснулся, а уедешь ты или… И кому я нужен такой? Ну, конечно, не украду я там или не предам, ну, и добр я до глупости, но разве это настоящее? Нет, та же бесхарактерность, собачье виляние хвостом. Ничтожен я, Всеволод, ужасающе ничтожен. Стыдно подумать!
Мацнев. Не унижай себя, Иваныч, не надо.
Нечаев. Я и не унижаю себя, а надо же говорить правду. И еще скажу тебе самое позорное, о чем даже тебе говорить неловко: ужасно, брат, я некрасив! Другого хоть форма скрашивает, а как погляжу я на себя в зеркало со всеми этими ментиками-позументиками: фу, думаю, какой осел! Нынешней зимой, когда ты был в Москве, знаешь, о чем я размечтался? Не смейся – о монастыре.
Мацнев. Ну, что ты! Какой еще монастырь! Ты шутишь?
Нечаев. Нет, голубчик. Но только посмотрел опять в зеркало – и успокоился: да разве с такой физиономией угодники бывают? И не в том, конечно, дело, что рожа, – а ведь чего я хотел от монастыря? Спрятаться и только, без боя сдать позиции. И все это гнусно до последней степени, и вот тебе мои основания. Кому я нужен такой? Кто обо мне заплачет? И луна эта, и вся эта красота, и там далеко чьи-то прекрасные глаза смотрят в другие прекрасные глаза… но при чем я здесь? Ничтожен я, Всеволод, ужасающе, до боли ничтожен!
Молчание.