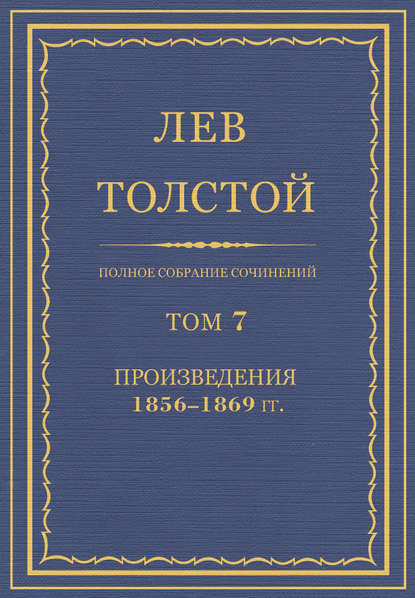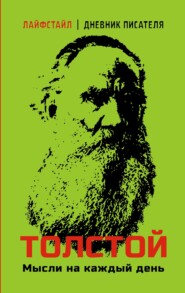По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 7. Произведения 1856–1869 гг.
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.) Сколько денег?
– 462 рубля-с.
– Поликея пошли, – сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.
Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.
– Слушаю-с.
– Пошли его ко мне.
– Слушаю-с, – и Егор Михайлович пошел в контору.
II.
Поликей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и угол у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. Углы еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был колидор (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками угол. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось все домашнее и работал сам Поликей (он был коновал), кадушки, платья, куры, теленок, и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим – взлезая на печку, где было до 40 градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседями. Месячины доставало не только на детей, но еще и на посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепадало. Была полоска огорода. Коровенка отелилась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадям и скотине; расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепадали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околодку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к этим пустякам привык, что потом и рад бы отстать – не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где чт? плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже чт?, – всё у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и не трудно всё достается, и жить приятно бывает, да вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за всё разом заплатишь и жизни не рад будешь.
Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему Бог счастье: жена, скотникова дочь, попалась баба здоровая, умная, работящая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей всё своего промысла не оставлял, и всё шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем всё навыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, – говорит, – человек, чт? мне делать? Лопни мои глаза, брошу, не стану». Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадает. «Откудова-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять», рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висячие стенные часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он всё исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о Боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:
– Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда этого вперед не делать.
– Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! – говорил Поликей и трогательно плакал.
Поликей пришел домой и дома как теленок ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала не веселая; народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.
Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, ходя по оброку, нанимался в дворники к купцу. Стало-быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спущать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом, под брюхом дворниковой лошади, передернул покромку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь, чт? вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.
Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: «куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом, – мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: чильчак, почечуй, спущать кровь, матерю и т. п., разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. п.? Wage du zu irren und zu tr?umen![1 - [Дерзай заблуждаться и мечтать!]] – это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.
III.
В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пряжей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и, чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его несомненно первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о Немцах, употребляющих весы. «Это, – говорил он, – не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет», сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказания; но увидав, что дело до нее не касается, пожала плечами: «Вишь, дошлый! Откуда берется!» подумала она и опять принялась прясть. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.
– Анютка, – крикнула она, – видишь, отец уронил, подними.
Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.
– Нате, тятенька, – сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.
– Сто толкаесся, – пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.
– Я вас! – проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.
– Три целковых даст, – проговорил Поликей, затыкая бутылку, – вылечу лошадь. Еще дешево, – прибавил он. – Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.
И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургучом вместо мундштука, и стал налаживать трубку.
Акулина оставила веретено и вышла, не зацепившись, чт? было очень трудно. Поликей открыл шкапчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак, и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа, и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла верховая девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. Верх, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка – так звали девочку – всегда летала как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:
– Барыня велела Поликею Ильичу сею минутою притить вверх, велела… (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни, о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали… Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколавна велела… (опять вздох) сею минутою притить.
С полминуты Аксютка посмотрела на Поликея, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупку ореха, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обычною быстротой замотались поперек линии ее бега.
Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.
– Ильич, рубаху переменять не станешь?
– Не, – сказал Поликей.
Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плаксивое, покорное и глубоко-несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.
– Чт?, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? – раздался голос столяровой жены из-за перегородки.
Столярова жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней розлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликея зовут к барыне: должно-быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.
– Должно-быть, в город за покупками хотят послать, – продолжала она. – Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверочку купите, Поликей Ильич.
Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, Столяровой жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярову жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.
– Мамуска, ты меня сплюссила, – проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.
– Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! – прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столяровой жене, не забывшей еще про утренний щелок.
IV.
Прошло полчаса. Ребенок закричал, Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столяровой жене.
Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.
– Ну чт?? Зачем звала?
– Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.
– Какое дело?
Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.
– К купцу за деньгами велела ехать.
– Деньги везть? – спросила Акулина.
Поликей усмехнулся и покачал головой.
– Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечаньи, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит; вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как Богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу всё изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; чт? прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я всё могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице). Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, та?к его умаслю, что шелковый станет.
– И много денег? – спросила еще Акулина.
– Три полтысячи рублев, – небрежно отвечал Поликей.