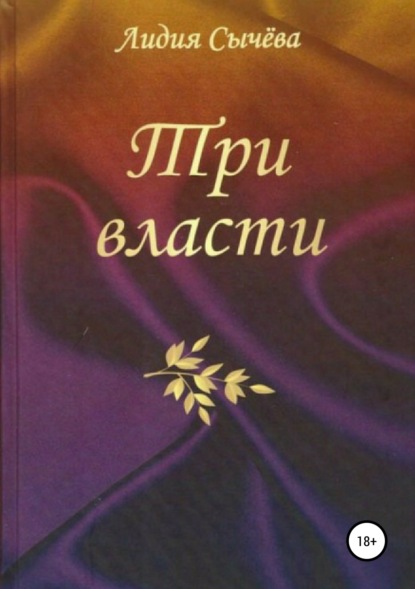По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три власти. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оно, если честно, и не поймешь: как в наше время правильно, по-христиански, надо жить. Я вот Колю пилила: и такой ты, и сякой (много тут можно о Коле рассказать, но не о нём речь), вон, погляди, на своего одноклассника Сеню Будкина – каждое воскресенье он в церковь идёт с женой. Благочестивого поведения человек. А мне Коля потом говорит: я, может, и сволочь последняя, но я – мать свою дома докормил, а Сеня твой идеальный – в дом престарелых сдал!
Ну да, Коля докормил! В основном-то несчастную старушку-свекровь я обихаживала. Бедная раба Божия Аглаида сама намучилась и нам прикурить дала. Трудно помирала. Хотя и пожила, опять же. За восемьдесят. Мне Лиза Дамкина внушает: «Вот мы их, старых, жалеем. А кто нас пожалеет? Думаешь, мы столько протянем?! Уже сейчас здоровья никакого». Это точно. И вот, свекровь померла, лежит на кровати, надо что-то делать, а у меня – сил никаких. Так я за последние полгода вымоталась.
И стала я плакать. Потому что, куда ни кинусь – одна, как перст. (Коля – это ж декорация супружества, видимость.) Плачу, вою, слёзы ручьём. Во-первых, страшно – что ни говори, а смерть рядом; во-вторых, устала я жутко; в-третьих, себя жалко и жизнь свою, в общем, пропащую; в-четвёртых, как подумала я, что мне предстоит… Похороны, поминки, девять дней, сорок дней, родственники, обряды, огород сажать надо и на работе дожидают. И это ещё не весь список! Я, грешница, в тот момент даже покойнице позавидовала. Лежишь себе, никаких хлопот. Все жалеют и добром вспоминают.
Коля в те дни куда-то забурился, запил – он человек тонкой душевной организации, сказал, что не может смотреть на мучения матери. У него, мол, сердце разрывается. Нежный сын! И оставил меня наедине с пеленками, тазиками, памперсами и проч. В общем, одна я, одна.
Ну, повыла я, поплакала и стала успокаиваться. Усопшая-то на кровати лежит. Стала звонить Сане (муж двоюродной сестры, из родни наиболее адекватный). «Сань, говорю, приедь хоть ты, помоги!» И он был выходной, быстро примчал. Между прочим, на новом «Форде». Питерской сборки. Только что купил. Я его поздравила от души. Он даже смутился – у меня горе такое, а он – на новой машине. Вместе с ним мы все присутственные места объехали, всё, что нужно купили. Саня и с читакой, женщиной во всех отношениях положительной, хорошо знаком. Завернули к ней. А сестра говорит: «Ой, а Марию увезли, она сегодня у прихожанки знакомой читает!» Что делать? Пришлось ехать за Риммой.
Я вечером еле-еле ногами передвигаю, почти падаю (хорошо, хоть Коля объявился, вышел из тени; поди-подай – и то от него польза!), ночь перед этим не спала, давление – 200 на 110. (Мне врач, несмотря на показания тонометра, говорит: что-то вы слишком хорошо выглядите для больной. Я прямо разозлилась: что ж мне, морду навозом вымазать, что ли?!) В общем, я – никакая, без сил, а Римме – хоть бы хны. Покойники для неё – народ привычный. И, опять же, на новой работе она окружена благоговением и трепетом. Деньги, харчи первые. Это не с невесткой дома собачиться! На лицо Римма с тех пор, как подрядилась по домам читать, стала гладкой, морщины разошлись, вид довольный. В общем, встретил человек свой призвание. И она мне говорит: «Буду читать всю ночь». Ну, думаю, нет, это мы тут с тобой сдуреем до утра, а завтра ещё день какой! Кое-как я её выпихнула в первом часу, Коля отвёз.
Но это потом. А вечером покойная в гробу лежит, Римма Псалтирь читает, перемежая церковнославянским с просторечным русским (обличение невестки), а у меня межгород звонит. У Коли есть братец единокровный, Родя, и я его давно предупреждала: мать плохая! Намекала: не тяни резину, если хочешь живой увидеть. Ну, они ж стоумовые, только себя слушают, «внутренний голос». Мать померла, я этого Родю начинаю искать – никакого отклика, сотовый недоступен. И тут супруга его звонит. Я ей про мать, она – в слёзы. Во, думаю, как свекровь жалко, что значит невестка ласковая (не то, что я!), ишь, как убивается! А она мне: у меня страшное горе, перезвони срочно!
Набираю номер. Оказывается (и это впрямь – сенсация!), горе состоит в том, что Родя её на днях бросил, ушел из семьи. Все концы обрубил. Нашел свою юношескую вдовую любовь и соединился с ней в блудной связи. Сказал – это у меня навеки, наконец-то я счастлив. Невестка кричит: звони, стыди, убеждай эту сволочь Родю, чтобы он ко мне вернулся! Я говорю: подожди, тут же похороны, то, сё… А она мне душу изливать в подробностях (а почему бы и нет – за мой-то счёт!). Еле-еле я от неё отбилась.
Тут и Родя на связь выходит. Я ему про мать. Он: да-да… Говорит: ты уже знаешь, мегера моя рассказала? И тоже – о личном. Но – больше со знаком плюс («ты мою Кирочку сразу полюбишь…»). Я говорю: «Родя, что ты думаешь? Похороны завтра. Приедешь иль нет?» А он: «А как я доберусь? Змеища арестовала машину, ключи от гаража забрала. А на перекладных – не успею. Мы уж с Кирочкой на девять дней приедем, тогда мамашу и помянем». И снова – про мегеру, про распри и про романтическое исполнение юношеской мечты.
Только я Римму вытолкала, невестка опять звонит – её обида распирает, надо с кем-то поделиться… В общем, и в эту ночь я не заснула, слушала их попеременно. Как с ума не сошла, сама до сих пор не пойму.
Свекровь решили хоронить в деревне, Саня, молодец, утром привез батюшку с дьячком, ну, Римма уже тут как тут. Отслужили панихидку, всё чин чином, машину подогнали, надо покойницу выносить. Духовные лица отбыли, а Римма опять лезет Псалтирь читать: мол, так надо (у неё на всё свои правила). Да бросай ты, там могила ждёт, дождь находит, люди разойдутся, и что ж мы, ночью что ли, хоронить будем?! «Ну, тогда я тоже на кладбище поеду!» И – нырь в машину! Повёз её Коля, не будешь же у гроба ругаться. По дороге наслушался много интересного… А Римме что, новая деревня, свежие впечатления. И вроде при деле – «служебная командировка»!
Могилу копал профессионал, Арсюша Кирюшин (сын Мани Кирюшиной, которую собутыльники убили по пьянке). У Мани был родной брат по прозвищу Конь – здоровый, белокурый мужик. И Арсюша – тоже под два метра ростом, волосы русые, нос прямой, глаза голубые. Истинный ариец. Живёт в шалашике без отопления (в сарае), поскольку хату, опять же, по пьянке сожгли – была у них там «малина». Арсюша живёт тем, что копает могилы – деревня вымирающая, каждую неделю кто-то на покой отходит. Было две тысячи человек, осталось пятьсот; живут кто чем, преимущественно, растительным существованием. Ну и понятно, что Арсюша в ремесле поднаторел, достиг мастерства, «класса», он вроде как «бригадир», руководит командой более спитых и малосильных товарищей. Так что к могиле у нас претензий не было – сухая, в меру глубокая, аккуратная, опрятная, я бы даже сказала.
А уж хор местный – это вообще достопримечательность. Зря Римма лезла – тут её быстро оттерли. Певчие в деревне – главная самодеятельность. Бригада из девяти человек, дирижирует ансамблем бывшая учительница (она и Колю учила) Селиверстова. А главные голоса – Нюшка и Харитишка. Нюша – женщина симпатичная, в молодости красоты необыкновенной. А пела как?! В те времена, конечно, не псалмы, а «Я назову тебя зоренькой…», «Оренбургский пуховый платок», «Деревня моя, деревенька-колхозница…» и прочее, из лирического репертуара. Кадышева ей в подметки не годится. Была Нюша замужем за Лёней Цареградским. Мужчина видный, породистый, похож на Сергея Бондарчука. Гулял с Харитишкой (тоже симпатичная женщина, но другого типа – золотоволосая, бойкая). На этой почве затеялась между соперницами громкая распря – с битьём окон, обливанием помоями, публичными проклятиями.
Лёни давно нету (и Бондарчука тоже), и Харитишка мужа похоронила, и теперь они с Нюшей первые подруги и христопевцы. И так выдали на кладбище, что опять же, рабе Божией Аглае только позавидовать можно – какая там консерватория! С душой пели, со слезой. А голоса!.. Под такие псалмы земля, конечно, пухом будет. Слава Богу, и жизнь прошла путём, и померла на родных руках, и похоронили по высшему разряду.
Назад возвращались мы втроём: я, Коля и Римма (куда ж её деть!). Римма впереди сидит, проповедует Коле высокие материи, он поддакивает по привычке: «Да, да…» А я чего-то разволновалась от впечатлений дня, и про сон забыла. Тут этой жизни – пять минут (если вдуматься), а сколько всего в ней было! Помню, подвыпившая Маня Кирюшина учила в детстве меня и Райку (подружку) похабным частушкам:
Мой папаша дорогой,
Не ходи ты до другой,
У её сисичеки, как ниточки,
И пупочек вот такой!
При исполнении последней фразы следовало свернуть дулю. Но нету теперь ни Мани, ни брата её, Коня, ни многих других. Осталась одна дуля… За неё-то мы и держимся, дурочки… А что делать, если другого богатства не нажили?!
Обед в Совете Федерации
Сенатор Буркин был мужчиной ещё советского времени, и, видимо, не самым глупым из номенклатуры, если до сих пор сидел в сановном кресле. Муромова избегала встречаться с ним глазами – во взгляде его, весьма доброжелательном, всё же было нечто стеклянное. Потому Муромова якобы в смущении притупляла взор и смотрела на холеные сенаторские пальчики; весь он просвечивался, будто кукольный. Чуть поодаль сидел помощник – в пиджаке и галстуке; руки его подрагивали, когда он тасовал папки «Входящие» – «Исходящие».
Буркин рассказывал свой план спасения России. Муромова профессионально кивала, поощряя его к откровенности, диктофон был включен, и мысли её ушли далеко. Она думала о своей, зашедшей в тупик, жизни; и ей мнилось, что оттого и вся Москва, всё видимое ею пространство стало разрушаться. Сенатор говорил о НАТО, о ВТО, о Китае и геополитике, доверительно называя членов правительства «Мишка», «Валька», «Гришка», а Муромова с тоской вспоминала страшные обрубки деревьев на бульварах и обрубки ног и рук у молодых инвалидов, которые побирались в метро; растянутый через улицу транспарант с призывом «Съешь, сколько сможешь! Всего 8 долларов» и эти же слова, как заклинание, неслись из динамика ресторана, а рядом, в пешеходном переходе, стоял такой концентрированный запах мочи и бомжей, что Муромова старалась не вдыхать, когда ей нужно было здесь идти. И вообще, с недавнего времени, куда бы она не пошла, везде ей в глаза бросалась Москва униженная, с кричащими ужасом вывесками кинотеатров, с похотливой рекламой; она старалась притупить свой слух, чтобы укрыться от рева машин, сирен, сигнализации; обмануть обаяние, чтобы не чувствовать тошнотворного, сигаретно-пивного дыхания горожан – с ними она тряслась в автобусах, давилась в толкучках метро, толпилась на рынках… Она переставала любить людей, которые всё больше превращались в эластичную массу, в пластилиновых человечков, послушных воле цивилизации – не думать, не чувствовать, не хотеть. Это был грех – так видеть жизнь, но она ничего не могла поделать с собой. Муромова с отвращением думала, что и в ней скоро появятся «пластилиновые части» – но ни воли, ни силы, чтоб изменить устоявшуюся жизнь, у неё не было.
Буркин, наконец, закончил. В нём была горбачевская беглость речи и с тех ещё времен, наверное, сохранился перестроечный демократизм, понимание «маленьких нужд маленького человека».
– Я вам отмечу пропуск с запасом времени, пообедаете у нас, – в стеклянных глазах сенатора замерцал живой огонек.
Муромова про себя хмыкнула, а вслух вежливо сказала, что у нее нынче много дел и ей надо спешить.
Но когда она, насколько могла, любезно, попрощалась с сенатором и вышла, унося с собой план спасения России (который теперь надо доводить до ума – расшифровывать, «причесывать», дописывать человеческими словами и от которого – она почему-то была уверена – не будет никакого толка), её охватила такая тоска, что она решила: да, пожалуй, надо «заесть» тяжелые впечатления сегодняшнего трудового дня.
Действительно, в просторной столовой стояла совсем другая «аура», как сказали бы модные телеведущие. Муромова подивилась приветливости хозяйки зала, которая улыбнулась ей без всякой фальши и ласково пригласила к одной из стоек; поражала вежливость поваров, с полуслова угадывающих желания клиентов; а главное чудо – это очередь, быстро двигающаяся и легко оперирующая диковинными названиями блюд. Во всем поведении «здешних» чувствовались свобода, великодушие, щепетильная вежливость людей из другого «круга», общества. А между тем, столовая эта была для челяди – помощников, «слуг», аппаратчиков, пришлых, вроде Муромовой. О том, что такое сенаторская столовая, где сновали проворные, ладные официантки, можно было лишь догадываться, но и здесь Муромова увидела отголоски коммунистического рая – в центре зала стояло несколько огромных чаш, почти тазиков, наполненных овощными салатами, которые обедающие брали совершенно бесплатно. И челядь важно подходила, раздумчиво накладывала экологически чистый продукт, полезную пишу с тщательно сбереженными витаминами, и всё это огромное – двухсот или трехсотголовое чудовище ело, жевало, улыбалось, кивало знакомым, желало приятного аппетита…
И вдруг Муромова вспомнила свою первую поездку, первую в жизни командировку в Ивановскую область, где уже три дня держали голодовку местные учителя. Это было в 1995-м году, осенью, в октябре, – услужливо подсказала память; она вспомнила, как ехала на попутном газике по расхлябанной грязной дороге, как кропил дождь и как у каждого деревенского дома она видела поленницу березовых дров; они ещё не успели потемнеть, и её пронзительно поразила белизна и этих дров, и берез за околицами безвестных, намокших под осенним ненастьем деревень; и ещё она вспомнила детский утренник в сельском клубе, где ребятишки, в сбереженной от старших братьев и сестер парадной форме советских времен читали стихи о величии России; увидела желтого цыплёнка на подоконнике в «живом уголке» одной из голодающих школ; цыплёнок, трогательно-пушистый, неспешно ходил и склевывал пшено… А жалко принаряженные к её приезду учительницы делились с Муромовой рецептами выживания – одна, например, рассказывала, что всё мучное она печет на воде и получается очень даже неплохо… Она вспомнила серьёзные, хмурые лица старшеклассников и директора школы, бывшего комсомольского работника, который горячо объяснял ей:
– Понимаете, я не могу голодать, я – один мужчина в школе, я – директор, я за всё отвечаю: за учеников, за учителей, за здание… Но вы не думайте, я их не осуждаю, наоборот, поддерживаю. У нас и минеральная вода есть, и «скорая» готова приехать…
А потом снова была дорога, грязь, печальные березы по обочинам; какие они были красивые в своей печали, словно жалующиеся, что никуда они отсюда не уйдут, не денутся, и участь их решенная – рано или поздно – на дрова…
Муромова смотрела на деловую челядь, важно шагающую с подносами к месту комфортного насыщения. Смотрела и думала: насколько счастливее она была тогда, на расхлябанной дороге, где навстречу их газику баба гнала хворостиной пьяного, черноусого мужика, а тот, с неимоверным трудом выдергивал из грязи резиновые, похожие на бутылки, сапоги. В просвете расстегнутой фуфайки у мужика мелькнула десантная тельняшка… И ей вдруг показалось, что не только она, но и голодающие учителя, и баба с хворостиной, и трудно выходящий на светлую дорогу мужик в тельняшке, и цыпленок, и берёзы, и всё-всё – тоже были, может быть, не понимая этого, по-настоящему счастливы тогда! Но в чём было это счастье? Почему его нет здесь, среди щедрых тазиков с едой, и никогда не будет? Неужели люди, которые здесь едят и пьют, рождают слова, бумаги и «планы спасения России», совсем этого не понимают, не чувствуют?!
…Муромова тихо плакала, слёзы её капали в остывший суп и растворялись в нём без следа…
Два гусара
– А давай споем эту: «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг…»
– «…Необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг…»
Поют. Здорово поют. Слаженно. Видно, что спеты давно. Голоса – чудесные. К нам в купе – дверь открыта – начинают заглядывать пассажиры.
– Мадам, надеюсь, вы не против высокого искусства? – это ко мне.
– Ну ЧТОБЫ…
– Сразу видно человека европейской культуры.
– Вы мне льстите.
– Ничуть. Располагайтесь поудобнее. Вина, виски, а может быть ликёра? Крем-брюле (он выговаривает «бруле», чуть в нос, пародируя французов).
– Нет, не беспокойтесь, ничего не нужно.
– Юра, к нам попала госпожа по имени «Нет». Не правда ли, вас зовут «Нет»?
– Правда.
– О, моё сердце, – он прижимает руку к груди, встает. – Позвольте представиться, Владимир Стогов, – сдвигает пятки, и его комнатные шлепанцы щелкают почти как строевые ботинки.
У Стогова карие глаза, яркие румяные щеки и пухлые губы, щегольские чёрные усики, сложение оперного певца (с животиком). Товарищ его, Юрий, напротив, худощав и поджар, и, улыбаясь, любит показывать свои прекрасные, сахарные зубы – лицо его хорошо сформировано, вылеплено природой. У Юрия высокий лоб, плавно переходящий в основательную лысину, мускулистые руки, длинные пальцы пианиста.
Товарищи пьют сорокоградусный бальзам на травах («о, этот напиток богов»!), тягучая коричневая жидкость понемногу разливается в стаканы, а после «полируется» минеральной водой. Пьют и поют. Романсы, французский шансон, ретро, патриотические песни и «композиции» на немецком языке. К нам в купе то и дело подсаживается народ. Непременное условие – участие в выпивке. («Заглянул сюда – не манкируй, брат!»)
Поклонники певческого искусства после одного-двух тостов ретируются.
– Юра, дорогой, ты видишь, как измельчал народ?!