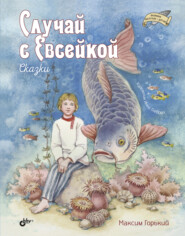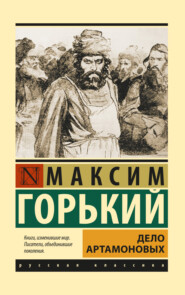По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В. И. Ленин
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы – понимаете? Если это не случайное явление – значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!
Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».
Был в нём некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьём сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех, – «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».
Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нём:
– Так смеяться может только честный человек.
Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» – лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:
– Кози: дринь-дринь. Капиш?
Он тотчас подсёк рыбу, повёл её и закричал с восторгом ребёнка, с азартом охотника:
– Ага! Дринь-дринь!
Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:
«Синьор Дринь-дринь».
Он уехал, а они всё спрашивали:
– Как живёт синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?
Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.
Несколько эмигрантов каприйской колонии – литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присуждённый к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и ещё, кажется, двое – хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он – был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии, – Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чём не расспрашивал, он уже всё знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словцом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчёркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нём нет железа ни золотника» – тут каламбур построен на слове «ферро» – «железо». И всё – в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется, не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нём «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остаётся фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.
Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.
В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.
В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература – самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем, – в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнёта самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.
Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же её плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.
Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а – мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя.
Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, – Человеку – с большой буквы.
В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.
Он – политик. Он в совершенстве обладал тою чётко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжёлого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.
У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы – в особенности. Разум, не организованный идеей, – ещё не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы – нет идеи до поры, пока в ней сознания общности интересов всех её единиц.
Тысячелетия живёт она стремлением к лучшему, но это стремление создаёт из плоти её хищников, которые её же порабощают, её кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить её из плена хищников, – сила правды Ленина.
Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы»[8 - В. И. Ленин. «Апрельские тезисы» – Ред.], я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосётся в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.
Научная, техническая – вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией – для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией, – иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я – в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперёд; всё это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907–1913, посильно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.
Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весною 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» – учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой – широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные учёные, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства; С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.
Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нём социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложнённого войной, ещё более анархизировавшей деревню.
С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция – научная и рабочая – была, остаётся и ещё долго будет единственной ломовой лошадью, запряжённой в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс всё ещё остаётся силой, требующей руководства извне.
Так думал я 13 лет тому назад и так – ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но – «написано пером – не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках – учимся» – часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.
Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить – и переоценил – моё отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно – на старости лет.
Должность честных вождей народа – нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» – ценность человеческой жизни явно понижается, о чём неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.
Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырёх лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мещанская глупость: тугие петли её и по сей день душат людей.
Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь – узаконенный метод политики мещан, обычный приём борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдётся хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это – всем известно.
Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».
Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты»[9 - съезд деревенской бедноты Северной области проходил в Петрограде в ноябре 1918 г. – Ред.]. Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромнее количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, – уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это тёмное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.
Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчёркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет, – я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России, – в ней нет уже ничего хорошего.
Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Всё необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут – если они жаждут – вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:
«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»
Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.
Ненависть мировой буржуазии к нему обнажённо и отвратительно ясна, её синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин – вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его всё громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Всё более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.
Меня восхищала ярко выраженная в нём воля к жизни и активная ненависть к мерзости её, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его ещё более жгучей и ясной.
Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.
Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок, – до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, чёткие, ясные слова.
Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.
С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.
Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в своё призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, – роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскалённым солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:
– А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и – почти всё!
Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слёз. Краткому характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.