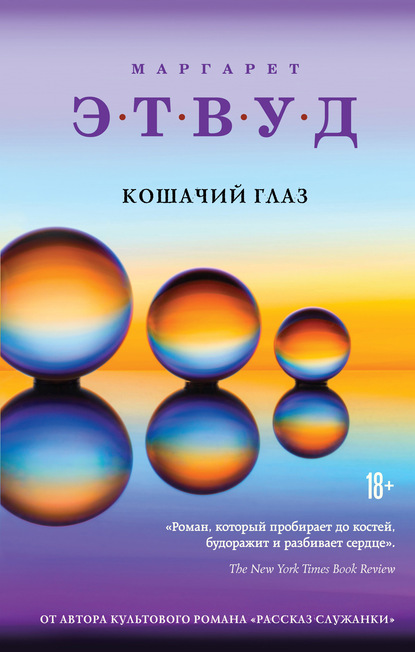По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кошачий глаз
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сразу после щелчка затвора начинается снег, небольшие сухие хлопья сыплются поодиночке с мрачного северного ноябрьского неба. Первому снегу предшествует особая тишина, истома, когда свет убывает и последние листья клена свисают с ветвей, как водоросли. До этого нам хотелось спать. Но при виде снега мы оживаем.
Мы носимся вокруг мотеля – на ногах стоптанная за лето обувь, вытянутые голые руки ловят снежинки, головы запрокинуты, рты открыты, глотают снег. Если бы он лежал на земле плотным покровом, мы бы вывалялись в нем, как собаки в грязи. Снег наполняет нас точно таким исступлением. Но мать выглядывает в окно, видит нас и снег, заставляет вернуться в дом, вытереть ноги ветхими полотенцами. У нас нет зимней обуви, которая была бы нам впору. Пока мы возимся в доме, начинается мокрый снег с дождем.
Отец мерит шагами дом, звеня ключами в кармане. Он всегда стремится поторопить события, вот и теперь он хочет уехать сейчас же, но мать велит ему не гнать лошадей. Мы выходим и помогаем отцу счистить с окон машины ледяную корку, потом таскаем ящики и наконец залезаем в машину сами и едем на юг. Я знаю, что на юг, по расположению солнца – оно теперь слабо просвечивает из-за туч, осыпая заиндевевшие деревья блёстками, отражаясь от ледяных зеркал на дороге и мешая видеть.
Родители говорят, что мы едем в новый дом. На этот раз он будет по-настоящему наш, не съемный. Дом находится в городе, который называется Торонто. Это название мне ничего не говорит. Я представляю себе дом из школьной книжки: белый, с забором-штакетником и газоном, с занавесками на окнах. Мне интересно, как выглядит моя комната.
К дому мы подъезжаем после обеда. Сначала мне кажется, что тут, должно быть, какая-то ошибка; но нет, дом именно тот – отец уже открывает дверь своим ключом. Дом, можно сказать, стоит вовсе не на улице – скорее, посреди поля. Он квадратный, одноэтажный, построен из желтого кирпича и окружен ничем не прикрытой грязью. С одной стороны дома – огромная яма в земле, а рядом – большие кучи грязи. Дорога перед домом тоже грязная, немощеная, вся изрытая. В грязи утоплено несколько бетонных блоков, по которым мы добираемся до двери.
Обстановка внутри пугает еще больше. Конечно, в доме есть двери и окна, это правда, и стены, и отопление работает. В гостиной – панорамное окно, хотя в него видно лишь большое озеро волнующейся грязи. Унитаз действует, но внутри на стенках желто-коричневое кольцо и плавают окурки. Когда я открываю кран, течет слегка ржавая, тепловатая вода. Но полы – не паркетные и даже не линолеумные. Они щелястые, из широких грубых досок. Доски серые от штукатурочной пыли и усыпаны белыми штучками, словно птичьим пометом. В немногих комнатах есть свет; в остальных только провода свисают с потолка. На кухне нет столов, одна только раковина. Плиты тоже нет. Ничего не покрашено. Все покрыто пылью – окна, подоконники, краны, пол. И кучи дохлых мух повсюду.
– Надо нам всем навалиться дружно, – говорит мать. Это значит, что жаловаться не положено. Придется делать все, что в наших силах, говорит она.
Мы вынуждены заканчивать дом сами, потому что строитель, который должен был отделать его для нас, обанкротился. Птичка упорхнула, как выразилась мать. Отец не расположен шутить. Он мерит дом шагами, щурясь и тыча пальцем в разные детали, что-то бормоча и присвистывая. «Собачий сын, собачий сын», – вот что он говорит.
Мать извлекает из недр автомобиля примус и ставит его на пол в кухне, поскольку стола тоже нет. Она принимается разогревать гороховый суп. Брат уходит на улицу; я знаю, что он лезет на гору грязи на соседнем участке или оценивает возможности, связанные с ямой, но меня не тянет к нему присоединиться.
Я мою руки в красноватой воде, текущей из крана в ванной. В раковине трещина, и это сейчас кажется мне катастрофой – хуже любого другого изъяна или нехватки. Я смотрю на свое отражение в запыленном зеркале. Плафона в ванной нет, только голая лампочка над головой, и из-за этого мое лицо выглядит бледным и больным, под глазами пролегли тени. Я тру глаза. Я знаю – нельзя показывать, что я плакала. Несмотря на то, что дом весь ободранный, в нем очень жарко – может быть, потому, что я до сих пор в уличной одежде. Мне кажется, что я в ловушке. Я хочу обратно в мотель, на дорогу, в старую жизнь без корней, без привязи – непостоянную и надежную.
В первые ночи мы спим на полу на надувных матрасах, в спальных мешках. Потом появляются раскладушки из магазина списанных армейских товаров – брезент, натянутый на металлический каркас. Опоры внизу узкие, поэтому если ночью повернешься на другой бок, то падаешь на пол, а раскладушка валится на тебя сверху. Ночь за ночью я падаю вместе с раскладушкой и просыпаюсь на неровном пыльном полу, не понимая, где я. Брата рядом нет, никто не смеется надо мной и не приказывает мне заткнуться – я в отдельной комнате. Сначала мысль о собственной комнате меня завораживает – пустое пространство, которое я могу выстроить как хочу, без оглядки на Стивена, его разбросанную одежду и деревянные ружья – но теперь мне одиноко. Я еще никогда в жизни не оставалась ночью одна.
Каждый день, пока мы в школе, дома появляются новые вещи: плита, холодильник, складной стол и четыре стула, так что можно есть нормально, сидя за столом, а не по-турецки на брезенте, расстеленном у камина. Камин в самом деле работает: его успели закончить. В нем мы жжем обрезки дерева, оставшиеся от строительства.
Отец в свободное время занимается внутренней отделкой дома. Он укладывает полы: узкие дощечки паркета в гостиной, гибкую плитку в спальнях. Новые полы идут в наступление, ряд за рядом. Дом становится похож на дом. Но все это занимает больше времени, чем мне хотелось бы; нам, обитателям острова в море послевоенной грязи, еще очень далеко до штакетника и белых занавесочек.
7
Мы привыкли видеть отца в штормовке, поношенной фетровой шляпе, фланелевой рубашке с плотно застегнутыми от мошкары манжетами, тяжелых штанах, заправленных в шерстяные рабочие носки. Мать одевалась примерно так же, за исключением фетровой шляпы.
Но теперь отец ходит в пиджаках, галстуках и белых рубашках, в твидовой куртке с шарфом. Вместо кожаных ботинок, промазанных для непромокаемости беконным жиром, он теперь надевает галоши поверх туфель. Мать явила взорам свои ноги – в нейлоновых чулках со швом сзади. Прежде чем выйти из дома, она рисует помадой рот. У нее пальто с серым меховым воротником и шляпа с перышком, из-за которого ее нос кажется длиннее. Каждый раз, надевая эту шляпу, мать смотрится в зеркало и произносит: «Я похожа на Эндорскую волшебницу».
Отец сменил работу; это объяснение всему происходящему. Он больше не разъездной исследователь лесных насекомых, а преподаватель в университете. Вонючих баночек и флаконов для образцов, когда-то заполонявших всё, порядком поубавилось. Вместо этого теперь по дому разбросаны пачки цветных рисунков, сделанных студентами отца. Все они изображают насекомых. Кузнечики, еловые почкоеды, гусеницы кольчатого коконопряда, жуки-древоточцы, каждый размером на страницу, все части аккуратно подписаны: мандибулы, щупики, сяжки, грудь, брюшко. Некоторые изображены в сечении, то есть разрезаны, чтобы можно было посмотреть, что внутри: туннели, разветвления, луковички, тончайшие волокна. Эти мне нравятся больше всего.
По вечерам отец сидит в кресле, положив поперек подлокотников доску, а на нее рисунок, и правит его красным карандашом. Иногда он при этом смеется сам с собой, или качает головой, или цокает сквозь зубы. «Идиот, – произносит он. Или: – Тупица». Я стою за креслом, глядя на рисунки, а отец объясняет, что вот этот студент приделал насекомому рот с другого конца, этот забыл нарисовать сердце, а тот не может отличить самца от самки. Но я оцениваю рисунки по другим принципам: они кажутся мне лучше или хуже в зависимости от цветовой гаммы.
По субботам мы грузимся в машину и отец везет нас к себе на работу. Его здание называется «Зоологический корпус», но мы его так не называем. Для нас это просто Корпус.
Корпус огромен. Мы там бываем по субботам, когда он почти пуст; от этого он кажется еще больше. Он построен из темного, обветренного кирпича, и мне кажется, что он снабжен сторожевыми башнями, хотя на самом деле никаких башен нет. Здание увито плющом – сейчас, зимой, листья облетели и остался лишь костяк, сетка жил. Внутри – длинные коридоры с паркетными полами. Паркет истерт и запятнан – поколения студентов топтались по нему сапогами в зимней снежной каше, – но его исправно натирают. Еще в корпусе есть лестницы – тоже деревянные, они скрипят, когда по ним поднимаешься, – и перила, по которым нам запрещено съезжать, и чугунные батареи: они лязгают и бывают либо холодными как камень, либо раскаленными.
На втором этаже коридоры уводят в другие коридоры, где вдоль стен на стеллажах стоят банки с дохлыми ящерицами и глазными яблоками коров. В одной комнате – застекленные клетки, а в них змеи, такие огромные, каких мы сроду не видали. Одна змея – ручной боа-констриктор; если смотритель на месте, он достает ее и обматывает вокруг своей руки, показывая нам, как змея давит свою жертву до смерти, чтобы съесть. Нам разрешают погладить боа-констриктора. Он прохладный и сухой. В других клетках – гремучие змеи, и смотритель показывает, как доит их, чтобы добыть яд. Для этого он надевает кожаную перчатку. Клыки змеи – изогнутые и пустые внутри, а яд, который через них каплет, желтый.
В той же комнате есть цементный бассейн с густой на вид зеленой водой. Там живут большие черепахи – они сидят неподвижно и моргают или неуклюже выбираются на устроенные для них камни и шипят, когда мы подходим слишком близко. В этой комнате жарко и влажно, так надо змеям и черепахам; в ней пахнет по-звериному. Еще в другой комнате есть клетка, полная огромных африканских тараканов. Они белые и до того ядовитые, что смотритель усыпляет их газом каждый раз, когда открывает клетку, чтобы покормить или достать одного.
Внизу, в подвале, стеллажи заполнены клетками, в которых сидят белые крысы и черные мыши, специальные, не дикие. Они едят гранулы из кормушек и пьют из бутылочек, к которым приделаны пипетки. У них есть гнезда из нагрызенной газетной бумаги, где лежат голые розовые мышата. Мыши бегают друг по другу, спят, сбившись в кучку, и обнюхивают друг друга дрожащими носиками. Смотритель мышей рассказывает: если посадить в клетку незнакомую мышь – с неправильным, чужим запахом – другие мыши загрызут ее до смерти.
В подвале воняет мышиным пометом, и эта вонь просачивается вверх, пропитывая весь Корпус. Чем выше этаж, тем вонь слабее. Она смешивается с запахом зеленого средства для мытья полов и с другими запахами – полироля для паркета, воска для мебели, формальдегида и змей.
Ничто из увиденного в Корпусе не кажется нам отвратительным. Нам знакомо общее устройство здешней жизни, если не конкретные детали, хотя мы никогда не видели столько мышей в одном месте; их количество и смрад внушают нам благоговейный трепет. Нам хотелось бы вытащить черепах из бассейна и поиграть с ними, но мы знаем, что нельзя: это кусачие черепахи, они злые, можно остаться без пальцев. Брат хотел стянуть банку с бычьим глазом: подобные вещи впечатляют других мальчиков.
Некоторые комнаты на верхних этажах – лаборатории. У них высокие потолки, а на одной стене доска, чтобы писать мелом. Лаборатории заставлены большими темными партами – скорее письменными столами, за которыми сидят на высоких табуретах. На каждом столе две лампы с зелеными абажурами и два микроскопа – старинных, с тяжелыми тонкими трубками и медной арматурой.
Мы и раньше видели микроскопы, но нас не подпускали к ним так надолго; мы можем возиться здесь часами, и нам не надоедает. Иногда нам дают слайды для просмотра: крылья бабочек, поперечное сечение червя, планарию, окрашенную розовым и фиолетовым, чтобы различить разные органы. В другие дни мы суем под объектив собственные пальцы и рассматриваем ногти – бледные выпуклости, стремящиеся, как холмы, к темно-розовому небу, – и кожу вокруг, зернистую, морщинистую, словно край пустыни. Или выдергиваем у себя волосы и смотрим на них – они жесткие и блестящие, как щетинки на хитиновых панцирях насекомых, а корень волоса на конце – как крохотная луковица.
Нам нравятся болячки. Мы отковыриваем корку – целую руку или ногу под микроскоп не засунешь – и выкручиваем увеличение на максимум. Корка болячки похожа на скалу, она бугристая, с блеском, вроде кремня; или неровная, как лишайник. Если удается отковырять болячку от пальца, мы кладем под микроскоп сам палец и смотрим на то место, откуда сочится кровь, ярко-красная, круглой пуговкой, похожей на ягоду. Потом мы ее слизываем. Мы рассматриваем ушную серу, козявки из носа, грязь, выковырянную между пальцев ног (сперва убедившись, что нас никто не застанет врасплох: мы знаем, не спрашивая, что взрослые такого не одобрят). Предположительно у нашей пытливости должны быть пределы, хотя никто не озаботился точно указать, где они пролегают.
Так мы проводим субботние утра, пока отец занимается делами у себя в кабинете, а мать закупает продукты. Она говорит, что ей удобнее, когда мы не путаемся у нее под ногами.
Окна Корпуса выходят на Юниверсити-авеню с газонами и конными статуями из позеленевшей меди. Прямо через дорогу – здание парламента провинции Онтарио, тоже старое и закопченное. Мне кажется, что внутри оно такое же, как наш Корпус – полно длинных скрипучих коридоров и стеллажей с маринованными ящерицами и бычьими глазами.
Именно из окон Корпуса мы видим первый в своей жизни парад Санта-Клауса. Мы еще никогда не видели парадов. Можно послушать, как его описывает радиокомментатор, но если хочешь все увидеть своими глазами, нужно закутаться по-зимнему и стоять на тротуаре, топая ногами и растирая руки, чтобы не замерзнуть. Кое-кто из зрителей залезает на конные статуи для лучшего обзора. Нам не приходится идти на такое – мы сидим на подоконнике одной из лабораторий Корпуса, спрятавшись от непогоды за пыльным стеклом, и жар чугунной батареи обдает нам ноги.
Отсюда мы видим участников парада, одетых снежинками, эльфами, кроликами, феями Драже. Они маршируют мимо, странно укороченные, поскольку мы смотрим сверху. Оркестры волынщиков в килтах, какие-то штуки на колесиках, вроде больших тортов – на них едут люди и машут зрителям. Начинает моросить. Всем стоящим внизу явно холодно.
В самом конце появляется Санта-Клаус. Он меньше, чем мы ожидали. Пыльное стекло приглушает его голос и мегафонную песню про сани с колокольчиками. Он раскачивается взад-вперед, влекомый упряжкой механических оленей. Он кажется каким-то размокшим. Он посылает воздушные поцелуи толпе.
Я знаю, что это не настоящий Санта-Клаус, а просто человек в костюме. Но все же мое представление о Санта-Клаусе изменилось, обрело новую глубину. С тех пор я не могу представить себе Санта-Клауса, не вспомнив тут же змей, черепах, заспиртованные глаза, ящериц в пожелтевших банках, обширный, гулкий, пряный, старинный и печальный, но в то же время утешительный запах старого дерева, полироля и формальдегида с ноткой далеких мышей.
III. Имперские рейтузы
8
Бывают дни, когда я с трудом вылезаю из постели. Мне тяжело говорить. Я измеряю достижения шагами: один шаг, другой, и наконец удается дойти до ванной комнаты. Каждый шаг – большая победа. Я бросаю все силы на то, чтобы открутить колпачок от тюбика с пастой, донести зубную щетку до рта. Мне трудно даже поднять руку. Я чувствую, что ничего не стою, что не могу принести никакой пользы никому, в первую очередь – самой себе.
«Что ты можешь сказать в свое оправдание?» – когда-то допрашивала меня Корделия. «Ничего», – обычно отвечала я. Я привыкла связывать это слово с собой. Словно я – ничто. Словно на моем месте – пустота.
Вчера ночью я ощутила приближение пустоты. Она была не рядом, но близилась, как взмахи крыльев, как похолодание ветра, как едва заметная поначалу тяга донного противотечения у берега. Мне захотелось поговорить с Беном. Я позвонила домой, но Бена не оказалось, я попала на автоответчик. Я услышала собственный голос – бодрый, деловитый. «Привет! Мы с Беном сейчас заняты, но оставьте сообщение, и мы вам перезвоним, как только сможем». И гудок.
Бестелесный, ангельский голос, плывущий по воздуху. Умри я прямо сейчас, он будет звучать все так же, приятный, заботливый, как в электронной загробной жизни. От него мне захотелось плакать.
– Приветы и поцелуи, – произнесла я в пустоту. Закрыла глаза и стала думать о прибрежных горах. Это твой дом, сказала я себе. Это место, где ты по правде живешь. Среди театральных пейзажей, слишком красивых, как намалеванные съемочные декорации. Там всё ненастоящее – недостаточно плоское, не бесцветное, не унылое. Впрочем, над этим уже работают. Стоит отъехать на пару миль в ту или другую сторону от домов с панорамными окнами, и попадешь в страну пней.
Ванкувер держит первенство в Канаде по числу самоубийств. Движешься на запад, пока не кончится завод. Оказываешься на краю. И падаешь вниз.
Я выползаю из-под перины. Я занятой человек – в теории. Мне предстоит много дел, хотя ни одно из них мне делать не хочется. Я лезу в холодильник, нахожу яйцо, варю его, вываливаю в чайную чашку, разминаю. Я даже взглядом не удостаиваю травяные чаи, а сразу выбираю настоящий, едкий кофе. Мандраж в чашке. Мысль о приближающейся нервной дрожи бодрит.
Я расхаживаю взад-вперед среди отрубленных рук и полых ног и пью черноту. Мне нравится эта мастерская. Я смогла бы тут работать. Она местами грязновата, кое-что сделано на коленке – точно в нужной пропорции. Зрелище распада действует на меня успокоительно: как бы там ни было, я все же в лучшем состоянии, чем это.
Сегодня мы, как говорят галеристы, вешаемся. Неудачно подобранное слово.
Я одеваю себя, ворочая свои руки и ноги так, будто они чужие, принадлежат кому-то малорослому или больному. Сегодня опять пастельно-голубой спортивный костюм: я привезла с собой очень мало одежды. Не люблю сдавать вещи в багаж, предпочитаю запихивать сумку под сиденье в самолете. Видимо, в глубине души я рассчитываю, что, если в воздухе что-нибудь случится, я выхвачу сумку из-под сиденья и грациозно выскочу в окно, не утратив ничего из своих пожитков.
Я выхожу наружу, быстрым шагом иду по улице, слегка приоткрыв рот и мысленно отсчитывая темп. «Мы – веселая компашка, с нами весело, не страшно». Раньше я бегала трусцой, но это вредно для коленей. Если перебрать бета-каротина, пожелтеешь. Кальция – вырастут камни в почках. Здоровый образ жизни убивает.
Торонто уже не пустует, как в былые дни. Теперь он заполнен до краев, он раздулся так, что скоро задохнется, это очевидно. Дороги забиты до отказа; водители гудят, подрезают друг друга, выезжают прямо на середину перекрестка и стоят там, пока не сменится свет на светофоре. Хорошо, что я иду пешком. В этом краю складов каждое здание, которое я миную, словно кричит мне: «Реновация! Реновация!» Впервые увидев заголовок «Рено…» в разделе объявлений о недвижимости в газете, я решила, что речь идет о городе, славном своими игорными домами. Язык уходит вперед, и я за ним не поспеваю.
Я оказываюсь на углу улиц Кинг и Спадайна и поворачиваю на север. Здесь раньше торговали одеждой, оптом. И сейчас торгуют, но старые еврейские продуктовые лавочки исчезают, их сменяют китайские магазины, где можно купить абсолютно всё – плетеную мебель, скатерти с вышивкой ришелье, эоловы арфы из бамбука. Одни уличные указатели дублированы по-китайски – мультикультурность на марше. На других под названием улицы написано: «Квартал моды». Теперь в городе, куда ни глянь, кварталы. Раньше никаких кварталов не было.
Мне вдруг приходит в голову, что на открытие выставки нужно платье. Я, конечно, привезла одно с собой; даже успела погладить дорожным утюжком на углу рабочего стола в мастерской, расчистив его и накрыв полотенцем. Платье черное, потому что черный цвет лучше всего для таких случаев: простое и строгое, как у скрипачки в симфоническом оркестре. Не стоит одеваться пышнее, чем возможные клиенты.
Другие электронные книги автора Маргарет Этвуд
Другие аудиокниги автора Маргарет Этвуд
Заветы




 0
0