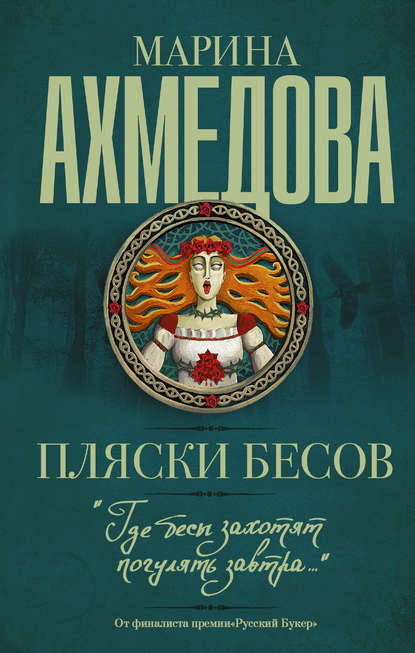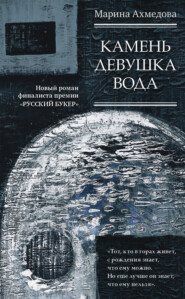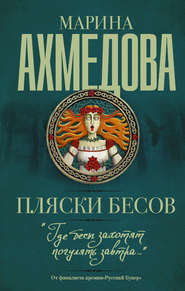По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пляски бесов
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так я просватана, – грудным голосом ответила она.
– А бросить все ради меня сможешь? – спросил вдруг пан, сам не веря своим ушам.
– Смогу, – ответила Светлана.
Пан взглянул в ее горящие глаза. Темные они были, темные. А в самых зрачках два огонька бились. Пан обернулся – за окнами вечер начал синеть. Лампа одна под потолком неярко горела. Откуда же огоньки эти в глазах красавицы? Ведь не у церковных же подсвечников, честное слово, стоит она? Пан еще вгляделся в Светланино лицо, и что-то мелькнуло по нему легкой судорогой, всколыхнувшей знакомое. Где-то недавно виденное. А что – вспомнить пан не мог. Сморгнул видение, да и пронеслись в его голове чужим женским голосом слова о том, что все пыль, уходящая в реки, и что запад и восток всегда будут с той стороны, в какой Господь их поставил, и местами они никогда не поменяются. Что в этом смысле ничего, кроме времени, не течет, не утекает бесконечной рекой. И что раз красавица сама в руки просится, то надо брать. И что чудеса случаются, главное не отмахиваться от них, как от черного хладного крыла, ведь то – счастье, а не несчастье.
Никто, вспоминая тот день, не смог бы дать правдивого ответа – что же произошло между паном Степаном и Светланой или, если вернее, между Светланой и Богданом. Случившееся было таким обстоятельством, которое сколько через колено сельского суда ни переламывай, никогда не разберешь, в каком конце осталась правда, а в каком – неправда. Обстоятельство то можно было только воспринять как факт. Пан Степан теперь был жених, Светлана – невеста. А Богдан… О том и говорить было нечего, хотя он еще, несомненно, вернется в нашу историю.
Предположений строилось много. Они гуляли по селу, заходя в каждый дом. Каких только догадок не выдвигали жители – и что Светлана прямо там, на танцах в клубе, узнала, что Богдан ей изменил с ее лучшей подругой Даркой (да только не похоже это было на спокойного, во всем честного Богдана), и что сама Светлана вдруг ощутила прилив любви к другому (да только, по справедливости сравнивая, никак нельзя было пана Степана Богдану предпочесть), и что порчу на Светлану навели – якобы пан ей любовный приворот на себя сделал, а от Богдана отворот. Никто никогда не узнает, какое из этих предположений было правдой. Все вместе? Ни одного? Но обстоятельство оставалось обстоятельством – Светлана заказала портнихе свадебное платье с фатой из тюля. А женихом, куда ни крути и как ни перекручивай, теперь был пан Степан.
Свадьба всем запомнилась смутно. Словно на тот июньский день невеста накинула свою прозрачную фату. Рассказывали, что молодые сидели во главе стола – серьезные, невеселые, касаясь друг друга плечами. Стол был богатый. А время небогатое. Время было независимое и свободное. Только как со свободой бывает? Когда ты всю жизнь ее не нюхал, а потом вдруг – на тебе, возьми, вот она – свобода, то и не знаешь, за какой бок ухватить ее, на какую полку поставить, как бы повыгодней использовать и где. Уж кто-кто, а украинские куркули выгоду свою из всего извлечь могли, но и они пока не знали, куда новую свободу применить. А были среди сельских и такие, которые хоть и слышали о свободе с самого рождения, а потом о ней сами помногу говорили, но понюхали ее – все равно что понюшку горького табака из рук Советов приняли. Раздражала такая свобода, на чих тянула. И тогда эти же самые заговорили о том, что свобода-то и содержится в несвободе. И даже в пример приводили ту цепь, что в старой кладбищенской церкви хранится: то татары пятьсот лет назад приходили, церковь пожгли, священника зарезали, одних людей погубили, других, цепями обвязав, в плен позабирали. Но ни это село, ни село с правой стороны, ни село с левой не загинули. А цепь, после татар оставшуюся, в церковь снесли и там до сих пор хранили – как память. Так вот и говорили те, кому свобода горечью пришлась, что даже если тебя цепями схватили по рукам и ногам, главное их внутри себя, на душе не иметь – и вот вам будет свобода. «Да где вы видели свободу, если ни правым плечом, ни левым повести неможно?» – отвечали им. Но те, кто помоложе был и покрепче, быстро такие разговоры попресекали – чтоб больше не велись они. И то правда, что от разговоров толку мало – свобода пришла, и ее приходилось брать.
А что про стол свадебный, то тут вся родня пана поднатужилась и вывалила на стол все самое-самое, и, глядя на него, плохие времена можно было спутать с хорошими, а свободные – с несвободными. Тут был и борщ с ушками, и котлеты свиные были, и голубцы с картошкой и грибами, томленные в сметане, и вареники – с картошкой и с творогом, грибы – скользкие, из соседнего лесочка, сыр – свой, прямо из-под коровы, сладости, водка и еще много-много всего разного.
На пане был черный пиджак с белым шелковым цветком в кармане и брюки – от другой двойки. А невеста была разодета в новое платье, под которым хорошо просматривалась короткая белая сорочка, вырезающая глубокий треугольник на груди. Платье из тонкой прозрачной мелко-сетчатой ткани, несколько слоев которой наброшены один на другой, чтобы скрыть ноги, которые, без сомнений, были стройными. Верхний слой ткани украшали белые аппликации в виде цветов и бабочек. Запястье обхватывало такое же дешевое кружево рукавов. На груди невесты была приколота большая белая роза. На голове венок из шелковых цветов, с которого на спину струилась фата.
Веселье не шло. Тетки подавали первое, второе. Дядьки разливали по рюмкам, дзинькая о их края горлышками бутылок. Говорили тосты. Тарас в веселой вышиванке поднялся из-за стола, долго вертел в твердых пальцах рюмку с водкой, прищуриваясь на дочь, а потом вместо тоста проговорил странное, к свадебному столу совсем не подходящее:
– Доня, и из болота можно на звезды любоваться.
Все видели, как передернуло пана Степана от этих слов.
«Ну и что, что красива? – подумал он тогда про себя. – Зато красота – быстротечна. Десять лет поживем, и от нее ничего не останется».
Думая о себе, пан тем временем перечислял в уме все свои непреходящие достоинства – и ум, и высшее образование, и две свои коровы, и огород, который он еще с весны собственноручно картофелем засадил. С этого мысли пана перекинулись на редис, на кабачки и тыквы, огурцы и помидоры, которые еще предстояло посадить, а с них на подпол, где зимой все это будет храниться. Рука Светланы, белая, теперь с узким обручальным кольцом, врезавшимся в безымянный палец, лежала возле тарелки, куда много вареников было навалено. Но невеста не касалась еды. Пан посмотрел на ее руку и тут же, по привычке своей фантазировать, начал представлять эту руку – голой. И сейчас ее крепкие изгибы были хорошо видны сквозь прозрачную ткань, которая словно тлела под разгоряченным взглядом пана Степана. А раз фантазии по-прежнему и как обычно были никому неведомы и невидимы, то от руки пан в мыслях своих поднялся выше и заглянул пониже – за треугольник невестиной сорочки, а потом – туда, где пан еще никогда не бывал. Его рука задрожала и передала мелкую дрожь рюмке, а та задзинькала о край тарелки. Пан переложил руку, приблизив ее к невестиной, коснувшись боком мизинца – ее мизинца. Светлана дернула рукой, и та упорхнула вниз, ей на колени. У пана потяжелело в груди, он глотнул водки и почувствовал, как та вниз утекает, а вместе с ней – все, что в груди скопилось. Но тут подумалось ему: «Да почему же это фантазии? Вот она сидит живая перед мной – из плоти и крови. Жена теперь. То не фантазии уже, не мечты, а неизбежность, как и предписано свыше роду человеческому – чтобы такое в нем между мужчиной и женщиной испокон веков происходило и никогда не прекращалось». Довольный этими мыслями, пан пригладил левый ус. Но тут встретился взглядом с дедом Панасом, который, тоже приглашенный на свадьбу, сидел с краю стола и, смеясь, наблюдал за ним. На пана нахлынуло нехорошее чувство: как будто вот это все происходящее – и свадьбу свою, и гостей – он видит в отражении пыльного стекла, а как солнце зайдет, то все исчезнет, ничего не будет – ни свадьбы, ни невесты, ни фаты ее, – останется один пан посреди развороченной праздником хаты. Но это чувство быстро разбилось о следующий свадебный тост, а тот потонул в звоне стекла, в гаме голосов – мужских и женских. А те звенели и басили, окунались в рюмки с водкой, становились протяжными, маслеными – после вареников, сметанными – после голубцов. И уже можно было думать, что сейчас кто-нибудь песню затянет или побьет посуду для приличия, но все оборвалось и смолкло, когда вошел Богдан.
Он сел за стол на лавку, мягко расталкивая уже сидящих, прямо напротив невесты и принялся смотреть ей в тарелку. Светлана туда же глаза опустила – на остывшие вареники с затвердевшими краями. Оба так внимательно разглядывали содержимое невестиной тарелки, что и гостям пришлось взглянуть в ту же сторону. Но каждый присутствующий в тот день за свадебным столом скажет – ничего там особенного не было и смотреть так долго на обычные вареники, честное слово, не стоило.
Богдан перевел взгляд на лицо Светланы. Не отрываясь от него, взял со стола вилку да и запустил ее в невестину тарелку. Пан Степан аж вздрогнул от такой наглости, но препятствовать не стал. Богдан положил в рот вареник, прожевал. Снова в тарелку полез. Второй подцепил. Съел.
– Ничего, Светланка, – проговорил он, – все, що ты проглотить не сможешь, я на себя возьму.
Слова Богдана никак не отразились на невестином лице. И глаза ее – темные, погасшие – ничего не отражали, никакого чувства в них не было. Невеста не сморгнула, и из тусклых глаз ее выкатилась слеза, такая же мутная, как тюль за затылком, и пошла медленно по щеке. Ни одна рука не поднялась, чтобы подать ей платок. Только кадык по Богдановой шее сверху вниз судорожно прошелся. Упала слеза в вареник, застряла в ложбинке остывшего теста. Богдан и тот вареник на вилку подцепил, в рот отправил. Проглотил, не пережевывая. И так – пока тарелка невесты не опустела.
– Горько, – хрипло проговорил он, поднимаясь, но рюмку в руках не держа.
Богдан пошел к выходу, а чувство было (все село потом в разговорах на этом сходилось), что глаза его через затылок все еще смотрели на Светланино лицо.
Пан же Степан к тому времени раздулся как индюк, и усы его встали над губой грубой щеткой. Этой щеткой он и оцарапал лицо Светланы, когда встал, поднял ее за плечи и впился ей в губу.
Что было дальше – бог его разберет. Чертовщина какая-то пошла. Уж и так-то селу после неожиданного появления на свадьбе Богдана, где он съел все вареники из тарелки невесты, было о чем поговорить. Так следом к этому еще событий прибавилось. Но о них все узнали только наутро после свадьбы, когда Тарас в несвежей вышиванке грузно побежал по сельской дороге из своей хаты до зятя хаты – как есть опухший после сна, а из окошка в окошко весть полетела – Светланка умерла.
А было вот как. Когда в бутылках оставалось только на дне, недоеденное уже начинало киснуть по мискам и по тарелкам, а в окно настойчиво просился молодой месяц, невеста удалилась во вторую комнату, которую пан называл спальной. Вот там-то и стоял уже знакомый нам белый комод. Килим висел на стене. Кровать, узковатая для двоих, уже была разложена. В комнате сильно пахло землей, и можно было догадаться, что под ней находится подпол – известный на все село. По рассказам, здесь не раз случалось прятаться упивцам.
Светлана, как есть, не раздеваясь, легла на кровать. Из-за стены приходили голоса, которые становились все глуше. Кровать тряхнуло, но почувствовать это могла только Светлана, лежащая на ней. Можно было подумать, что в подполье до сих пор кто-то водится, но то, видно, кто-то из гостей спьяну сильно привалился к стене. Светлана полежала, раскинув руки по подушке. Месяц перебрался ближе к этому окну и смотрел сбоку ей в лицо. В ее левом глазу зажегся серебряный свет. А звезды еще не спешили, нет – они мерцали под самым небесным куполом, словно не решаясь в эту ночь приближаться к Земле. В приоткрытое окно сильно пахну?ло землей, обещая завтра с утра дождь.
Светлана оторвала руку от подушки, поднесла ее к сердцу, где был приколот к платью свадебный цветок, проговорила: «Я умираю», – и умерла.
Времени прошло немного. Тело еще не успело остыть. В спальную вошел пан. Встал к месяцу спиной, к покойнице лицом и пожирал ее взглядом всю с ног до макушки, прикрытой фатой. Месяц подарил ее щекам сумеречное неземное мерцание, а может, то просто кровь уже отошла от ее лица. Губы алели, но ведь и то известно, что мясо гниет быстро, а там, где оно не прикрыто кожей, наглядно меняет цвет. Ресницы тенями отражались в ее щеках, как могут отражаться высокие сосны на глади чистой воды. Пан все смотрел и смотрел. В глазах его зажглись желтые масленые огоньки, хотя никаких желтых источников освещения поблизости не было.
– Ну что, Светланка, – ласково проговорил он, – кохана моя. Спишь уже?
Покойница не ответила. Пан, усмехнувшись, скинул пиджак, повесил его на спинку кровати и взгромоздился рядом с невестой.
– Спишь уже? – хрипло спросил он ее в ухо.
Покойница не пошевелилась.
Пан провел трясущейся рукой по ее груди, по щекам, смахивая с них месяц.
– Замерзла, – придвинулся он к ней ближе.
Пан поднял ее руку с поблескивающим кольцом – она была тяжелее прежнего. Пан наклонился к ее лицу, прикоснулся губами к ее губам. Осмелел, задышал тяжело, впился зубами. Отпрянул.
– Светланка? Ты что же? – спросил пан Степан, чувствуя, как его самого сковывает чужой покойницкий холод.
Он схватил невесту за плечи, поднял с трудом – какая же она была тяжелая, словно статуя каменная, – тряхнул. Голова тяжело болтнулась назад – на подушку.
– Светланка, – в ужасе проговорил пан Степан. – Вот ты, значит, как со мной?!
Он сел на кровати, повернувшись к покойнице спиной. Теперь месяц светил прямо на него. Румянец мигом схлынул с панова лица. Он крутил головой, не в силах поверить в случившееся. А голова все тяжелела и падала на грудь. «Да надо бы позвать кого-нибудь…» – подумалось ему. Но разве мог пан подняться на отяжелевшие ноги?
– Что ж мне, Светланка, завтра людям сказать? – спросил он, не поворачиваясь к невесте. – Что так противен тебе я был, что ты поспешила умереть до того, как супружеский долг придется исполнить? Зачем же ты замуж за меня пошла?!
Он сидел до тех пор, пока на губах не выступила горечь – от мертвого поцелуя, схваченного у невесты. Пан сглотнул, и горечь пошла к сердцу, разбудила в нем злость, а та разогрела тело. Кровь закипела, забушевала. Пан повернулся к покойнице, опрокинулся на нее.
В серебряном свете путались его руки, отмыкающие крючки на ее платье. Шпильки из-под фаты глухо сыпались на пол, попадая в щели над подпольем. Трещала белая ткань, когда пан срывал ее через невестину голову. По комнате расходилось его влажное нетерпеливое сипение. «А все равно будет по-моему!» – с этими словами он брякнулся на покойницу и погрузился в нее.
Отдышавшись, он отстранился, встал и свысока посмотрел на Светлану. Тонкие пальцы ее путались в длинных волосах. Молочное тело лежало в неудобном положении, словно вот-вот готово было вздрогнуть и перевалиться на бок.
Пан смотрел на покойницу до тех пор, пока не понял, что красота – быстротечна, как река, а стало быть, ее недостаточно для того, чтобы полюбить. Что никогда не любил он Светлану. Что, может, даже ненавидел ее. А поняв это, пан снова навалился на покойницу и поступил с ней так, как уже только что поступил. И только Бог ему в том был свидетель.
К гробу пан старался близко не приближаться. Деревянный, он стоял на том столе, где вчера еще свадебной еды было богато. Оставшееся было тут же доедено гостями – но теперь как поминальная еда. А пану, когда он мимо гроба проходил, все чудился запах оттуда душный, в котором он самого себя узнавал. И такая волна тошноты к горлу его подкатывала, что пан и сам себе противен становился. Часы считал, минуты, когда гроб можно будет на кладбище нести. Да проветрится ли когда-нибудь хата от духа Светланиного? Да захочет ли еще пан к какой-нибудь жинке подходить? Да сможет ли он когда-нибудь в церковь зайти или в зеркало на самого себя посмотреть?
Хотелось пану бежать – бежать из собственного дома. В другой раз он в лесок бы убрался – послушать ласковых птиц и журчанье ручья. Но теперь, казалось, и лес был от него закрыт. И дошло до него тогда – не привиделись ему бесы. Есть они. Лежат на дне озерца, ждут своего часа. Да только… не промахнул ли в тот раз бес мимо дупла и не оказался ли он в самом пане?
– Не промахнулся. Не промахнулся, – повторял пан, трогая свое опухшее лицо. – Сам видел. Не промахнулся.
Отец Светланы Тарас излил многие слезы в свадебное платье дочери, в которое Светлану одели снова, а когда со слезами весь праздничный алкоголь вытек, кажется, осознал, что единственной дочки лишился, доплелся до дома и там слег без сил. А потому на ночь пан остался с гробом наедине. Только покойница больше не вызывала в нем никаких желаний, кроме одного – бежать от нее подальше.
Чудно, но уже на другой день после смерти Светлана не была такой красивой. Кости, которые вытачивали ее прабабки в своих чреслах, скрылись за опухшими щеками, набрякшим лбом, раздутым носом, почерневшей нижней губой.
«Да боже ж ты мой, божечко, – в страхе думал пан Степан, глядя в окно на синеющий вечер. – Она так выглядит, словно в нечистой воде лежит».
В это время в доме не осталось ни теток, приходивших покойницу обмыть и поплакать о ней в голос, ни дядек, гроб сколотивших, ни соседей соболезнующих, ни праздношатающихся сельчан, которых одинаково привлекают как свадьбы, так и похороны. Остался пан один. Он сидел на стуле, поставив его поближе к выходу, словно оставляя себе возможность бежать. Да и должен ли он был сидеть напротив этой чужой ему женщины? А что за бес дернул его за язык сделать ей предложение? Пан закрыл лицо руками, решив изгнать беса любыми доступными ему способами. Тут и вовремя вспомнилось, что подо Львовом живет поп один – Василий Вороновский, бесов из живых тел изгоняющий.
– К нему бы съездить, – повторял про себя пан. – К нему…