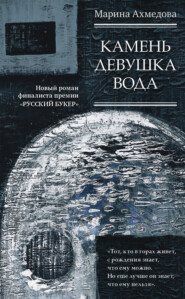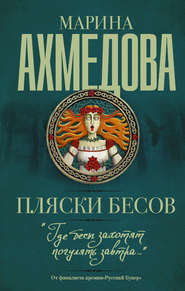По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Женский чеченский дневник
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Владимир Литовченко, – зачем-то сказала Наташа, как будто звала.
Она подошла к бетонной стене, заглянула в прямоугольную дыру на ней, взгляд выхватил кадр. С кадра на нее смотрел дом – пустыми своими глазницами. Она опустила «Никон», не стала шарить глазами по окнам – все равно что снимать смертельно больного. Отошла от стены, на одежде осталась красная краска – надпись сделали только что.
– Дай мне время, – попросила она, оторвав глаза от земли, на которой лежала.
Время упало в воронку, момент затянулся. Если она сейчас встанет и сделает кадр, талант на нем не отпечатается. Увидев, скажут одно – в нужное время в нужном месте. Такие кадры – железо и порох врезаются в землю, земля летит комьями, дымовой гриб над воронкой – приносят фотографу славу в мире больших и малых схваток. Фотограф-герой – он там был, лежал, прикрывая голову рукой, отсчитывая недолет и перелет, нажимал на кнопку прямо в лицо смерти, снимая ее в разных позах, устраивая ей целую фотосессию, и нервы его – стальные веревки – не порвались, когда смерть с силой дергала за них. Фотограф – герой: лежал, жал. Талант не отпечатался ни на нем самом, ни на его снимке, но это неважно – время и место подобраны верно, кнопка под рукой.
В затянувшемся времени Наташа в очередной раз спросила себя – смысл или слава? Смелость или общага? Покупательная способность тех, кто растиражирует ее кадры, вынутые из чужих глаз или выброшенные из сердца, потому что не вместило? «Огонек» или «Независимая»? Или кто первый? А может, «Коммерсантъ»? Талант или удивление? После школы она уехала в Москву, поступила в техникум и занялась озеленением. Сажала траву, копалась в земле, удобряла ее говном. Не считала себя умной – способной получить то, что считалось высшим образованием. Могла постричь розу, копаться в земле не любила, раскидывала по ней говно, а потом собирала цветы, жила в общаге, копила на фотоаппарат, торговала на рынке, умной себя не считала, ругалась матом, молчала, курила, думала, но не могла найти для мыслей подходящей одежды из слов. Ей легче было обложить смысл хуями. Ее слова были голыми и оттого глупыми и смешными. Она могла нарисовать Христа на жестяной банке. Она могла пойти еще дальше – набить банку двадцатью двумя окурками. Она могла выставить ее на всеобщее обозрение, да хоть в контейнере, забитом дубленками и пуховиками. Могла позвать зрителей голосом самым громким в Лужниках. Она могла их удивить, но не смогла бы спутать чужое удивление со своим талантом. Она называла современное искусство говном, из которого не расти розам, и, вообще, была бабой базарной, не способной понять, зачем она приезжала и возвращалась.
Лес
Ни грибов, ни ягод, хотя попадаются хорошие кадры. Лес хрустит под ногами. Началась зима, снег еще не выпал, деревья не защищают от холода, но лес населен людьми. Фотоаппарат их не видит, не берет, хотя Наташа прицеливается в разные стороны. Вечер опускается на тонкие стволы деревьев, окутывая их темным сгустком воздуха.
Наташа садится на сырую землю, прислоняясь спиной к стволу, вынимает из кармана зажигалку – карманы набиты зажигалками и фотопленками. Подносит огонек к земле, она не горит, только бьет в нос сыростью – листья раскрошились, смешались и уже начали гнить. Волков здесь нет, но ей слышится их вой.
Она разглядывает природу, которой уже не видно. Разглядывает те кадры, которые засели в ее памяти до того, как в лес пришла окончательная ночь. На этой чужой и твердой земле деревья тоньше и ниже, чем в средней России. Им не нужно тянуться вверх, чтобы выхватить из-за облачности блики света – днем здесь больше солнца.
Птицы в тот день не пели – или это она их не застала. Где тут прячутся люди и сколько еще нужно пройти, чтобы набрести на тех или других? Она и сама не знала, к кому ей больше хотелось попасть. За кого ей больше заплатят – за тех или за других? Где ее ждут лучше кадры? Где больше смысла?
Она привыкла к запаху трупов, ее не тошнило, когда сизые тени их испарений поднимались с земли, обнимали колени, хотя просить было уже не о чем. Мелкими молекулами забивали поры. Шептали о том, что война – негигиенична, но «Никон» шепота не разбирал, а сама Наташа давно перестала пользоваться дезодорантом.
В городе, когда-то считавшемся грозным, или там, где от него что-то осталось, Наташа ошиблась, решив, что земля умерла. В те дни она не представляла, сколько слоев нужно снять с поверхности земли, чтобы добраться до живого ядра. Земля умерла в схватках, так и не разродившись. Нефть собралась сгустившейся кровью в матке, но вытечет где-нибудь на экваторе – так думала она и складывала в архивы кадры, которые ее «Никону» было не разглядеть. Она сама будет их рассматривать, перетряхивать память, углубляться в кадры давно прошедшего всеми пятью чувствами, забывая о настоящем, живя только прошлым. Будет – когда все закончится.
Наташа постелила на землю куртку.
– Литовченко! – позвала она, когда из негоревших листьев поползли тени. Она удивилась – в лесу не было эха. Все умерло. Все сизо. Мерзли руки.
Ночью пошел дождь, холодные струйки текли по ее бугристым от мурашек рукам. Она легла на спину, вытянув руки по швам, сверху накрылась листьями, от которых стало еще холодней, прижала к животу «Никон» и сделала несколько кадров ночного неба. Похоронив себя под гнилыми листьями на мертвой земле, она умирала, лежала и ждала. На кадрах отпечатались только звуки. Такие не продать, но… какой талант.
Потом они ее нашли и сказали: «Ну и вонища от тебя», а она не стала им объяснять, что ночью умерла.
Наташа обхватила коленями котелок. Погрела о него руки, закрыла глаза и совсем ненадолго ушла в Лужники, послушать азербайджанца. Гречка остывала. Лучше б кофе, хоть растворимый.
– Как звать? – спросила она молодого, похожего на братьев, которых у нее не было.
– Владимир, – ответил он.
– Литовченко? – уточнила Наташа.
– Вот дура, – сказал молодой. – Ну и вонища от тебя.
– Лучше б кофе, – ответила она, но кофе не было.
– На хуя? – спросил он Наташу.
– Хуй его знает, – пожала плечами она, понимая, что общага тут ни при чем.
Дождь пропитал землю, превратив ее в жидкое тесто. Его месят солдатские сапоги с налипшей на них тяжелой грязью. Размокнув, чужая земля стала липкой, превратилась в болото и, как казалось Наташе, тоже встала на защиту своих жителей. Моросило, пузырьки влаги садились на волосы, делали их седыми.
Кроссовки промокли еще ночью, и с утра она обмотала ноги полиэтиленовыми пакетами. Здесь все было по-другому, не так, как дома, но где ее дом, она теперь не знала. Был ли он вообще или в ее случае дом – это там, где ты находишься в данный момент? Солдаты хотели домой.
Танковая дивизия российских войск застряла в грязи. Железо казалось безжизненным и холодным, Наташа не верила, что его удастся сдвинуть с места. Утирая рукавами носы, солдаты валили деревья по обочине дороги, подкладывали их под гусеницы, но танки увязали еще глубже. Земля превращалась в болото.
Жгли бензин, чтобы согреться. Наташа фотографировала. Два кадра, на которых Владимир, вышли особо удачными. Позже, рассматривая отпечатанные снимки, она попытается объяснить его взгляд, разобрать по частям то, что ей удалось вытянуть из этого молодого солдата.
Он не просто замерз и хотел домой. В его глазах собралась вся усталость солдат рода человеческого, вся бессмысленность схваток, происходящих на этой земле из поколения в поколение, от первой до последней. Но только теперь, после сотворения фотографии, в век высоких технологий и скоростных снимков, к которым не нужно готовиться, напрягая веки, чтобы не моргнуть, – стало возможным ухватить этот отпечаток времени и истории, мелькающий в глазах солдат всех времен и народов. Застывающий в них на доли секунды, незаметный ни им самим, ни фотографу, но растянутый во времени и доступный любому, находящемуся за тысячи километров и за десятки лет, благодаря одному движению пальца. Только позже, в очередной раз вернувшись в Москву и раскладывая свежеотпечатанные фотографии на полу общаги, Наташа внимательно вглядится в глаза Владимира, рассмотрит в бессмысленности тот смысл, который искала, и прочтет в них вечный укор чужой земли, которая даже тогда стала Владимиру матерью. Она обопрется локтем о холодный пол, затянется сигаретой, которая будет бессмысленно долго дымиться в ее пальцах, осыпаясь пеплом на безбородое лицо солдата, и ей покажется, что, глядя прямо в объектив ее «Никона», Владимир хотел остановить взглядом войну.
– У бородатых уже была? – спрашивает он, когда она присаживается рядом и тоже греет руки о политое бензином тряпье.
– Нет.
В оттопыренных карманах ее брюк – бородатые люди. Они позируют с автоматами на плечах или прицеливаются в объектив – шутки ради. Их командир, которого в новостях зовут полевым, сидит на большом валуне, а вокруг горы и весна. Пахнет молодыми деревьями и черемшой, поют птицы, вдали слышны голоса. Звуки переднего плана – крыканье «Никона». Наташа делает кадр за кадром. Это – история. Командир подпирает коленями подбородок, на его бритой голове – блики и родинки в двух местах – одна бесцветная, выпуклая над левой бровью, другая коричневая на правом виске. Он сорвал травинку, спрятал свои родинки под кожаной кепкой, улыбнулся. На всех ее кадрах он улыбался.
– Вас, журналистов, не поймешь, – заводит Владимир, и другие с ним соглашаются: нет, не поймешь журналистов.
– Вы же то с нами, то с ними… Вам лишь бы денег заработать. Суки вы продажные, – продолжает он и ждет, что Наташа вступит в спор, начнет доказывать, что она – третья сторона, ее дело – снимать, документировать историю, оттискивать ее для потомков. Он тут же опровергнет ее доводы, и ему есть чем крыть, потому что это нечестно, сегодня с нами, а завтра с ними, потому что те – против нас. А то, что объективная информация должна быть подана с двух сторон, – для него не аргумент, для них для всех не аргумент. Все это – хуйня, потому что сегодня он мерзнет, потому что в десяти километрах от них братишки из Пскова ждут подкрепления, а танки в летних гусеницах увязли в грязи. Потому что он хочет домой к маме, ему страшно, хотя в этом он никогда не признается, и потому что завтра его убьют, и срать ему хотелось на то, с каких сторон будет подана информация.
– Лучше давай я тебя щелкну – на память, – останавливает она его аргументы.
Владимир садится на кочку, протягивает руки к огню. Он не спасует перед прицелом большого круглого глаза. Он поднимет глаза от огня, испугается чего-то, может быть того, что они выдадут его слабость, поведет ими вниз, но не спасует – вернет их в нужную точку, упрется взглядом в объектив и выдержит то мгновение, не моргнет. Наташа почувствует в его голубых глазах и слабость, и силу одновременно, и ей покажется, что, вырони она сейчас фотоаппарат, Владимир сможет удержать его на весу одним своим взглядом, которым позже Наташа попытается остановить войну. Но у нее ничего не получится. Впрочем, она это знала с самого начала. И не за тем приехала.
Крык.
Танки не двигались, расстояние между ними и псковскими разведчиками увеличивалось, и уже отсчитывалось часами пешего хода. День приближался ко второй половине, Наташа лежала в танке, который солдаты безрезультатно пытались протащить по грязи, хотя уже понимали, что разведчиков им не нагнать. Лес притих в ожидании схватки. Наташе казалось, что все – она сама, солдаты и танки – провалились под землю, и там в ее недрах начинался другой лес – неподвижный, тихий, безжизненный.
Она подложила под голову куртку. В танке пахло железом. Висок и плечо упирались в его твердое днище. Наташа представляла себя большой рыбой, которую залили соусом дня и законсервировали в металлической банке. Лежать на земле было удобней, но снаружи шел дождь. Висок начинал болеть, и она повернулась на другой бок, боясь снов, но со сном не борясь.
Старый сон вернулся, как только слух перестал различать внешние звуки. Она не считала, сколько раз он ей снился, могла только назвать дату первого – июль 1995 года. Приснился он ей в Раю – на Мальдивском острове. Сон не был частым и не был редким. Она его не звала и не гнала. Во сне она всегда знала, что все прошло, закончилось и осталось в прошлом, отпечатанном десятками пленок – их она тогда не пожалела. Да и был ли смысл жалеть пленки, если свою собственную жизнь она готова была разменять на хорошие кадры.
18 июня 1995 года она оказалась в нужном месте в нужное время. Те, кого она в те дни снимала, предпочли бы родиться на экваторе.
Сон никогда не менялся, ведь был ею самой отснятой пленкой, на которой один кадр следовал за другим в строгой последовательности. Наташин сон увидела вся страна, Франция и Америка – в век высокоскоростных технологий со снов стало возможным снимать слепки и оттискивать их на бумаге.
Коридор
Сон начинался с полевой кухни. Объектив наезжал на солдатский котелок с кашей, в который Наташина рука медленно опускала ложку, зачерпывала горсть крупинок и так же медленно несла ложку ко рту. Ее движения не были растянуты замедленной съемкой – она действительно очень медленно ела кашу, находясь в первом оцеплении федеральных войск, окружившем больницу кольцом людей и бронетехники.
– Этой добавку не давать, – говорит военный со звездами на пагонах. Объектив наезжает на его лицо, выхватывает его пухлые губы, и в Наташином сне эти губы становятся размером с котелок, кривятся, верхняя губа прикусывает нижнюю. Наташа запоминает только губы, погоны и голос. Другие детали в памяти не удерживаются.
Она прошла через второе оцепление, дальше которого журналистам ход был закрыт. Дворами, домами, входя в дверь, вылезая в окна. Медленными движениями ложки ела третий котелок каши, наваленной с горкой щедрым поваром полевой кухни.
– Ребята, я два дня не ела, – сказала она солдатам-срочникам, осторожно снимающим оловянными ложками первый слой еще дымящейся каши, и сразу получила первый котелок. «Помедленней, помедленней, – говорила она себе, пережевывая и глотая, – ты не жрать сюда приехала». Уже в ста метрах начиналась больница.
Вместительная способность ее желудка была превышена на втором котелке, но она давилась кашей – горсть за горстью, – чтобы растянуть время и выгадать шанс на хорошие кадры, которые могли случиться в любую минуту. И время дало шанс, и кадр был бы хорош, если бы она сама не стала его главным действующим лицом.
– Поест, и гоните ее, – отдают распоряжение губы, на нижней застывает капелька слюны. – Зачем вы ей кашу дали?
– Так ведь… сказала, что два дня не ела…