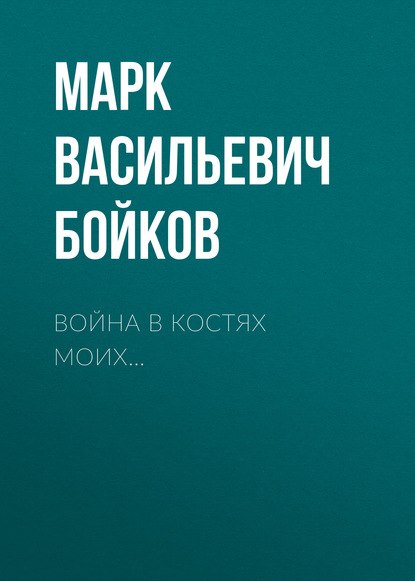По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Война в костях моих
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Баба Маня! – начал я дергать спутницу, переходя на шепот. – Что ты? Мы ж не такие, не нищие. Мы в Путилиху идем…
Баба Маня наклонилась ко мне и попросила:
– Помогай, Марик! Повторяй за мной: подайте сиротам что-нибудь. Уж день как… Благодарствую, милая! Дай вам, Господи, доброго здоровья… Помолюсь, родная! Во спасение помолюсь!.. Как звать его?
Баба Маня держала в руке сверток от женщины и что-то ей горячо обещала. Та назвала имя, потом подала клочок бумаги с написанным словом, который баба Маня упрятала в тот же сверток и все вместе опустила в свой дорожный мешок.
Все это несказанно изумило меня. Далекие, незнакомые люди встретились как родные. Словно они знали, что встретятся, так легко договорились о чем-то. Мы прошли вдоль базара вперед и назад. Народу было мало, не то что в Писцове. И никто больше внимания на нас не обратил. Да и я ничего не нашел.
Ничего также не сумел я проговорить из того, о чем просила меня баба Маня. «Уж день как не ели» – было неправдой. «Подайте ради Христа» – было непонятно, потому что просили для себя. «Пожалейте малого да старого» – подходило нам больше, но жалела меня обычно мама, а от других я такого ничуть не хотел. Слова, короче, застревали у меня в горле. И говорить с чужого голоса не получалось.
Расположились мы у колодца, на лужайке. Баба Маня достала из мешка чистую белую тряпочку, расстелила ее скатеркой. На ней появились две вареные картошины, огурец, кусочек хлеба (меньше того, что мне был знаком под именем «сто грамм») и соль в бумажной завертке.
Видя так много еды, я потянулся за картошиной из своего кармана и широким жестом прибавил ее к тому, что занимало нашу самобранку.
Баба Маня сказала на это:
– Свою-то погоди есть, а вот сухарик достань. Помочишь в кружке, сейчас воды нальем, – сам и поешь. У меня зубы-то плохие: я мякишем обойдусь. А тебе еще и корочка достанется.
Машинально я взялся за карман. Но лезть туда было незачем. Остановившись, я все вспомнил. И уставился глазами в лицо бабы Мани.
– Доставай, Марик. Кутить так кутить! Или что?.. Потерял разве?
– Не-ет, – с трудом выговорил я.
И из глаз моих потекли слезы. Я заплакал без рева, задавливая голос, отфыркивая судорогу.
– Ну что ты? Что ты? Родимый! Потерял, ну и ладно, – подвинувшись ко мне и обняв за плечи, принялась утешать меня баба Маня, приговаривая:
– Да бог с ним, с сухариком.
Оттого, что меня пожалели, я зашелся еще пуще.
– Баба! – впервые я обратился к ней, не употребляя имени. – Я съел его… Нечаянно.
Обманывать, хитрить, притворяться я еще не умел, а вот чувствовать за собой вину – оттого, что описался или воздух испортил – уже приходилось. (Через много-много лет, когда я учился в МГУ, я узнал от психологов, что характер человека складывается до двух лет, а личность – до пяти. Подтверждаю – сущая правда, и это не было для меня откровением).
– Съел? Ну и пусть. Что из того? К обеду нам подадут что-нибудь. Ой! Да погоди-ка…
Она достала из своего мешка сверток, что совсем еще недавно подала нам женщина. Это было интересным, и я успокоился. В свертке оказалась записка и еда, обычная для того времени еда: две картошины, помидорина и кусок хлеба (побольше ста граммов).
– Марик, да мы с тобой богатеи!.. Видать, весь завтрак отдала нам девонька. А что в записке-то?..
В записке были вписаны фамилия и имя мужчины. Баба Маня начала что-то лепетать и причитать, закрывая глаза, потом повторила имя и фамилию мужчины, трижды перекрестилась и добавила:
– … Чтоб вернуться ему живым и невредимым. Сохрани его, Боже!
Много раз потом в своей жизни я вспоминал эту первую нашу милостыню. Ясно, что не только завтрак отдала нам женщина. И обед тоже. Она верила, что, помогая нам, она помогает своему любимому или просто дорогому человеку; что, страдая сама, она облегчает ему тяготы и раздвигает горизонт для возвращения домой.
Люди верят в мировую связь добра и пополняют ее, надеясь, что, идя от человека к человеку, она может достичь дорогого, любимого и помочь ему. Только так я могу истолковать сегодня поступок ее жертвенности. Возможно, что я говорю о ее чувствах картиннее, чем сказала бы она. Но я потому и говорю, что часть ее милостыни осталась во мне нетленной, незабываемой частью меня самого. И я передаю эту часть другим, может, и потомкам той женщины, с тою же целью – помочь, облегчить, спасти, вернуть, сохранить.
– Приятного аппетита! – услышал я мужской голос от колодца и, забывшись, уставился в его сторону.
Однорукий мужчина в гимнастерке, каковую я уже видывал на других, ловко орудовал вертушкой, то крутя ее, то подпирая плечом. Играючи он извлекал из колодца окольцованное обручем ведро и разливал воду в свои ведра поменьше. Сегодня я сравнил бы его действия с мастерством циркача – такими завораживающими они были.
– Не могу ли чем помочь? – спросил он, прилаживая коромысло к ведрам.
– Да, водицы бы нам надо, – отозвалась баба Маня.
– Сейчас вынесу, – сказал мужчина. Вскинул коромысло с двумя ведрами на плечо и скрылся в ближайшей же калитке.
Он вернулся скоро, держа в руке большую кружку. Пустой рукав был подоткнут в подмышку, и только сейчас я до конца проникся, что мужчина – однорукий.
Он подошел к нам и протянул мне кружку. Я поднялся, взял кружку обеими руками, заглянул в нее. До краев она была полна молоком. Белым, непроницаемым, плотным. Я поднес кружку к губам, наклонил голову и впился в молоко, как комар в мягкую щеку.
Вообще на нашем с Борей столе молоко было редкостью. А это было теплое, вкусное, парное (как теперь я знаю), прилипающее к губам, сытное молоко. Я пил его долго, не отрываясь, приладившись дышать носом, не отстраняясь от кружки. Я сообразил, что, пока я пью, никто эту кружку у меня не отнимет. Я сознавал свой эгоизм и понимал, что баба Маня тоже попила бы молока. Но взрослые разговаривали между собой, и это давало мне право не останавливаться.
Но тут баба Маня сказала:
– Не торопись, Марик, отдохни!
И, опустив кружку, я сделал глубокий-глубокий вздох.
– Значит, говорите, Дуськи Бойковой сын?.. Не внук ли деда Андрея?.. Вас-то я не знаю. А он стекольщик отменный!.. А отец где?
– Отец – Василий, – отвечала баба Маня. – Известное дело: на войне он.
– Все мы на войне! – задумчиво поддержал мужчина.
– Ну да, на фронте, конечно.
– А куда путь держите? – спросил однорукий.
Уловив слово «путь», я тут же вставил:
– В Путилиху!
– Далеко идете, – усмехнулся мужчина. – Как бы дожди вас не застигли. Что ж, обратно пойдете – постучитесь к нам.
Я вернул кружку мужчине. Он заглянул в нее и велел допить остатки. Я посмотрел на бабу Маню. Кивком головы она подтвердила это, и я спокойно, не торопясь допил молоко уже не из чувства голода, а из вкусового удовольствия. Молоко мне понравилось и запомнилось. Где-то лет через тридцать, когда я привез своего трехгодовалого сынишку в родное Писцово и дал ему впервые кружку парного молока, я был поражен, с каким совершенно сходным удовольствием он, городской ребенок, выпил эту кружку, напоследок облизываясь. А ведь он не знал моего голода. Видно, что-то передается в поколениях. И пока мы гостили, чадо мое ни разу не отказалось от парного молока. А я всякий раз вспоминал ту алюминиевую кружку, что поднес мне вернувшийся с фронта солдат. Жилистый, ловкий, без лишних слов добрый русский человек, который (а не эти велеречивые умники или накаченные тупицы) стал для меня олицетворением мужской силы и победителя.
Оттого, что так быстро и так много я выпил молока, я попросту опьянел. Есть мне уже не хотелось. И пока баба Маня завтракала без меня, головушка моя начала клониться. Впервые за последние месяцы или год после того, как выгорели хлебопекарня и высящаяся над ней «надзорная» (за пролетающими самолетами) церковная колокольня, где мать работала одной из дежурных с большущим биноклем, я порядком наелся, и меня сразу же потянуло ко сну.
– Марик, Марик! Нам пора идти, – хлопотала баба Маня, собирая нашу скатерть-самобранку. – Поднимись, родной. Дай мне руку…
– Бабуся, а давай сразу вернемся. Зато поспим чуток, – что-то такое я выговорил и, еле-еле поднявшись, уткнулся бабе Мане в зад. Возле него было хорошо, почти как на подушке. Мы тронулись.
Я шел за бабой Маней, словно козленок на привязи, то упирающийся, то тычущийся. Мы снова поднялись к базару, и, на повороте оглянувшись, мутнеющим взглядом я все же увидел, как однорукий мужчина вновь азартно играл с вертушкой колодца. Я вяло помахал ему рукой, но он меня уж не заметил.
Баба Маня наклонилась ко мне и попросила:
– Помогай, Марик! Повторяй за мной: подайте сиротам что-нибудь. Уж день как… Благодарствую, милая! Дай вам, Господи, доброго здоровья… Помолюсь, родная! Во спасение помолюсь!.. Как звать его?
Баба Маня держала в руке сверток от женщины и что-то ей горячо обещала. Та назвала имя, потом подала клочок бумаги с написанным словом, который баба Маня упрятала в тот же сверток и все вместе опустила в свой дорожный мешок.
Все это несказанно изумило меня. Далекие, незнакомые люди встретились как родные. Словно они знали, что встретятся, так легко договорились о чем-то. Мы прошли вдоль базара вперед и назад. Народу было мало, не то что в Писцове. И никто больше внимания на нас не обратил. Да и я ничего не нашел.
Ничего также не сумел я проговорить из того, о чем просила меня баба Маня. «Уж день как не ели» – было неправдой. «Подайте ради Христа» – было непонятно, потому что просили для себя. «Пожалейте малого да старого» – подходило нам больше, но жалела меня обычно мама, а от других я такого ничуть не хотел. Слова, короче, застревали у меня в горле. И говорить с чужого голоса не получалось.
Расположились мы у колодца, на лужайке. Баба Маня достала из мешка чистую белую тряпочку, расстелила ее скатеркой. На ней появились две вареные картошины, огурец, кусочек хлеба (меньше того, что мне был знаком под именем «сто грамм») и соль в бумажной завертке.
Видя так много еды, я потянулся за картошиной из своего кармана и широким жестом прибавил ее к тому, что занимало нашу самобранку.
Баба Маня сказала на это:
– Свою-то погоди есть, а вот сухарик достань. Помочишь в кружке, сейчас воды нальем, – сам и поешь. У меня зубы-то плохие: я мякишем обойдусь. А тебе еще и корочка достанется.
Машинально я взялся за карман. Но лезть туда было незачем. Остановившись, я все вспомнил. И уставился глазами в лицо бабы Мани.
– Доставай, Марик. Кутить так кутить! Или что?.. Потерял разве?
– Не-ет, – с трудом выговорил я.
И из глаз моих потекли слезы. Я заплакал без рева, задавливая голос, отфыркивая судорогу.
– Ну что ты? Что ты? Родимый! Потерял, ну и ладно, – подвинувшись ко мне и обняв за плечи, принялась утешать меня баба Маня, приговаривая:
– Да бог с ним, с сухариком.
Оттого, что меня пожалели, я зашелся еще пуще.
– Баба! – впервые я обратился к ней, не употребляя имени. – Я съел его… Нечаянно.
Обманывать, хитрить, притворяться я еще не умел, а вот чувствовать за собой вину – оттого, что описался или воздух испортил – уже приходилось. (Через много-много лет, когда я учился в МГУ, я узнал от психологов, что характер человека складывается до двух лет, а личность – до пяти. Подтверждаю – сущая правда, и это не было для меня откровением).
– Съел? Ну и пусть. Что из того? К обеду нам подадут что-нибудь. Ой! Да погоди-ка…
Она достала из своего мешка сверток, что совсем еще недавно подала нам женщина. Это было интересным, и я успокоился. В свертке оказалась записка и еда, обычная для того времени еда: две картошины, помидорина и кусок хлеба (побольше ста граммов).
– Марик, да мы с тобой богатеи!.. Видать, весь завтрак отдала нам девонька. А что в записке-то?..
В записке были вписаны фамилия и имя мужчины. Баба Маня начала что-то лепетать и причитать, закрывая глаза, потом повторила имя и фамилию мужчины, трижды перекрестилась и добавила:
– … Чтоб вернуться ему живым и невредимым. Сохрани его, Боже!
Много раз потом в своей жизни я вспоминал эту первую нашу милостыню. Ясно, что не только завтрак отдала нам женщина. И обед тоже. Она верила, что, помогая нам, она помогает своему любимому или просто дорогому человеку; что, страдая сама, она облегчает ему тяготы и раздвигает горизонт для возвращения домой.
Люди верят в мировую связь добра и пополняют ее, надеясь, что, идя от человека к человеку, она может достичь дорогого, любимого и помочь ему. Только так я могу истолковать сегодня поступок ее жертвенности. Возможно, что я говорю о ее чувствах картиннее, чем сказала бы она. Но я потому и говорю, что часть ее милостыни осталась во мне нетленной, незабываемой частью меня самого. И я передаю эту часть другим, может, и потомкам той женщины, с тою же целью – помочь, облегчить, спасти, вернуть, сохранить.
– Приятного аппетита! – услышал я мужской голос от колодца и, забывшись, уставился в его сторону.
Однорукий мужчина в гимнастерке, каковую я уже видывал на других, ловко орудовал вертушкой, то крутя ее, то подпирая плечом. Играючи он извлекал из колодца окольцованное обручем ведро и разливал воду в свои ведра поменьше. Сегодня я сравнил бы его действия с мастерством циркача – такими завораживающими они были.
– Не могу ли чем помочь? – спросил он, прилаживая коромысло к ведрам.
– Да, водицы бы нам надо, – отозвалась баба Маня.
– Сейчас вынесу, – сказал мужчина. Вскинул коромысло с двумя ведрами на плечо и скрылся в ближайшей же калитке.
Он вернулся скоро, держа в руке большую кружку. Пустой рукав был подоткнут в подмышку, и только сейчас я до конца проникся, что мужчина – однорукий.
Он подошел к нам и протянул мне кружку. Я поднялся, взял кружку обеими руками, заглянул в нее. До краев она была полна молоком. Белым, непроницаемым, плотным. Я поднес кружку к губам, наклонил голову и впился в молоко, как комар в мягкую щеку.
Вообще на нашем с Борей столе молоко было редкостью. А это было теплое, вкусное, парное (как теперь я знаю), прилипающее к губам, сытное молоко. Я пил его долго, не отрываясь, приладившись дышать носом, не отстраняясь от кружки. Я сообразил, что, пока я пью, никто эту кружку у меня не отнимет. Я сознавал свой эгоизм и понимал, что баба Маня тоже попила бы молока. Но взрослые разговаривали между собой, и это давало мне право не останавливаться.
Но тут баба Маня сказала:
– Не торопись, Марик, отдохни!
И, опустив кружку, я сделал глубокий-глубокий вздох.
– Значит, говорите, Дуськи Бойковой сын?.. Не внук ли деда Андрея?.. Вас-то я не знаю. А он стекольщик отменный!.. А отец где?
– Отец – Василий, – отвечала баба Маня. – Известное дело: на войне он.
– Все мы на войне! – задумчиво поддержал мужчина.
– Ну да, на фронте, конечно.
– А куда путь держите? – спросил однорукий.
Уловив слово «путь», я тут же вставил:
– В Путилиху!
– Далеко идете, – усмехнулся мужчина. – Как бы дожди вас не застигли. Что ж, обратно пойдете – постучитесь к нам.
Я вернул кружку мужчине. Он заглянул в нее и велел допить остатки. Я посмотрел на бабу Маню. Кивком головы она подтвердила это, и я спокойно, не торопясь допил молоко уже не из чувства голода, а из вкусового удовольствия. Молоко мне понравилось и запомнилось. Где-то лет через тридцать, когда я привез своего трехгодовалого сынишку в родное Писцово и дал ему впервые кружку парного молока, я был поражен, с каким совершенно сходным удовольствием он, городской ребенок, выпил эту кружку, напоследок облизываясь. А ведь он не знал моего голода. Видно, что-то передается в поколениях. И пока мы гостили, чадо мое ни разу не отказалось от парного молока. А я всякий раз вспоминал ту алюминиевую кружку, что поднес мне вернувшийся с фронта солдат. Жилистый, ловкий, без лишних слов добрый русский человек, который (а не эти велеречивые умники или накаченные тупицы) стал для меня олицетворением мужской силы и победителя.
Оттого, что так быстро и так много я выпил молока, я попросту опьянел. Есть мне уже не хотелось. И пока баба Маня завтракала без меня, головушка моя начала клониться. Впервые за последние месяцы или год после того, как выгорели хлебопекарня и высящаяся над ней «надзорная» (за пролетающими самолетами) церковная колокольня, где мать работала одной из дежурных с большущим биноклем, я порядком наелся, и меня сразу же потянуло ко сну.
– Марик, Марик! Нам пора идти, – хлопотала баба Маня, собирая нашу скатерть-самобранку. – Поднимись, родной. Дай мне руку…
– Бабуся, а давай сразу вернемся. Зато поспим чуток, – что-то такое я выговорил и, еле-еле поднявшись, уткнулся бабе Мане в зад. Возле него было хорошо, почти как на подушке. Мы тронулись.
Я шел за бабой Маней, словно козленок на привязи, то упирающийся, то тычущийся. Мы снова поднялись к базару, и, на повороте оглянувшись, мутнеющим взглядом я все же увидел, как однорукий мужчина вновь азартно играл с вертушкой колодца. Я вяло помахал ему рукой, но он меня уж не заметил.