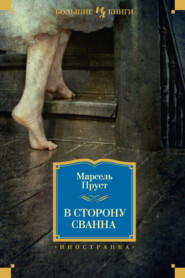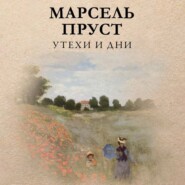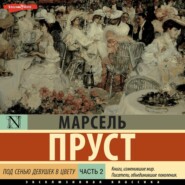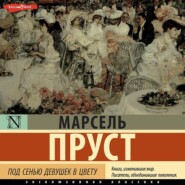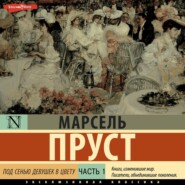По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сторона Германтов
Автор
Жанр
Год написания книги
1922
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С легкостью.
– Я его обожаю!
– Ну, это слишком. А теперь дайте-ка я позову денщика и велю ему заняться нашим ужином. – добавил он.
Я отвернулся, чтобы скрыть слезы.
Несколько раз заходили товарищи Сен-Лу, то один, то другой. Он всем давал от ворот поворот.
– Ну-ка проваливай.
Я просил, чтобы он позволил им остаться.
– Ни в коем случае, они вас уморят скукой: это люди совершенно некультурные, только и умеют говорить, что о скачках, да разве что еще о том, как лошадей чистить. И потом, я не хочу, чтобы они мне испортили драгоценные минуты, о которых я столько мечтал. Поймите, когда я говорю о том, какие ограниченные мои товарищи, я вовсе не имею в виду, что всем военным не хватает ума и кругозора. Ничего подобного. Наш командир – человек замечательный. Он читал курс лекций по военной истории, который построил как систему рассуждений и доказательств, наподобие алгебры. Это даже с эстетической точки зрения прекрасно, тут и индукция, и дедукция, вы бы не остались к этому равнодушны.
– Это тот самый капитан, что разрешил мне остаться здесь?
– Нет, боже упаси, тот, которого вы бог знает за что «обожаете», – дурак неописуемый. В том, что касается солдатского питания, жилья и обмундирования, он незаменим: часами занимается этим с сержантом и закройщиком. Вот его уровень. Кстати, он, как многие другие, глубоко презирает того замечательного офицера, о котором я вам рассказываю. Его все сторонятся, потому что он франкмасон и не ходит к исповеди. Нет, принц де Бородино ни за что не пригласит к себе этого мелкого буржуа. Какая все-таки наглость со стороны человека, чей прадед был скромным арендатором, и сам он, не будь наполеоновских войн, стал бы, по всей видимости, таким же арендатором. Впрочем, он и сам понимает, что в обществе он ни рыба и ни мясо. В Жокей-клуб этот так называемый принц почти не ходит: стесняется, – добавил Робер, который из духа подражания одинаково твердо усвоил и социальные теории своих учителей, и светские предрассудки родных и теперь сам не замечал, как любовь к демократии сочетается в нем с пренебрежением к имперской знати.
Я смотрел на фотографию его тетки и, думая о том, что Сен-Лу – владелец этой фотографии и мог бы ее, вероятно, мне подарить, ценил его еще больше и мечтал оказать ему множество услуг: в обмен на нее я бы ничего не пожалел. Ведь эта фотография была словно еще одна встреча с герцогиней Германтской, и более того, встреча надолго, как будто наши отношения зашли уже так далеко, что она остановилась возле меня в летней шляпке и впервые дала вдоволь полюбоваться припухлостью щеки, линией затылка, уголком бровей (до сих пор они были от меня скрыты, ведь она так поспешно проходила мимо, впечатления были так сбивчивы, воспоминания так мимолетны); если бы я мог наглядеться на все это, и на грудь, и на руки женщины, которую видел всегда только в глухом платье, это было бы для меня сладостным открытием и милостью. Эти линии, которые мне представлялись почти запретными для взгляда, – я мог бы их изучить, как в учебнике единственной геометрии, которая имела для меня цену. Позже, приглядевшись к Роберу, я обнаружил, что он и сам немного напоминает фотографию своей тетки, и тайна этого сходства взволновала меня не меньше, ведь даром что его черты не были заимствованы у нее, но все-таки происхождение у них было общее. Черты герцогини Германтской были в моем представлении пришпилены к Комбре, однако и нос, похожий на ястребиный клюв, и пронзительные глаза пригодились также, чтобы изваять лицо Робера, правда, второй экземпляр оказался тоньше, кожа нежнее, но само его лицо можно было, в сущности, наложить на лицо его тетки. Я с жадностью узнавал в нем характерные черты рода Германтов, сохранившего всю свою особость в огромном мире, не затерявшегося в нем и стоящего особняком в своем небесно-орнитологическом величии: ведь он, этот род, как будто восходил к мифологическим временам и произошел от союза богини с птицей.
Робер, не понимая причин моего умиления, был тем не менее тронут. А я совсем растаял: меня разнежило тепло от камина и шампанское, от которого на лбу у меня выступили капельки пота, а на глазах слезы; шампанское было подано к куропаткам; я вкушал их с восторгом профана, обнаружившего вдруг в каком-то определенном образе жизни, доныне ему неизвестном, нечто, как он думал, несовместимое с этим самым образом жизни (будто вольнодумец, отменно пообедавший в гостях у священника). А проснувшись наутро, я подошел к окну Сен-Лу, очень высокому, из которого было видно далеко вокруг, и с любопытством стал рассматривать мою соседку, сельскую местность, которой накануне не заметил, потому что приехал слишком поздно, когда она уже спала, утонув в темноте. Но хотя проснулась она рано утром, я увидал ее, распахнув окно, так, как видел бы из окна замка или с берега пруда: она была еще вся закутана в мягкий белый утренний наряд, сотканный из тумана, сквозь который я почти ничего не разглядел. Правда, я знал, что не успеют солдаты во дворе почистить лошадей, как она сбросит свое одеяние. Пока что мне виден был только жалкий холм, уже освещенный солнцем, выгибавший худую и шероховатую спину напротив казармы. Сквозь ажурную занавеску изморози я, не отрывая взгляда, следил за этим незнакомцем, который впервые смотрел на меня. Но позже, когда я привык приходить в казарму, я все время помнил, что холм здесь, а значит, даже если я его не вижу, он реальнее, чем бальбекский отель, чем наш парижский дом, которые как будто умерли для меня, поскольку их здесь не было и я не очень-то верил в их существованье; и незаметным для меня образом отраженная форма этого холма всегда накладывалась на все до одного мои донсьерские впечатления, а если говорить о первом утре – на приятное ощущение тепла, исходившее от шоколада, приготовленного денщиком Сен-Лу в этой уютной комнате, которая оказалась чем-то вроде оптического центра линзы, направленной на холм (мысль о том, чтобы не просто смотреть, а прогуляться к нему, представлялась неосуществимой из-за этого самого тумана). Туман, пропитавший очертания холма, связавшийся со вкусом шоколада и со всей тканью моих тогдашних мыслей, оросил все мои мысли того времени, даром что я думал о нем меньше всего на свете; так с бальбекскими впечатлениями осталось у меня связано немеркнущее цельное золото, а комбрейские помнились мне словно написанные гризайлью благодаря соседству наружных лестниц из черноватого песчаника. Впрочем, поздним утром туман рассеялся, солнце для начала пустило в него безо всякого успеха несколько стрел, изукрасивших его бриллиантами, но потом сломило его сопротивление. Холм подставил свой серый круп лучам, а они спустя час, когда я вышел в город, уже заражали восторгом красноту листьев, красноту и синеву предвыборных плакатов на стенах, и меня самого подхватил этот же восторг, погнал по улице, заставил петь, и я с трудом удержался от того, чтобы не запрыгать от радости.
Но на второй день мне уже пришлось спать в гостинице. А я знал заранее, что на меня неизбежно навалится тоска. Она была как неуловимый запах, с рождения пропитывавший мне каждую новую комнату, то есть вообще каждую комнату: ведь в той, где я обычно жил, меня как будто и не было: мои мысли блуждали в другом месте, а вместо себя оставляли только привычку. Но этой менее чувствительной служанке я не мог поручить заниматься моими делами на новом месте: я приехал сюда до нее, один, мне предстояло здесь как-то познакомить со всей обстановкой мое «я», с которым я встречался редко, с перерывами в несколько лет, но каждый раз это было все то же «я», не повзрослевшее со времен Комбре, с первого приезда в Бальбек, безутешно плакавшее на краешке разобранного чемодана.
Но я заблуждался. Я не успевал грустить, потому что ни на минуту не оставался один. В старинном дворце сохранился некий излишек роскоши, бесполезный в современной гостинице; оторвавшись от всякого практического применения, он жил своей праздной жизнью: коридоры, что бесцельно кружили, пересекаясь как попало и замыкаясь в самих себе; вестибюли, длинные, как коридоры, и отделанные, как гостиные; гостиные, казавшиеся не столько частью дома, сколько его обитательницами, которых не пускали ни в один номер, а потому они бродили вокруг моего и тут же явились предложить мне свое общество – досужие, но не беспокойные соседки, привидения низшего порядка, явившиеся из прошлого, которым дозволено было бесшумно маяться у дверей номеров, занятых жильцами, и каждый раз, когда я натыкался на них по пути, они вели себя с молчаливой предупредительностью. В сущности, понятие жилья, места, где протекает сейчас наше существованье, где мы просто укрываемся от холода и от посторонних людей, было совершенно неприложимо к этому дому, совокупности комнат, реальных, как сообщество жильцов, пускай бесшумных, но все-таки вам приходится с ними встречаться, или уклоняться от встреч, или приветствовать, возвращаясь домой. Я смотрел с невольным почтением на большую гостиную, которая с XVIII века усвоила привычку растягиваться между своими потускневшими от времени золочеными пилястрами, под облаками расписного потолка, и ее не хотелось беспокоить. Ее удивленно обегали бесчисленные комнаты и комнатки поменьше, вызывавшие во мне простое и дружелюбное любопытство; они ничуть не заботились о симметрии и в беспорядке разбегались во все стороны вплоть до самого сада, куда с легкостью спускались по трем выщербленным ступенькам.
Если я хотел незаметно войти или выйти, избежав лифта или главной лестницы, к моим услугам была лестничка поменьше, внутренняя, ею уже не пользовались: она подставляла мне ступеньки, так ловко пригнанные одна к другой, что казалось, в их градации была соблюдена идеальная пропорция, как в красках, вкусах или ароматах, где именно эта градация так часто возбуждает в нас особую чувственность. Но чтобы испытать это ощущение, спускаясь и поднимаясь по ступенькам, нужно было приехать сюда; так когда-то, лишь побывав на высокогорном курорте, я обнаружил, что от обычного дыхания можно получать чувственное наслаждение. Когда я впервые коснулся ногами этих ступенек, я ощутил такую свободу от усилий, какую дают только вещи, которыми мы долго пользовались: они были мне хорошо знакомы, хоть я никогда еще по ним не ходил, словно я уже предугадывал в них блаженство привычности, которое впиталось, вросло в них, заложенное прежними владельцами, ходившими по ним каждый день, но ко мне еще не пристало и, по мере того как я буду с ними осваиваться, могло только ослабеть. Я открыл спальню, двойные двери затворились за мной, портьера впустила тишину, опьянившую меня ощущением могущества; мраморный камин, украшенный медной литой решеткой, о котором напрасно было бы думать, что он годится только в образцы искусства времен Директории, овеял меня своим огнем, а коротконогое кресло помогло согреться со всеми удобствами, словно я сидел на ковре. Стены стискивали комнату в объятиях, отделяли от остального мира, а чтобы в нее вошло и уместилось все, что придавало ей завершенность, даже расступились перед книжным шкафом и предусмотрели углубление в том месте, где стояла кровать, по обе стороны которой колонны слегка приподымали потолок алькова. А в глубине спальня продолжалась двумя туалетными комнатами во всю ее ширину; на стене второй из них, чтобы напитать ароматом одинокую задумчивость, за которой ходил туда постоялец, висели излучавшие негу четки из семян ириса; и если, удаляясь в это последнее убежище, я оставлял двери открытыми, они не просто его утраивали, не просто радовали меня наряду с сосредоточенностью еще и созерцанием пространства, но и прибавляли к удовольствию от уединения, которого никто и ничто не может нарушить, чувство свободы. Этот приют выходил во двор, прекрасный одинокий двор, который я тоже рад был заполучить в соседи, когда на другое утро его обнаружил: в нем, запертом между высокими стенами, почти лишенными окон, росло всего два пожелтевших деревца, которым все же удавалось придать чистому небу сиреневый оттенок.
Перед сном мне захотелось выйти из комнаты и осмотреться в моих феерических владениях. Я прошелся по длинной галерее, которая по очереди преподносила мне все, что имелось у нее в запасе на случай, если мне не захочется спать: кресло в уголке, спинет, синюю фарфоровую вазу на консоли, полную цинерарий, и, в старинной раме, призрак дамы былых времен, с напудренными волосами, перевитыми голубыми цветами, и с букетом гвоздик в руке. В конце галерея завершалась сплошной стеной, без единой двери; эта стена простодушно сказала мне: «Теперь иди назад, но ты же сам видишь, здесь ты дома», а мягкий ковер, чтобы не остаться в долгу, добавил, что если ночью я не засну, то спокойно могу прийти сюда босиком, а окна без ставней, выходившие в поля, заверили меня, что они все равно не собираются спать и я могу приходить спокойно, когда захочу, не опасаясь никого разбудить. А за драпировкой я застиг только маленькую комнатенку, ей некуда было убежать, потому что дальше была стена, и вот она сконфуженно пряталась там, испуганно глядя на меня своим круглым окошком, синим от лунного света. Я лег, но перина, миниатюрные колонны и камин притянули мое внимание к тем меткам, которых не было в Париже, и помешали мне соскользнуть в область обычных грез. Именно в такие минуты наше внимание начинает стягиваться вокруг сна и влиять на него, видоизменять, соотносить с каким-нибудь рядом воспоминаний, и образы, наполнившие мои сновидения в ту первую ночь, пришли совсем из другой памяти, чем та, из которой обычно черпал их мой сон. Попытайся я во сне вновь нырнуть в привычную память, тогда и кровати, к которой я еще не успел приспособиться, и осторожности, требовавшейся от меня всякий раз, когда я ворочался в постели, – всего этого мне бы хватило, чтобы выровнять новое течение моих сновидений или хотя бы не отстать от него. Ведь сон все равно что восприятие внешнего мира. Стоит нам изменить своим привычкам – и вот он уже окрашен поэзией; стоит нам нечаянно уснуть прямо на кровати во время раздевания – и вот уже изменились масштабы сна, и мы почувствовали его красоту. Просыпаешься, видишь на часах четыре; это четыре утра, а не пополудни, но нам представляется, что прошел уже целый день: сон продолжался всего несколько минут, причем мы вовсе и не собирались спать, но нам чудится, что он снизошел к нам с небес в силу некоего божественного права, огромный и круглый, как золотая императорская держава. По утрам, когда я с досадой думал, что дедушка уже готов и меня ждут, чтобы идти всем вместе в сторону Мезеглиза, меня будил полковой духовой оркестр, каждый день проходивший у меня под окнами. Но два-три раза – говорю это потому, что нельзя правдиво описать жизнь людей, если не омыть ее сном, в который она погружается и который ночь за ночью обтекает ее, как море обтекает полуостров, – так вот, два-три раза мой сон оказался настолько устойчивым, что вынес натиск музыки и я ничего не слышал. В другие же дни он рано или поздно поддавался, но сознание мое, словно орган, благодаря предварительному обезболиванию сперва вовсе не чувствующий прижигания, а потом принимающий его за легкий ожог, еще пряталось в бархатистой оболочке сна; острые иголки флейт казались ему нежными касаниями, ласкали, словно неразборчивый и свежий утренний щебет; так тишина превращалась в музыку, но после краткого перерыва опять возвращалась в мой сон даже раньше, чем успевали промаршировать драгуны, и похищала у меня последние цветки из бравурного букета звуков. И сфера моего сознания, задетая этими ослепительными стебельками, была так ограничена, сон настолько вводил ее в заблуждение, что позже, когда Сен-Лу меня спрашивал, слышал ли я музыку, я уже сомневался, не вообразил ли я себе опять звук оркестра, как когда-то по утрам, когда слышал малейший стук на городских мостовых. Может быть, я слышал его только во сне, боясь проснуться, или наоборот, не проснуться и пропустить шествие солдат. В самом деле, часто, когда я спал, а сам, наоборот, думал, что меня разбудил шум, я потом целый час воображал, что бодрствую, хотя на самом деле был погружен в дрему и на экране своего сна разыгрывал сам для себя разные спектакли, где исполнителями были легкие тени, причем мне чудилось, будто я присутствую на этих спектаклях, хотя это было невозможно: ведь я спал. Бывает в самом деле: засыпаешь, и вдруг оказывается, что все, чем ты занимался днем, произошло во сне – будто тебя столкнули, сонного, на другую дорогу, не ту, по которой бы ты прошел наяву. Та же самая история сворачивает в сторону и кончается иначе. Вопреки всему, мир, в котором мы живем, пока спим, настолько другой, что те, кому трудно засыпать, пытаются прежде всего выбраться из этого, нашего. Часами они, зажмурившись, безнадежно прокручивают в голове те же мысли, над которыми бились бы и с открытыми глазами, но затем приободряются, спохватившись, что рассуждение, которым была отягощена предыдущая минута, явно противоречит законам логики и простой очевидности, и этот короткий «провал» означает, что перед ними приоткрылась дверь, через которую им, пожалуй, удастся увильнуть от восприятия реальности, отойти от нее подальше и немного от нее отдохнуть, а это позволит им более или менее крепко уснуть. Но если удалось отвернуться от реальности, это уже важный шаг: мы достигли первых пещер, где «самовнушенья», как колдуньи, стряпают адское варево, воображаемые хвори или обострения нервных болезней, и караулят момент, когда начнется наконец кризис, нараставший, пока мы спали и ничего не помнили, начнется и прервет наш сон.
Неподалеку раскинулся потаенный сад, где, подобно неведомым цветам, произрастают самые разные сны: сны, происходящие от дурмана, от индийской конопли, от множества эфирных эссенций, сон от белладонны, опиумный, валериановый сон, цветы, которые не размыкают своих лепестков, пока в один прекрасный день к ним не придет незнакомец, которому было суждено явиться, – и тогда он притронется к ним, и они раскроются, и долго будут испускать аромат своих особенных снов для восхищенного и изумленного человека. В глубине сада есть монастырский пансион, из его открытых окон слышно, как ученицы повторяют уроки, выученные перед сном: эти уроки они будут знать только проснувшись; но предвестьем их пробуждения тикает внутренний будильник: его так хорошо завела наша тревога, что, когда хозяйка придет сказать, что уже семь часов, мы будем готовы. Из окон этой спальни видны сны, в ней беспрестанно трудится забвение любовных горестей; иногда его работу прерывает и разрушает какой-нибудь кошмар, полный смутной памяти, но забвение тут же вновь принимается за дело; по мрачным стенам спальни висят, даже когда мы проснемся, воспоминания о снах, но такие затемненные, что часто мы замечаем их впервые только в разгар дня, когда невзначай на них упадет луч в чем-то сходной мысли; иные из этих снов были ясны и гармоничны, пока мы спали, а потом стали так неузнаваемы, что, не сумев их распознать, мы только и можем, что поспешно предать их земле, как слишком быстро разложившихся мертвецов или как вещи, настолько пораженные порчей, что вот-вот рассыплются в пыль, так что самый искусный реставратор не сможет восстановить их форму и что-нибудь с ними сделать.
Возле ограды есть каменоломня: глубокие сны приходят сюда искать вещества, которые пронизывают голову спящего такими твердыми субстанциями, что невозможно его разбудить даже самым солнечным утром, пока его собственная воля не примется наносить удар за ударом секирой, как молодой Зигфрид[28 - …молодой Зигфрид. – Имеется в виду герой оперы Рихарда Вагнера «Зигфрид» из цикла «Кольцо Нибелунга». Юный Зигфрид разбивает один за другим все мечи, которые выковал ему воспитатель, а затем сам себе кует меч настолько прочный, что его удар рассекает надвое наковальню.]. По ту сторону есть еще и кошмары; врачи глупейшим образом уверяют, будто они изматывают больше, чем бессонница, хотя на самом деле они, наоборот, позволяют мыслителю ускользнуть от забот; кошмары разворачивают перед нами причудливые альбомы, там наши покойные родители – с ними приключился тяжелый несчастный случай, но есть надежда на скорое исцеление. А до тех пор мы держим эти кошмары в маленькой крысиной клетке, они меньше белых мышей и покрыты огромными красными прыщами, из которых торчат перья, и обращаются к нам с речами в духе Цицерона. Рядом с альбомом вращающийся диск будильника, из-за него на нас нападает мгновенный приступ тоски оттого, что нам сию минуту нужно вернуться в дом, который уже пятьдесят лет как разрушен, и по мере того как удаляется сон, изображение дома сменяется другим, третьим, четвертым, пока, наконец, диск не остановится, и тогда нам представится то, что мы увидим, когда откроем глаза.
Иногда я ничего не слышал, погруженный в один из тех снов, куда проваливаешься, как в нору, а потом радуешься, когда выберешься оттуда, отяжелевший, перекормленный, переваривая все то, что тебе принесли проворные вегетативные силы, подобные нимфам, вскормившим Геракла, – пока мы спали, они хлопотали с удвоенной силой.
Такой сон называют свинцовым; пробудившись от него, кажется, и сам на несколько мгновений превращаешься в простую свинцовую фигурку. Теперь ты никто. Ищешь ускользнувшую мысль, ищешь сам себя, как потерянную вещь, – но как же удается в конце концов обрести собственное я, свое, а не чужое? Если задуматься, почему в нас воплощается та личность, что была раньше, а не какая-нибудь другая? Непонятно, чем продиктован наш выбор и почему из миллиона людей, которыми мы могли бы оказаться, мы цепляемся именно за того, кем были накануне? Что направляет нас после того, как произошел настоящий разрыв (например, полное погружение в сон или сновидения, не имеющие с нами ничего общего)? Это была настоящая смерть, как будто сердце перестало биться, и только ритмичные движения языка нас оживляют. Вероятно, комната, даже если мы видели ее всего один раз, пробуждает в нас воспоминания, за которые цепляются другие, более ранние. Или мы сознаем какие-то из них, дремавшие в нас? Воскрешение, или пробуждение ото сна, этого благодетельного приступа умопомешательства, похоже, в сущности, на то, что происходит, когда мы припоминаем чье-нибудь имя, или стихотворную строчку, или забытую песенку. И быть может, воскрешение души после смерти можно представить себе, как проявление памяти.
Я выныривал из сна; меня влекло залитое солнцем небо, но удерживала свежесть последних утр, ярких и холодных, с которых начинается зима; я смотрел на деревья, где листья были обозначены только одним-двумя золотыми или розовыми мазками, и казалось, будто они висят в воздухе, вплетенные в невидимую ткань; я поднимал голову, вытягивал шею, а тело еще наполовину пряталось под одеялом; как хризалида на пороге метаморфозы, я состоял из двух разных существ, и каждому из них требовалась своя среда: взгляду моему хватало красок без тепла, грудь, наоборот, заботилась не о красках, а о тепле. Я вставал не раньше, чем разведут огонь, и смотрел на прозрачную, нежную картину сиреневого и золотистого утра, искусственно добавляя ему недостающую часть тепла, для чего помешивал угли в камине, пылавшем и дымившем, как хорошая трубка, и огонь, не хуже трубки, дарил мне наслаждение, одновременно и грубое, потому что основывалось на физическом ощущении, и утонченное, потому что за ним клубились, бледнея, чисто зрительные образы. На обоях в моей туалетной комнате по кричаще-красному фону были рассыпаны черные и белые цветы: я боялся, что мне не так легко будет к этому приспособиться. Но на самом деле я просто видел в них нечто новое, они приглашали не к ссоре, а к общению, придавали новый оттенок певучей радости моему пробуждению; по их настоянию в сердце у меня расцветало что-то вроде маков, и мир представлялся совсем иным, чем в Париже, когда я видел его из этого дома, похожего на веселую ширму, обращенного не в ту сторону, что родительский дом, и овеянного чистым воздухом. В иные дни меня точило желание увидеть бабушку или беспокойство о том, как она себя чувствует; а не то я вспоминал о каком-нибудь неоконченном деле, оставленном в Париже; иногда всплывало в памяти какое-нибудь затруднение, которым даже здесь я ухитрялся себя терзать. То та, то другая забота мешала мне спать, и я оказывался бессилен перед печалью, мгновенно заполнявшей все мое существо. Тогда я посылал из гостиницы кого-нибудь в казарму с запиской для Сен-Лу: я писал ему, что, если это возможно чисто практически (я знал, что это было очень трудно), я был бы рад, если бы он ко мне заглянул. Час спустя он был уже здесь, и, слыша колокольчик у дверей, я чувствовал, как тревоги меня отпускают. Я знал, что они сильнее меня, но он сильнее, чем они, и внимание мое переключалось с них на него, от которого все зависело. Он входил и приносил с собой свежий воздух, окружавший его с утра, пока он успевал переделать множество дел; вокруг него устанавливалась живительная среда, такая непохожая на атмосферу моей комнаты, и я тут же естественным образом к ней приспосабливался.
– Надеюсь, вы не сердитесь, что я вас побеспокоил; мне как-то нехорошо на душе, вы, наверно, и сами догадались.
– Да нет, я просто подумал, что вам хочется меня увидеть, и я решил, что с вашей стороны это очень мило. Я страшно рад, что вы меня позвали. Так что же? дела так себе? Как вам услужить?
Он выслушивал мои объяснения, отвечал точно и ясно, но еще до того, как он начинал говорить, я под его влиянием становился похож на него; по сравнению с важными заботами, ради которых он всегда оставался таким проворным, бодрым, сосредоточенным, мои печали, еще недавно терзавшие меня каждую минуту, представлялись мне, как и ему, ничтожными; я был как человек, который несколько дней кряду не может открыть глаза, и вот он зовет врача, и тот ловко и нежно заворачивает ему веко, вынимает песчинку и показывает ее больному, избавляя его сразу и от недомогания, и от беспокойства. Все мои тревоги разрешались телеграммой, которую Сен-Лу брался отправить. Моя жизнь сразу так менялась, казалась мне такой прекрасной, я чувствовал в себе столько сил, что мне хотелось действия.
– Что вы сейчас будете делать? – спрашивал я у Сен-Лу.
– Расстанусь с вами: через три четверти часа у нас учения, мне нужно там быть.
– Вам было трудно ко мне вырваться?
– Нет, ничуть, капитан был очень любезен, он сказал, что, раз это ради вас, я непременно должен поехать, но мне не хотелось бы, чтобы он думал, что я этим злоупотребляю.
– А если я быстро соберусь и сам поеду туда, где у вас маневры? Мне это было бы очень интересно, а в перерывах нам бы, может быть, удалось поговорить.
– Не советую: вы не спали, вы вбили себе в голову какую-то чепуху, которая, уверяю вас, не стоит внимания, но теперь она вас больше не беспокоит, так что лягте поудобнее и поспите, это очень поможет восстановить солевой баланс ваших нервных клеток; только не засните слишком быстро, а то скоро у вас под окнами пройдет наш чертов оркестр; после этого все будет тихо, а увидимся мы вечером, за ужином.
Но вскоре я стал часто выбираться на полковые учения; я заинтересовался теорией военного дела, о которой рассуждали за ужином друзья Сен-Лу, и все дни был одержим желанием присмотреться вблизи к их командирам, самым разным; так человек, поглощенный главным образом изучением музыки, живущий концертами, с удовольствием ходит в кафе, где можно соприкоснуться с жизнью оркестрантов. Чтобы попасть туда, где проходили маневры, мне нужно было совершать долгие пешие переходы. Вечером, после ужина, я иной раз не мог высидеть прямо, словно при головокружении. На другой день я замечал, что не слышал оркестра, как раньше, в Бальбеке, в те вечера, когда Сен-Лу возил меня ужинать в Ривбель, не слышал концерт на пляже. А когда я хотел встать, на меня тут же нападало восхитительное изнеможение, сочленения моих мышц и сосудов от усталости делались чувствительными и словно привязывали меня к невидимому полу глубоко внизу. Я был полон сил, чувствовал, что буду жить долго, а все потому, что возвращался к благодетельной усталости комбрейского детства, наступавшей на другой день после наших прогулок в сторону замка Германт. Поэты уверяют, что, когда входим в дом или сад, где жили в юности, мы на миг становимся такими, как были когда-то. Паломничество в эти места – дело рискованное, оно может увенчаться как успехом, так и разочарованием. Уж лучше искать в себе самих те места, которые связаны для нас с теми или другими годами нашей жизни. В известной мере для этого годится сильная усталость, а после нее хороший ночной отдых. Они хотя бы приводят нас в самые подземные галереи сна, где в случае, если внутренний монолог никак не унимается, его не озаряет больше ни один отблеск минувшего дня, ни одна вспышка памяти, а еще они так добросовестно переворачивают почву и туф нашего тела, что, по мере того как наши мышцы уходят вглубь, изгибаются во все стороны, тянутся к новой жизни, на поверхность выступает сад, в котором мы играли детьми. Чтобы вновь его увидеть, не нужно путешествовать: чтобы его найти, нужно спуститься. То, чем была покрыта земля, уже не на ней, а под ней; чтобы посетить мертвый город, мало экскурсии – тут нужны раскопки. Но мы увидим, что еще вернее, чем все эти материальные перемещения, с гораздо большей и изощренной точностью, с помощью куда более легкого, бесплотного, головокружительного, непогрешимого, бессмертного полета приводят нас к прошлому некоторые беглые и случайные впечатления.
Иногда я уставал еще сильнее, когда по нескольку дней смотрел на маневры, не имея возможности прилечь. Каким блаженством было потом возвращение в гостиницу! Когда я вновь оказывался в постели, мне казалось, что я наконец ускользнул от тех чародеев и колдунов, что населяют излюбленные «романы» нашего XVII века. Сон и неторопливое пробуждение наутро превращались в сущую волшебную сказку. Это было божественно, но, надо думать, еще и шло мне на пользу. Я говорил себе, что от самых тяжких страданий есть убежище и уж что-что, а покой и отдых можно обрести всегда. Эти мысли заводили меня довольно далеко.
В дни, свободные от учений, если Сен-Лу не мог отлучиться из казармы, я часто ходил его проведать. Идти было далеко; нужно было выйти из города, перейти через виадук, по обе стороны которого мне открывались необъятные дали. На возвышенности всегда веял сильный ветер, продувавший насквозь здания, с трех сторон окружавшие двор, и они постоянно гудели, как пещера ветров. Пока Робер был занят службой, я ждал у дверей его комнаты или в столовой, болтая с его друзьями, с которыми он меня познакомил (а потом уже я приходил повидаться с ними даже когда знал, что его нет), и видел за окном, на сотню метров подо мной, голые поля, где, однако, то тут, то там виднелись уже зеленые стрелы, блестящие и прозрачные, словно эмаль: это были новые всходы, часто еще мокрые от дождя и освещенные солнцем; иногда я слышал, как друзья Робера говорили о нем, и очень скоро понял, как все его любят и почитают. Добровольцы, принадлежавшие к другим эскадронам, молодые богатые буржуа, видевшие аристократическое общество только извне и никогда в него не проникавшие, восхищались не только характером Сен-Лу; их симпатия подогревалась тем блеском, которым, по их представлениям, был окружен этот молодой человек: часто, когда все уезжали в Париж в увольнительную, они видели, как он ужинал в кафе де ла Пэ в обществе герцога д’Юзеса и принца Орлеанского[29 - …в обществе герцога д’Юзеса и принца Орлеанского. – Речь идет о реальных людях: правнуке Луи-Филиппа, Анри-Филиппе-Мари, принце Орлеанском (1867–1901), и Жаке де Крассоле, герцоге д’Юзес (1868–1894), часто бывавших в кафе де ла Пэ, на бульваре Капуцинок, 12.]. И поэтому с его красивым лицом, с его развинченной походкой, небрежной манерой отдавать честь, с вечным парением его монокля, с причудливостью его слишком высоких кепи, его брюк из слишком тонкого, слишком розового сукна они связывали понятие «шика», которого, по их убеждению, лишены были самые элегантные офицеры полка, даже величественный капитан, тот, кому я был обязан разрешением ночевать в казарме: по сравнению с Сен-Лу он казался слишком напыщенным и чуть не вульгарным.
Кто-то говорил, что капитан купил новую лошадь. «Пускай покупает каких угодно лошадей. В воскресенье утром я встретил в аллее Акаций Сен-Лу, и с каким же шиком он ездит верхом!» – отвечал ему собеседник со знанием дела, ведь эти молодые люди принадлежали к тому классу, где пускай не общаются с высшим светом напрямую, но благодаря деньгам и досугу не отличаются от аристократии во всем, что касается моды и что можно купить за деньги. Кое в чем, например в одежде, они разбирались даже лучше, выглядели безупречнее, чем Сен-Лу с его вольной и небрежной элегантностью, которая так нравилась моей бабушке. Каким переживанием было для этих сыновей богатых банкиров и биржевых маклеров поехать после театра поесть устриц и увидеть за соседним столиком сержанта Сен-Лу! И сколько рассказов потом звучало в казарме в понедельник после увольнительной: кто-нибудь, из того же эскадрона, что Сен-Лу, встретился с ним накануне, и тот «очень любезно» с ним поздоровался, а другой, хоть и из другого эскадрона, решил, что Сен-Лу тем не менее его узнал, потому что, кажется, два или три раза навел на него свой монокль.
– А мой брат заметил его в Кафе де ла Пэ, – говорил третий, который весь день провел у своей любовницы. – Говорят, что фрак на нем был слишком просторный и сидел на нем кое-как.
– А в каком он был жилете?
– Не в белом, а в сиреневом, расшитом какими-то пальмами, с ума сойти!
Бывалые солдаты (люди из народа, понятия не имевшие о Жокей-клубе[30 - Жокей-клуб во Франции был основан в 1834 г. по образцу английского; это был самый закрытый клуб, доступный лишь избранным.], а просто зачислявшие Сен-Лу в категорию очень богатых сержантов, к которым они относили всех, в том числе и разорившихся, чьи доходы или долги исчислялись крупными суммами и кто проявлял щедрость к солдатам) не видели ничего аристократического ни в походке, ни в монокле, ни в брюках, ни в кепи Сен-Лу, но интересовались ими не меньше и тоже усматривали в них особый смысл. В этих особенностях они видели характер, стиль, которые раз и навсегда приписали самому популярному сержанту в полку, видели манеры, присущие только ему и никому больше, видели презрение к тому, что подумают начальники, причем все это казалось им естественным следствием того, что он так хорошо относился к солдатам. Утренний кофе в общей спальне или послеобеденный отдых на койке казались слаще, когда кто-нибудь из бывалых солдат на радость разнеженному и жаждущему подробностей отделению расписывал кепи, принадлежавшее Сен-Лу.
– Высокое, как мой вещмешок.
– Ладно, старина, не заливай, быть не может, чтобы такое высокое, как твой вещмешок, – перебивал какой-нибудь юный лиценциат филологии, щеголявший подобными словечками, чтобы его не принимали за новобранца, влезая в спор, чтобы услышать подтверждение факту, который его восхищал.
– Ах, не такое высокое, как мой вещмешок? Ты его что, измерял? Говорю тебе, полковник так таращился на нашего сержанта, будто хотел на гауптвахту отправить. А Сен-Лу, молодец, и в ус себе не дует: ходит туда-сюда, кивает, голову вскидывает и моноклем поигрывает в придачу. Посмотрим, что теперь капитан скажет. Может, и ничего не скажет, да только уж точно не обрадуется. А в самом кепи ничего такого нет особенного. Говорят, у него дома, в городе, штук тридцать таких.
– Откуда ты это взял, старина? Чертов капрал тебе сказал, что ли? – дотошно допытывался юный лиценциат, демонстрируя владение новыми грамматическими формами, недавно усвоенными, так что теперь ему было лестно уснащать ими свою речь.
– Взял откуда? Да его же денщик мне сказал, черт побери.
– Да уж, вот кому удача привалила.
– Еще бы! Деньжат у него побольше, чем у меня, уж это точно. И еще сержант ему все свои вещи отдает, и то, и это. Он в столовой не наедался. Приходит туда наш Сен-Лу, кашевар своими ушами слышал: «Хочу, чтобы его кормили как следует, сколько надо, столько и заплачу».
И, стараясь искупить энергичными интонациями незначительность слов, ветеран передразнивал Сен-Лу, пускай не слишком умело, но все были в восторге.
Я уходил из казарм, до захода солнца немного гулял, а потом отправлялся к себе в гостиницу, где часа два отдыхал и читал, дожидаясь, когда настанет время идти ужинать с Сен-Лу в другую гостиницу, где жили он и его друзья. На площади вечер водружал на остроконечные крыши замка розовые облачка, подбирая их под цвет кирпичей и для вящей гармонии подсвечивая кирпичи отблеском заката. Мои нервы омывал такой мощный поток жизни, что никакими движениями мне его было не исчерпать; каждый мой шаг по булыжнику мостовой пружинил, словно на каблуках у меня были крылышки Меркурия. В одном фонтане плескался алый цвет, в другом вода уже стала опаловой от лунного луча. Между фонтанами играли дети, кричали, носились по кругу, повинуясь неписаному распорядку дня, как стрижи или летучие мыши. Старинные дворцы и оранжерея Людовика рядом с гостиницей, в которых теперь разместились Сберегательный банк и армейский корпус, были уже подсвечены изнутри бледными золотистыми газовыми лампами, которые в еще светлом воздухе очень шли этим высоким и широким окнам XVIII века, где не успели погаснуть последние отблески заката: так лицу, пышущему румянцем, идет светлое перламутровое ожерелье; тут наконец я решался вернуться к моему камину и лампе, которая одна во всей гостинице боролась с наступающими сумерками; ради нее я шел к себе в номер еще до наступления полной темноты – шел с радостью, словно мне предстояло полакомиться чем-то вкусным. И в комнате меня захлестывала та же полнота ощущений, что на улице. Она выгибала видимую поверхность вещей, кажущихся нам обычно плоскими и пустыми, желтые языки пламени, грубую синюю бумагу небес, которую вечер, как школьник, изрисовал розовыми штопорообразными каракулями, скатерть с необычным узором на круглом столе, где ждали меня стопка линованой бумаги и чернильница рядом с романом Берготта, так что и потом мне всегда казалось, будто в них щедро заложено какое-то особое существованье и я сумел бы его извлечь, если повезет. Я с радостью думал о казарме, из которой только что ушел, о флюгере, вертевшемся по воле ветра. Для меня, как для ныряльщика, что дышит через трубку, выступающую над поверхностью воды, это была целительная связь с жизнью, с вольным воздухом, и связали меня с ними эта казарма, и эта вышка обсерватории, и поля вокруг нее, исчерченные зелеными эмалевыми каналами; я мечтал о драгоценной привилегии – и пускай бы она сохранялась за мной как можно дольше – приходить, когда захочу, под эти навесы и в эти казарменные здания, приходить и твердо знать, что встречу радушный прием.
В семь я одевался и опять уходил; теперь я направлялся в гостиницу, где жил и столовался Сен-Лу. Мне нравилось идти туда пешком. Было совсем темно, а на третий день с приближением ночи стал подниматься ледяной ветер, вероятно, предвещавший снег. Я шагал и, казалось бы, должен был непрестанно думать о герцогине Германтской; я и приехал к Роберу в гарнизон только для того, чтобы попробовать как-то к ней приблизиться. Но воспоминания и горести не стоят на месте. В иные дни они уходят так далеко, что мы едва их различаем и думаем, что они нас покинули. Тогда мы начинаем обращать внимание на что-нибудь другое. И улицы этого городка еще не были для меня просто средством, чтобы попасть из одного места в другое, как дома, где все нам привычно. Жизнь обитателей этого незнакомого мира представлялась мне чудесной, и часто я застывал надолго в темноте перед какими-нибудь освещенными окнами, впиваясь взглядом в правдивые и таинственные сцены существованья, в которое не мог проникнуть. Иной раз гений огня показывал мне картину в багровых тонах, а на ней таверну, которую держал торговец каштанами; там два сержанта, положив портупеи на стулья, играли в карты, не подозревая, что выхвачены из тьмы по воле волшебника, словно актеры в театре, и явлены такими, какие они есть в эту самую минуту, глазам невидимого для них прохожего, остановившегося у окна. А в тесной лавке старьевщика сгоревшая до половины свеча, отбрасывая красный отблеск на какую-нибудь гравюру, превращала ее в сангину; свет массивной лампы, борясь с темнотой, золотил кусок кожи или осыпал сверкающими блестками кинжал на картинах, которые были всего-навсего скверными копиями, и драгоценная позолота была словно патина прошлого или лак великого художника, а убогая конура, где все сплошная подделка и мазня, преображалась в бесценного Рембрандта. Иногда мой взгляд забирался выше, и я заглядывал в какую-нибудь просторную старинную квартиру, если окна ее не были закрыты ставнями; там мужчины и женщины вели жизнь амфибий, каждый вечер приспосабливались к существованью в другой стихии, не той, что днем; они медленно плавали в жирной жидкости, которая с наступлением темноты беспрестанно сочилась из резервуаров ламп и затопляла комнату до самого верха каменных и стеклянных стен, и, перемещаясь в ней, распространяли вокруг себя маслянистые золотые водовороты. Я шел дальше, и часто сила моего желания останавливала меня в темном переулке перед собором, как когда-то по дороге в Мезеглиз; мне казалось, что сейчас из тьмы возникнет женщина и насытит это желание; если вдруг я чувствовал, что во мраке мимо меня скользнуло женское платье, жесточайшее наслаждение не давало мне поверить, что его прикосновение было случайно и я пытался обнять перепуганную незнакомку. В этом готическом переулке было для меня нечто столь реальное, что, если бы я сумел «подцепить» женщину и овладеть ею, ничто бы не могло меня разубедить в том, что свело нас с ней античное сладострастие, даже если бы она оказалась обыкновенной девкой, торчавшей там каждый вечер: зима, мое одиночество, темнота и средневековье овеяли бы ее тайной. Я размышлял о будущем: мне казалось, что забыть герцогиню Германтскую было бы ужасно, но, в сущности, благоразумно, и впервые мне пришло в голову, что это возможно и даже, пожалуй, легко. В полной тишине квартала до меня доносились слова и смех полупьяных прохожих, возвращавшихся по домам. Я останавливался на них поглядеть, я смотрел в ту сторону, откуда донесся шум. Но ждать приходилось долго: меня окружала такая плотная тишина, что даже далекие звуки раздавались в ней очень четко и громко. И наконец гуляки проходили, но не мимо меня, как я надеялся, а где-то далеко позади. Не то виноваты в этой акустической ошибке были перекрестки и расположение домов, отражавших звук, не то в незнакомом месте нам вообще трудно понять, откуда исходит шум, но и направление, и расстояние я то и дело определял неправильно.
Ветер усиливался. Была в нем шероховатость, взъерошенность, предвещавшая снегопад; я выходил на главную улицу и вскакивал в трамвайчик; офицер на площадке отвечал не глядя на приветствия проходивших по тротуару неуклюжих солдат, чьи лица раскрасил мороз; казалось, из-за резкого перехода от осени к началу зимы городок переместился дальше на север, и эти раскрасневшиеся лица напоминали румяные физиономии брейгелевских крестьян, веселых, подвыпивших и замерзших.
А в гостиницу, где я встречался с Сен-Лу и его друзьями, начинавшиеся праздники привлекли много народу, местных и издалека; на двор, который мне нужно было пересечь, выходили рдеющие кухни, там крутились на вертелах цыплята, на решетках жарилась свинина и живые омары доходили на «адском огне» (так это называлось у хозяина гостиницы), а в самом дворе толклась толпа, достойная «Переписи в Вифлееме» старых фламандских мастеров[31 - …толпа, достойная «Переписи в Вифлееме» старых фламандских мастеров… – Имеется в виду в первую очередь «Перепись в Вифлееме» Питера Брейгеля-старшего (1566); вслед за ним этот сюжет разрабатывали и другие фламандские художники.]: новоприбывшие собирались кучками, спрашивали у хозяина или его помощников, получат ли они здесь стол и кров (причем те, если просители приходились им не по вкусу, советовали им поискать пристанище в городе), а мимо тем временем проходил поваренок, ухватив за шею трепыхавшуюся домашнюю птицу. А в большом зале ресторана, который я пересек в первый день, чтобы добраться до отдельного кабинета, где ждал мой друг, все наводило на мысль о евангельской трапезе, изображенной со старинным простодушием и фламандской любовью к чрезмерности, – изобилие украшенных и дымящихся рыб, пулярок, тетеревов, бекасов, голубей, которых, запыхавшись, приносили официанты, для скорости скользя по паркету, и расставляли на огромном столе, где их тут же разделывали; однако, поскольку к моему появлению многие посетители уже кончали обедать, вся эта снедь громоздилась там невостребованная, словно все это великолепие и расторопность служителей не столько отвечали желаниям обедающих, сколько выражали почтение к священному тексту, тщательно воплощенному в его буквальном смысле, но простодушно уснащенному деталями, заимствованными из местной жизни и выдававшими стремление явить взорам великолепие праздника благодаря обилию съестного и усердию услужающих. Один из них в конце зала о чем-то мечтал, застыв перед сервантом; он один не суетился и, наверно, был в состоянии мне ответить, так что я решил узнать у него, в каком помещении для нас накрыли стол, повсюду были расставлены жаровни, чтобы подогревать кушанья для запоздавших, а в центре зала, наоборот, были выставлены десерты, покоившиеся на руках у великана, опорой которому служила огромная утка, казалось, хрустальная, а на самом деле изваянная изо льда, которую каждый день в истинно фламандском духе вырезал раскаленным клинком повар-ваятель, и я, лавируя между жаровнями, рискуя быть сбитым с ног другими услужающими, пошел прямо к этому мечтателю; мне казалось, что я узнаю в нем традиционную фигуру священных сюжетов: его лицо было копией тех курносых, простодушных и небрежно прорисованных физиономий с их мечтательным выражением, по которым видно, что они уже почти предвосхищают божественное присутствие, пока остальные еще ни о чем не догадываются. Добавим, что в честь близящихся праздников к этому изваянию добавилось небесное пополнение в виде отряда херувимов и серафимов. Юный ангел-музыкант, на вид лет четырнадцати, с личиком, обрамленным белокурыми волосами, не играл, правда, ни на одном инструменте, а грезил перед гонгом или стопкой тарелок, пока менее ребячливые ангелы метались по необъятным пространствам зала, сотрясая воздух беспрестанным колыханием полотенец, свисавших вдоль их тел наподобие острых крыльев на полотнах старых мастеров. Опасливо огибая зыбкие границы этих областей, осененных пальмовыми ветвями, откуда небесные служители выныривали, словно из эмпирея, я проложил себе путь в небольшой кабинет, где находился стол Сен-Лу. Я нашел там нескольких его друзей, которые всегда ужинали с ним вместе, все дворянского сословия, не считая одного-двух разночинцев, но таких, в ком дворяне учуяли друзей еще с лицея и с кем охотно общались, доказывая этим, что ничего не имеют против буржуа, даже республиканцев, лишь бы они чисто мыли руки и ходили к мессе. В первый же раз перед тем, как сели за стол, я отвел Сен-Лу в уголок и при всех, но так, чтобы никто не слышал, сказал:
– Я его обожаю!
– Ну, это слишком. А теперь дайте-ка я позову денщика и велю ему заняться нашим ужином. – добавил он.
Я отвернулся, чтобы скрыть слезы.
Несколько раз заходили товарищи Сен-Лу, то один, то другой. Он всем давал от ворот поворот.
– Ну-ка проваливай.
Я просил, чтобы он позволил им остаться.
– Ни в коем случае, они вас уморят скукой: это люди совершенно некультурные, только и умеют говорить, что о скачках, да разве что еще о том, как лошадей чистить. И потом, я не хочу, чтобы они мне испортили драгоценные минуты, о которых я столько мечтал. Поймите, когда я говорю о том, какие ограниченные мои товарищи, я вовсе не имею в виду, что всем военным не хватает ума и кругозора. Ничего подобного. Наш командир – человек замечательный. Он читал курс лекций по военной истории, который построил как систему рассуждений и доказательств, наподобие алгебры. Это даже с эстетической точки зрения прекрасно, тут и индукция, и дедукция, вы бы не остались к этому равнодушны.
– Это тот самый капитан, что разрешил мне остаться здесь?
– Нет, боже упаси, тот, которого вы бог знает за что «обожаете», – дурак неописуемый. В том, что касается солдатского питания, жилья и обмундирования, он незаменим: часами занимается этим с сержантом и закройщиком. Вот его уровень. Кстати, он, как многие другие, глубоко презирает того замечательного офицера, о котором я вам рассказываю. Его все сторонятся, потому что он франкмасон и не ходит к исповеди. Нет, принц де Бородино ни за что не пригласит к себе этого мелкого буржуа. Какая все-таки наглость со стороны человека, чей прадед был скромным арендатором, и сам он, не будь наполеоновских войн, стал бы, по всей видимости, таким же арендатором. Впрочем, он и сам понимает, что в обществе он ни рыба и ни мясо. В Жокей-клуб этот так называемый принц почти не ходит: стесняется, – добавил Робер, который из духа подражания одинаково твердо усвоил и социальные теории своих учителей, и светские предрассудки родных и теперь сам не замечал, как любовь к демократии сочетается в нем с пренебрежением к имперской знати.
Я смотрел на фотографию его тетки и, думая о том, что Сен-Лу – владелец этой фотографии и мог бы ее, вероятно, мне подарить, ценил его еще больше и мечтал оказать ему множество услуг: в обмен на нее я бы ничего не пожалел. Ведь эта фотография была словно еще одна встреча с герцогиней Германтской, и более того, встреча надолго, как будто наши отношения зашли уже так далеко, что она остановилась возле меня в летней шляпке и впервые дала вдоволь полюбоваться припухлостью щеки, линией затылка, уголком бровей (до сих пор они были от меня скрыты, ведь она так поспешно проходила мимо, впечатления были так сбивчивы, воспоминания так мимолетны); если бы я мог наглядеться на все это, и на грудь, и на руки женщины, которую видел всегда только в глухом платье, это было бы для меня сладостным открытием и милостью. Эти линии, которые мне представлялись почти запретными для взгляда, – я мог бы их изучить, как в учебнике единственной геометрии, которая имела для меня цену. Позже, приглядевшись к Роберу, я обнаружил, что он и сам немного напоминает фотографию своей тетки, и тайна этого сходства взволновала меня не меньше, ведь даром что его черты не были заимствованы у нее, но все-таки происхождение у них было общее. Черты герцогини Германтской были в моем представлении пришпилены к Комбре, однако и нос, похожий на ястребиный клюв, и пронзительные глаза пригодились также, чтобы изваять лицо Робера, правда, второй экземпляр оказался тоньше, кожа нежнее, но само его лицо можно было, в сущности, наложить на лицо его тетки. Я с жадностью узнавал в нем характерные черты рода Германтов, сохранившего всю свою особость в огромном мире, не затерявшегося в нем и стоящего особняком в своем небесно-орнитологическом величии: ведь он, этот род, как будто восходил к мифологическим временам и произошел от союза богини с птицей.
Робер, не понимая причин моего умиления, был тем не менее тронут. А я совсем растаял: меня разнежило тепло от камина и шампанское, от которого на лбу у меня выступили капельки пота, а на глазах слезы; шампанское было подано к куропаткам; я вкушал их с восторгом профана, обнаружившего вдруг в каком-то определенном образе жизни, доныне ему неизвестном, нечто, как он думал, несовместимое с этим самым образом жизни (будто вольнодумец, отменно пообедавший в гостях у священника). А проснувшись наутро, я подошел к окну Сен-Лу, очень высокому, из которого было видно далеко вокруг, и с любопытством стал рассматривать мою соседку, сельскую местность, которой накануне не заметил, потому что приехал слишком поздно, когда она уже спала, утонув в темноте. Но хотя проснулась она рано утром, я увидал ее, распахнув окно, так, как видел бы из окна замка или с берега пруда: она была еще вся закутана в мягкий белый утренний наряд, сотканный из тумана, сквозь который я почти ничего не разглядел. Правда, я знал, что не успеют солдаты во дворе почистить лошадей, как она сбросит свое одеяние. Пока что мне виден был только жалкий холм, уже освещенный солнцем, выгибавший худую и шероховатую спину напротив казармы. Сквозь ажурную занавеску изморози я, не отрывая взгляда, следил за этим незнакомцем, который впервые смотрел на меня. Но позже, когда я привык приходить в казарму, я все время помнил, что холм здесь, а значит, даже если я его не вижу, он реальнее, чем бальбекский отель, чем наш парижский дом, которые как будто умерли для меня, поскольку их здесь не было и я не очень-то верил в их существованье; и незаметным для меня образом отраженная форма этого холма всегда накладывалась на все до одного мои донсьерские впечатления, а если говорить о первом утре – на приятное ощущение тепла, исходившее от шоколада, приготовленного денщиком Сен-Лу в этой уютной комнате, которая оказалась чем-то вроде оптического центра линзы, направленной на холм (мысль о том, чтобы не просто смотреть, а прогуляться к нему, представлялась неосуществимой из-за этого самого тумана). Туман, пропитавший очертания холма, связавшийся со вкусом шоколада и со всей тканью моих тогдашних мыслей, оросил все мои мысли того времени, даром что я думал о нем меньше всего на свете; так с бальбекскими впечатлениями осталось у меня связано немеркнущее цельное золото, а комбрейские помнились мне словно написанные гризайлью благодаря соседству наружных лестниц из черноватого песчаника. Впрочем, поздним утром туман рассеялся, солнце для начала пустило в него безо всякого успеха несколько стрел, изукрасивших его бриллиантами, но потом сломило его сопротивление. Холм подставил свой серый круп лучам, а они спустя час, когда я вышел в город, уже заражали восторгом красноту листьев, красноту и синеву предвыборных плакатов на стенах, и меня самого подхватил этот же восторг, погнал по улице, заставил петь, и я с трудом удержался от того, чтобы не запрыгать от радости.
Но на второй день мне уже пришлось спать в гостинице. А я знал заранее, что на меня неизбежно навалится тоска. Она была как неуловимый запах, с рождения пропитывавший мне каждую новую комнату, то есть вообще каждую комнату: ведь в той, где я обычно жил, меня как будто и не было: мои мысли блуждали в другом месте, а вместо себя оставляли только привычку. Но этой менее чувствительной служанке я не мог поручить заниматься моими делами на новом месте: я приехал сюда до нее, один, мне предстояло здесь как-то познакомить со всей обстановкой мое «я», с которым я встречался редко, с перерывами в несколько лет, но каждый раз это было все то же «я», не повзрослевшее со времен Комбре, с первого приезда в Бальбек, безутешно плакавшее на краешке разобранного чемодана.
Но я заблуждался. Я не успевал грустить, потому что ни на минуту не оставался один. В старинном дворце сохранился некий излишек роскоши, бесполезный в современной гостинице; оторвавшись от всякого практического применения, он жил своей праздной жизнью: коридоры, что бесцельно кружили, пересекаясь как попало и замыкаясь в самих себе; вестибюли, длинные, как коридоры, и отделанные, как гостиные; гостиные, казавшиеся не столько частью дома, сколько его обитательницами, которых не пускали ни в один номер, а потому они бродили вокруг моего и тут же явились предложить мне свое общество – досужие, но не беспокойные соседки, привидения низшего порядка, явившиеся из прошлого, которым дозволено было бесшумно маяться у дверей номеров, занятых жильцами, и каждый раз, когда я натыкался на них по пути, они вели себя с молчаливой предупредительностью. В сущности, понятие жилья, места, где протекает сейчас наше существованье, где мы просто укрываемся от холода и от посторонних людей, было совершенно неприложимо к этому дому, совокупности комнат, реальных, как сообщество жильцов, пускай бесшумных, но все-таки вам приходится с ними встречаться, или уклоняться от встреч, или приветствовать, возвращаясь домой. Я смотрел с невольным почтением на большую гостиную, которая с XVIII века усвоила привычку растягиваться между своими потускневшими от времени золочеными пилястрами, под облаками расписного потолка, и ее не хотелось беспокоить. Ее удивленно обегали бесчисленные комнаты и комнатки поменьше, вызывавшие во мне простое и дружелюбное любопытство; они ничуть не заботились о симметрии и в беспорядке разбегались во все стороны вплоть до самого сада, куда с легкостью спускались по трем выщербленным ступенькам.
Если я хотел незаметно войти или выйти, избежав лифта или главной лестницы, к моим услугам была лестничка поменьше, внутренняя, ею уже не пользовались: она подставляла мне ступеньки, так ловко пригнанные одна к другой, что казалось, в их градации была соблюдена идеальная пропорция, как в красках, вкусах или ароматах, где именно эта градация так часто возбуждает в нас особую чувственность. Но чтобы испытать это ощущение, спускаясь и поднимаясь по ступенькам, нужно было приехать сюда; так когда-то, лишь побывав на высокогорном курорте, я обнаружил, что от обычного дыхания можно получать чувственное наслаждение. Когда я впервые коснулся ногами этих ступенек, я ощутил такую свободу от усилий, какую дают только вещи, которыми мы долго пользовались: они были мне хорошо знакомы, хоть я никогда еще по ним не ходил, словно я уже предугадывал в них блаженство привычности, которое впиталось, вросло в них, заложенное прежними владельцами, ходившими по ним каждый день, но ко мне еще не пристало и, по мере того как я буду с ними осваиваться, могло только ослабеть. Я открыл спальню, двойные двери затворились за мной, портьера впустила тишину, опьянившую меня ощущением могущества; мраморный камин, украшенный медной литой решеткой, о котором напрасно было бы думать, что он годится только в образцы искусства времен Директории, овеял меня своим огнем, а коротконогое кресло помогло согреться со всеми удобствами, словно я сидел на ковре. Стены стискивали комнату в объятиях, отделяли от остального мира, а чтобы в нее вошло и уместилось все, что придавало ей завершенность, даже расступились перед книжным шкафом и предусмотрели углубление в том месте, где стояла кровать, по обе стороны которой колонны слегка приподымали потолок алькова. А в глубине спальня продолжалась двумя туалетными комнатами во всю ее ширину; на стене второй из них, чтобы напитать ароматом одинокую задумчивость, за которой ходил туда постоялец, висели излучавшие негу четки из семян ириса; и если, удаляясь в это последнее убежище, я оставлял двери открытыми, они не просто его утраивали, не просто радовали меня наряду с сосредоточенностью еще и созерцанием пространства, но и прибавляли к удовольствию от уединения, которого никто и ничто не может нарушить, чувство свободы. Этот приют выходил во двор, прекрасный одинокий двор, который я тоже рад был заполучить в соседи, когда на другое утро его обнаружил: в нем, запертом между высокими стенами, почти лишенными окон, росло всего два пожелтевших деревца, которым все же удавалось придать чистому небу сиреневый оттенок.
Перед сном мне захотелось выйти из комнаты и осмотреться в моих феерических владениях. Я прошелся по длинной галерее, которая по очереди преподносила мне все, что имелось у нее в запасе на случай, если мне не захочется спать: кресло в уголке, спинет, синюю фарфоровую вазу на консоли, полную цинерарий, и, в старинной раме, призрак дамы былых времен, с напудренными волосами, перевитыми голубыми цветами, и с букетом гвоздик в руке. В конце галерея завершалась сплошной стеной, без единой двери; эта стена простодушно сказала мне: «Теперь иди назад, но ты же сам видишь, здесь ты дома», а мягкий ковер, чтобы не остаться в долгу, добавил, что если ночью я не засну, то спокойно могу прийти сюда босиком, а окна без ставней, выходившие в поля, заверили меня, что они все равно не собираются спать и я могу приходить спокойно, когда захочу, не опасаясь никого разбудить. А за драпировкой я застиг только маленькую комнатенку, ей некуда было убежать, потому что дальше была стена, и вот она сконфуженно пряталась там, испуганно глядя на меня своим круглым окошком, синим от лунного света. Я лег, но перина, миниатюрные колонны и камин притянули мое внимание к тем меткам, которых не было в Париже, и помешали мне соскользнуть в область обычных грез. Именно в такие минуты наше внимание начинает стягиваться вокруг сна и влиять на него, видоизменять, соотносить с каким-нибудь рядом воспоминаний, и образы, наполнившие мои сновидения в ту первую ночь, пришли совсем из другой памяти, чем та, из которой обычно черпал их мой сон. Попытайся я во сне вновь нырнуть в привычную память, тогда и кровати, к которой я еще не успел приспособиться, и осторожности, требовавшейся от меня всякий раз, когда я ворочался в постели, – всего этого мне бы хватило, чтобы выровнять новое течение моих сновидений или хотя бы не отстать от него. Ведь сон все равно что восприятие внешнего мира. Стоит нам изменить своим привычкам – и вот он уже окрашен поэзией; стоит нам нечаянно уснуть прямо на кровати во время раздевания – и вот уже изменились масштабы сна, и мы почувствовали его красоту. Просыпаешься, видишь на часах четыре; это четыре утра, а не пополудни, но нам представляется, что прошел уже целый день: сон продолжался всего несколько минут, причем мы вовсе и не собирались спать, но нам чудится, что он снизошел к нам с небес в силу некоего божественного права, огромный и круглый, как золотая императорская держава. По утрам, когда я с досадой думал, что дедушка уже готов и меня ждут, чтобы идти всем вместе в сторону Мезеглиза, меня будил полковой духовой оркестр, каждый день проходивший у меня под окнами. Но два-три раза – говорю это потому, что нельзя правдиво описать жизнь людей, если не омыть ее сном, в который она погружается и который ночь за ночью обтекает ее, как море обтекает полуостров, – так вот, два-три раза мой сон оказался настолько устойчивым, что вынес натиск музыки и я ничего не слышал. В другие же дни он рано или поздно поддавался, но сознание мое, словно орган, благодаря предварительному обезболиванию сперва вовсе не чувствующий прижигания, а потом принимающий его за легкий ожог, еще пряталось в бархатистой оболочке сна; острые иголки флейт казались ему нежными касаниями, ласкали, словно неразборчивый и свежий утренний щебет; так тишина превращалась в музыку, но после краткого перерыва опять возвращалась в мой сон даже раньше, чем успевали промаршировать драгуны, и похищала у меня последние цветки из бравурного букета звуков. И сфера моего сознания, задетая этими ослепительными стебельками, была так ограничена, сон настолько вводил ее в заблуждение, что позже, когда Сен-Лу меня спрашивал, слышал ли я музыку, я уже сомневался, не вообразил ли я себе опять звук оркестра, как когда-то по утрам, когда слышал малейший стук на городских мостовых. Может быть, я слышал его только во сне, боясь проснуться, или наоборот, не проснуться и пропустить шествие солдат. В самом деле, часто, когда я спал, а сам, наоборот, думал, что меня разбудил шум, я потом целый час воображал, что бодрствую, хотя на самом деле был погружен в дрему и на экране своего сна разыгрывал сам для себя разные спектакли, где исполнителями были легкие тени, причем мне чудилось, будто я присутствую на этих спектаклях, хотя это было невозможно: ведь я спал. Бывает в самом деле: засыпаешь, и вдруг оказывается, что все, чем ты занимался днем, произошло во сне – будто тебя столкнули, сонного, на другую дорогу, не ту, по которой бы ты прошел наяву. Та же самая история сворачивает в сторону и кончается иначе. Вопреки всему, мир, в котором мы живем, пока спим, настолько другой, что те, кому трудно засыпать, пытаются прежде всего выбраться из этого, нашего. Часами они, зажмурившись, безнадежно прокручивают в голове те же мысли, над которыми бились бы и с открытыми глазами, но затем приободряются, спохватившись, что рассуждение, которым была отягощена предыдущая минута, явно противоречит законам логики и простой очевидности, и этот короткий «провал» означает, что перед ними приоткрылась дверь, через которую им, пожалуй, удастся увильнуть от восприятия реальности, отойти от нее подальше и немного от нее отдохнуть, а это позволит им более или менее крепко уснуть. Но если удалось отвернуться от реальности, это уже важный шаг: мы достигли первых пещер, где «самовнушенья», как колдуньи, стряпают адское варево, воображаемые хвори или обострения нервных болезней, и караулят момент, когда начнется наконец кризис, нараставший, пока мы спали и ничего не помнили, начнется и прервет наш сон.
Неподалеку раскинулся потаенный сад, где, подобно неведомым цветам, произрастают самые разные сны: сны, происходящие от дурмана, от индийской конопли, от множества эфирных эссенций, сон от белладонны, опиумный, валериановый сон, цветы, которые не размыкают своих лепестков, пока в один прекрасный день к ним не придет незнакомец, которому было суждено явиться, – и тогда он притронется к ним, и они раскроются, и долго будут испускать аромат своих особенных снов для восхищенного и изумленного человека. В глубине сада есть монастырский пансион, из его открытых окон слышно, как ученицы повторяют уроки, выученные перед сном: эти уроки они будут знать только проснувшись; но предвестьем их пробуждения тикает внутренний будильник: его так хорошо завела наша тревога, что, когда хозяйка придет сказать, что уже семь часов, мы будем готовы. Из окон этой спальни видны сны, в ней беспрестанно трудится забвение любовных горестей; иногда его работу прерывает и разрушает какой-нибудь кошмар, полный смутной памяти, но забвение тут же вновь принимается за дело; по мрачным стенам спальни висят, даже когда мы проснемся, воспоминания о снах, но такие затемненные, что часто мы замечаем их впервые только в разгар дня, когда невзначай на них упадет луч в чем-то сходной мысли; иные из этих снов были ясны и гармоничны, пока мы спали, а потом стали так неузнаваемы, что, не сумев их распознать, мы только и можем, что поспешно предать их земле, как слишком быстро разложившихся мертвецов или как вещи, настолько пораженные порчей, что вот-вот рассыплются в пыль, так что самый искусный реставратор не сможет восстановить их форму и что-нибудь с ними сделать.
Возле ограды есть каменоломня: глубокие сны приходят сюда искать вещества, которые пронизывают голову спящего такими твердыми субстанциями, что невозможно его разбудить даже самым солнечным утром, пока его собственная воля не примется наносить удар за ударом секирой, как молодой Зигфрид[28 - …молодой Зигфрид. – Имеется в виду герой оперы Рихарда Вагнера «Зигфрид» из цикла «Кольцо Нибелунга». Юный Зигфрид разбивает один за другим все мечи, которые выковал ему воспитатель, а затем сам себе кует меч настолько прочный, что его удар рассекает надвое наковальню.]. По ту сторону есть еще и кошмары; врачи глупейшим образом уверяют, будто они изматывают больше, чем бессонница, хотя на самом деле они, наоборот, позволяют мыслителю ускользнуть от забот; кошмары разворачивают перед нами причудливые альбомы, там наши покойные родители – с ними приключился тяжелый несчастный случай, но есть надежда на скорое исцеление. А до тех пор мы держим эти кошмары в маленькой крысиной клетке, они меньше белых мышей и покрыты огромными красными прыщами, из которых торчат перья, и обращаются к нам с речами в духе Цицерона. Рядом с альбомом вращающийся диск будильника, из-за него на нас нападает мгновенный приступ тоски оттого, что нам сию минуту нужно вернуться в дом, который уже пятьдесят лет как разрушен, и по мере того как удаляется сон, изображение дома сменяется другим, третьим, четвертым, пока, наконец, диск не остановится, и тогда нам представится то, что мы увидим, когда откроем глаза.
Иногда я ничего не слышал, погруженный в один из тех снов, куда проваливаешься, как в нору, а потом радуешься, когда выберешься оттуда, отяжелевший, перекормленный, переваривая все то, что тебе принесли проворные вегетативные силы, подобные нимфам, вскормившим Геракла, – пока мы спали, они хлопотали с удвоенной силой.
Такой сон называют свинцовым; пробудившись от него, кажется, и сам на несколько мгновений превращаешься в простую свинцовую фигурку. Теперь ты никто. Ищешь ускользнувшую мысль, ищешь сам себя, как потерянную вещь, – но как же удается в конце концов обрести собственное я, свое, а не чужое? Если задуматься, почему в нас воплощается та личность, что была раньше, а не какая-нибудь другая? Непонятно, чем продиктован наш выбор и почему из миллиона людей, которыми мы могли бы оказаться, мы цепляемся именно за того, кем были накануне? Что направляет нас после того, как произошел настоящий разрыв (например, полное погружение в сон или сновидения, не имеющие с нами ничего общего)? Это была настоящая смерть, как будто сердце перестало биться, и только ритмичные движения языка нас оживляют. Вероятно, комната, даже если мы видели ее всего один раз, пробуждает в нас воспоминания, за которые цепляются другие, более ранние. Или мы сознаем какие-то из них, дремавшие в нас? Воскрешение, или пробуждение ото сна, этого благодетельного приступа умопомешательства, похоже, в сущности, на то, что происходит, когда мы припоминаем чье-нибудь имя, или стихотворную строчку, или забытую песенку. И быть может, воскрешение души после смерти можно представить себе, как проявление памяти.
Я выныривал из сна; меня влекло залитое солнцем небо, но удерживала свежесть последних утр, ярких и холодных, с которых начинается зима; я смотрел на деревья, где листья были обозначены только одним-двумя золотыми или розовыми мазками, и казалось, будто они висят в воздухе, вплетенные в невидимую ткань; я поднимал голову, вытягивал шею, а тело еще наполовину пряталось под одеялом; как хризалида на пороге метаморфозы, я состоял из двух разных существ, и каждому из них требовалась своя среда: взгляду моему хватало красок без тепла, грудь, наоборот, заботилась не о красках, а о тепле. Я вставал не раньше, чем разведут огонь, и смотрел на прозрачную, нежную картину сиреневого и золотистого утра, искусственно добавляя ему недостающую часть тепла, для чего помешивал угли в камине, пылавшем и дымившем, как хорошая трубка, и огонь, не хуже трубки, дарил мне наслаждение, одновременно и грубое, потому что основывалось на физическом ощущении, и утонченное, потому что за ним клубились, бледнея, чисто зрительные образы. На обоях в моей туалетной комнате по кричаще-красному фону были рассыпаны черные и белые цветы: я боялся, что мне не так легко будет к этому приспособиться. Но на самом деле я просто видел в них нечто новое, они приглашали не к ссоре, а к общению, придавали новый оттенок певучей радости моему пробуждению; по их настоянию в сердце у меня расцветало что-то вроде маков, и мир представлялся совсем иным, чем в Париже, когда я видел его из этого дома, похожего на веселую ширму, обращенного не в ту сторону, что родительский дом, и овеянного чистым воздухом. В иные дни меня точило желание увидеть бабушку или беспокойство о том, как она себя чувствует; а не то я вспоминал о каком-нибудь неоконченном деле, оставленном в Париже; иногда всплывало в памяти какое-нибудь затруднение, которым даже здесь я ухитрялся себя терзать. То та, то другая забота мешала мне спать, и я оказывался бессилен перед печалью, мгновенно заполнявшей все мое существо. Тогда я посылал из гостиницы кого-нибудь в казарму с запиской для Сен-Лу: я писал ему, что, если это возможно чисто практически (я знал, что это было очень трудно), я был бы рад, если бы он ко мне заглянул. Час спустя он был уже здесь, и, слыша колокольчик у дверей, я чувствовал, как тревоги меня отпускают. Я знал, что они сильнее меня, но он сильнее, чем они, и внимание мое переключалось с них на него, от которого все зависело. Он входил и приносил с собой свежий воздух, окружавший его с утра, пока он успевал переделать множество дел; вокруг него устанавливалась живительная среда, такая непохожая на атмосферу моей комнаты, и я тут же естественным образом к ней приспосабливался.
– Надеюсь, вы не сердитесь, что я вас побеспокоил; мне как-то нехорошо на душе, вы, наверно, и сами догадались.
– Да нет, я просто подумал, что вам хочется меня увидеть, и я решил, что с вашей стороны это очень мило. Я страшно рад, что вы меня позвали. Так что же? дела так себе? Как вам услужить?
Он выслушивал мои объяснения, отвечал точно и ясно, но еще до того, как он начинал говорить, я под его влиянием становился похож на него; по сравнению с важными заботами, ради которых он всегда оставался таким проворным, бодрым, сосредоточенным, мои печали, еще недавно терзавшие меня каждую минуту, представлялись мне, как и ему, ничтожными; я был как человек, который несколько дней кряду не может открыть глаза, и вот он зовет врача, и тот ловко и нежно заворачивает ему веко, вынимает песчинку и показывает ее больному, избавляя его сразу и от недомогания, и от беспокойства. Все мои тревоги разрешались телеграммой, которую Сен-Лу брался отправить. Моя жизнь сразу так менялась, казалась мне такой прекрасной, я чувствовал в себе столько сил, что мне хотелось действия.
– Что вы сейчас будете делать? – спрашивал я у Сен-Лу.
– Расстанусь с вами: через три четверти часа у нас учения, мне нужно там быть.
– Вам было трудно ко мне вырваться?
– Нет, ничуть, капитан был очень любезен, он сказал, что, раз это ради вас, я непременно должен поехать, но мне не хотелось бы, чтобы он думал, что я этим злоупотребляю.
– А если я быстро соберусь и сам поеду туда, где у вас маневры? Мне это было бы очень интересно, а в перерывах нам бы, может быть, удалось поговорить.
– Не советую: вы не спали, вы вбили себе в голову какую-то чепуху, которая, уверяю вас, не стоит внимания, но теперь она вас больше не беспокоит, так что лягте поудобнее и поспите, это очень поможет восстановить солевой баланс ваших нервных клеток; только не засните слишком быстро, а то скоро у вас под окнами пройдет наш чертов оркестр; после этого все будет тихо, а увидимся мы вечером, за ужином.
Но вскоре я стал часто выбираться на полковые учения; я заинтересовался теорией военного дела, о которой рассуждали за ужином друзья Сен-Лу, и все дни был одержим желанием присмотреться вблизи к их командирам, самым разным; так человек, поглощенный главным образом изучением музыки, живущий концертами, с удовольствием ходит в кафе, где можно соприкоснуться с жизнью оркестрантов. Чтобы попасть туда, где проходили маневры, мне нужно было совершать долгие пешие переходы. Вечером, после ужина, я иной раз не мог высидеть прямо, словно при головокружении. На другой день я замечал, что не слышал оркестра, как раньше, в Бальбеке, в те вечера, когда Сен-Лу возил меня ужинать в Ривбель, не слышал концерт на пляже. А когда я хотел встать, на меня тут же нападало восхитительное изнеможение, сочленения моих мышц и сосудов от усталости делались чувствительными и словно привязывали меня к невидимому полу глубоко внизу. Я был полон сил, чувствовал, что буду жить долго, а все потому, что возвращался к благодетельной усталости комбрейского детства, наступавшей на другой день после наших прогулок в сторону замка Германт. Поэты уверяют, что, когда входим в дом или сад, где жили в юности, мы на миг становимся такими, как были когда-то. Паломничество в эти места – дело рискованное, оно может увенчаться как успехом, так и разочарованием. Уж лучше искать в себе самих те места, которые связаны для нас с теми или другими годами нашей жизни. В известной мере для этого годится сильная усталость, а после нее хороший ночной отдых. Они хотя бы приводят нас в самые подземные галереи сна, где в случае, если внутренний монолог никак не унимается, его не озаряет больше ни один отблеск минувшего дня, ни одна вспышка памяти, а еще они так добросовестно переворачивают почву и туф нашего тела, что, по мере того как наши мышцы уходят вглубь, изгибаются во все стороны, тянутся к новой жизни, на поверхность выступает сад, в котором мы играли детьми. Чтобы вновь его увидеть, не нужно путешествовать: чтобы его найти, нужно спуститься. То, чем была покрыта земля, уже не на ней, а под ней; чтобы посетить мертвый город, мало экскурсии – тут нужны раскопки. Но мы увидим, что еще вернее, чем все эти материальные перемещения, с гораздо большей и изощренной точностью, с помощью куда более легкого, бесплотного, головокружительного, непогрешимого, бессмертного полета приводят нас к прошлому некоторые беглые и случайные впечатления.
Иногда я уставал еще сильнее, когда по нескольку дней смотрел на маневры, не имея возможности прилечь. Каким блаженством было потом возвращение в гостиницу! Когда я вновь оказывался в постели, мне казалось, что я наконец ускользнул от тех чародеев и колдунов, что населяют излюбленные «романы» нашего XVII века. Сон и неторопливое пробуждение наутро превращались в сущую волшебную сказку. Это было божественно, но, надо думать, еще и шло мне на пользу. Я говорил себе, что от самых тяжких страданий есть убежище и уж что-что, а покой и отдых можно обрести всегда. Эти мысли заводили меня довольно далеко.
В дни, свободные от учений, если Сен-Лу не мог отлучиться из казармы, я часто ходил его проведать. Идти было далеко; нужно было выйти из города, перейти через виадук, по обе стороны которого мне открывались необъятные дали. На возвышенности всегда веял сильный ветер, продувавший насквозь здания, с трех сторон окружавшие двор, и они постоянно гудели, как пещера ветров. Пока Робер был занят службой, я ждал у дверей его комнаты или в столовой, болтая с его друзьями, с которыми он меня познакомил (а потом уже я приходил повидаться с ними даже когда знал, что его нет), и видел за окном, на сотню метров подо мной, голые поля, где, однако, то тут, то там виднелись уже зеленые стрелы, блестящие и прозрачные, словно эмаль: это были новые всходы, часто еще мокрые от дождя и освещенные солнцем; иногда я слышал, как друзья Робера говорили о нем, и очень скоро понял, как все его любят и почитают. Добровольцы, принадлежавшие к другим эскадронам, молодые богатые буржуа, видевшие аристократическое общество только извне и никогда в него не проникавшие, восхищались не только характером Сен-Лу; их симпатия подогревалась тем блеском, которым, по их представлениям, был окружен этот молодой человек: часто, когда все уезжали в Париж в увольнительную, они видели, как он ужинал в кафе де ла Пэ в обществе герцога д’Юзеса и принца Орлеанского[29 - …в обществе герцога д’Юзеса и принца Орлеанского. – Речь идет о реальных людях: правнуке Луи-Филиппа, Анри-Филиппе-Мари, принце Орлеанском (1867–1901), и Жаке де Крассоле, герцоге д’Юзес (1868–1894), часто бывавших в кафе де ла Пэ, на бульваре Капуцинок, 12.]. И поэтому с его красивым лицом, с его развинченной походкой, небрежной манерой отдавать честь, с вечным парением его монокля, с причудливостью его слишком высоких кепи, его брюк из слишком тонкого, слишком розового сукна они связывали понятие «шика», которого, по их убеждению, лишены были самые элегантные офицеры полка, даже величественный капитан, тот, кому я был обязан разрешением ночевать в казарме: по сравнению с Сен-Лу он казался слишком напыщенным и чуть не вульгарным.
Кто-то говорил, что капитан купил новую лошадь. «Пускай покупает каких угодно лошадей. В воскресенье утром я встретил в аллее Акаций Сен-Лу, и с каким же шиком он ездит верхом!» – отвечал ему собеседник со знанием дела, ведь эти молодые люди принадлежали к тому классу, где пускай не общаются с высшим светом напрямую, но благодаря деньгам и досугу не отличаются от аристократии во всем, что касается моды и что можно купить за деньги. Кое в чем, например в одежде, они разбирались даже лучше, выглядели безупречнее, чем Сен-Лу с его вольной и небрежной элегантностью, которая так нравилась моей бабушке. Каким переживанием было для этих сыновей богатых банкиров и биржевых маклеров поехать после театра поесть устриц и увидеть за соседним столиком сержанта Сен-Лу! И сколько рассказов потом звучало в казарме в понедельник после увольнительной: кто-нибудь, из того же эскадрона, что Сен-Лу, встретился с ним накануне, и тот «очень любезно» с ним поздоровался, а другой, хоть и из другого эскадрона, решил, что Сен-Лу тем не менее его узнал, потому что, кажется, два или три раза навел на него свой монокль.
– А мой брат заметил его в Кафе де ла Пэ, – говорил третий, который весь день провел у своей любовницы. – Говорят, что фрак на нем был слишком просторный и сидел на нем кое-как.
– А в каком он был жилете?
– Не в белом, а в сиреневом, расшитом какими-то пальмами, с ума сойти!
Бывалые солдаты (люди из народа, понятия не имевшие о Жокей-клубе[30 - Жокей-клуб во Франции был основан в 1834 г. по образцу английского; это был самый закрытый клуб, доступный лишь избранным.], а просто зачислявшие Сен-Лу в категорию очень богатых сержантов, к которым они относили всех, в том числе и разорившихся, чьи доходы или долги исчислялись крупными суммами и кто проявлял щедрость к солдатам) не видели ничего аристократического ни в походке, ни в монокле, ни в брюках, ни в кепи Сен-Лу, но интересовались ими не меньше и тоже усматривали в них особый смысл. В этих особенностях они видели характер, стиль, которые раз и навсегда приписали самому популярному сержанту в полку, видели манеры, присущие только ему и никому больше, видели презрение к тому, что подумают начальники, причем все это казалось им естественным следствием того, что он так хорошо относился к солдатам. Утренний кофе в общей спальне или послеобеденный отдых на койке казались слаще, когда кто-нибудь из бывалых солдат на радость разнеженному и жаждущему подробностей отделению расписывал кепи, принадлежавшее Сен-Лу.
– Высокое, как мой вещмешок.
– Ладно, старина, не заливай, быть не может, чтобы такое высокое, как твой вещмешок, – перебивал какой-нибудь юный лиценциат филологии, щеголявший подобными словечками, чтобы его не принимали за новобранца, влезая в спор, чтобы услышать подтверждение факту, который его восхищал.
– Ах, не такое высокое, как мой вещмешок? Ты его что, измерял? Говорю тебе, полковник так таращился на нашего сержанта, будто хотел на гауптвахту отправить. А Сен-Лу, молодец, и в ус себе не дует: ходит туда-сюда, кивает, голову вскидывает и моноклем поигрывает в придачу. Посмотрим, что теперь капитан скажет. Может, и ничего не скажет, да только уж точно не обрадуется. А в самом кепи ничего такого нет особенного. Говорят, у него дома, в городе, штук тридцать таких.
– Откуда ты это взял, старина? Чертов капрал тебе сказал, что ли? – дотошно допытывался юный лиценциат, демонстрируя владение новыми грамматическими формами, недавно усвоенными, так что теперь ему было лестно уснащать ими свою речь.
– Взял откуда? Да его же денщик мне сказал, черт побери.
– Да уж, вот кому удача привалила.
– Еще бы! Деньжат у него побольше, чем у меня, уж это точно. И еще сержант ему все свои вещи отдает, и то, и это. Он в столовой не наедался. Приходит туда наш Сен-Лу, кашевар своими ушами слышал: «Хочу, чтобы его кормили как следует, сколько надо, столько и заплачу».
И, стараясь искупить энергичными интонациями незначительность слов, ветеран передразнивал Сен-Лу, пускай не слишком умело, но все были в восторге.
Я уходил из казарм, до захода солнца немного гулял, а потом отправлялся к себе в гостиницу, где часа два отдыхал и читал, дожидаясь, когда настанет время идти ужинать с Сен-Лу в другую гостиницу, где жили он и его друзья. На площади вечер водружал на остроконечные крыши замка розовые облачка, подбирая их под цвет кирпичей и для вящей гармонии подсвечивая кирпичи отблеском заката. Мои нервы омывал такой мощный поток жизни, что никакими движениями мне его было не исчерпать; каждый мой шаг по булыжнику мостовой пружинил, словно на каблуках у меня были крылышки Меркурия. В одном фонтане плескался алый цвет, в другом вода уже стала опаловой от лунного луча. Между фонтанами играли дети, кричали, носились по кругу, повинуясь неписаному распорядку дня, как стрижи или летучие мыши. Старинные дворцы и оранжерея Людовика рядом с гостиницей, в которых теперь разместились Сберегательный банк и армейский корпус, были уже подсвечены изнутри бледными золотистыми газовыми лампами, которые в еще светлом воздухе очень шли этим высоким и широким окнам XVIII века, где не успели погаснуть последние отблески заката: так лицу, пышущему румянцем, идет светлое перламутровое ожерелье; тут наконец я решался вернуться к моему камину и лампе, которая одна во всей гостинице боролась с наступающими сумерками; ради нее я шел к себе в номер еще до наступления полной темноты – шел с радостью, словно мне предстояло полакомиться чем-то вкусным. И в комнате меня захлестывала та же полнота ощущений, что на улице. Она выгибала видимую поверхность вещей, кажущихся нам обычно плоскими и пустыми, желтые языки пламени, грубую синюю бумагу небес, которую вечер, как школьник, изрисовал розовыми штопорообразными каракулями, скатерть с необычным узором на круглом столе, где ждали меня стопка линованой бумаги и чернильница рядом с романом Берготта, так что и потом мне всегда казалось, будто в них щедро заложено какое-то особое существованье и я сумел бы его извлечь, если повезет. Я с радостью думал о казарме, из которой только что ушел, о флюгере, вертевшемся по воле ветра. Для меня, как для ныряльщика, что дышит через трубку, выступающую над поверхностью воды, это была целительная связь с жизнью, с вольным воздухом, и связали меня с ними эта казарма, и эта вышка обсерватории, и поля вокруг нее, исчерченные зелеными эмалевыми каналами; я мечтал о драгоценной привилегии – и пускай бы она сохранялась за мной как можно дольше – приходить, когда захочу, под эти навесы и в эти казарменные здания, приходить и твердо знать, что встречу радушный прием.
В семь я одевался и опять уходил; теперь я направлялся в гостиницу, где жил и столовался Сен-Лу. Мне нравилось идти туда пешком. Было совсем темно, а на третий день с приближением ночи стал подниматься ледяной ветер, вероятно, предвещавший снег. Я шагал и, казалось бы, должен был непрестанно думать о герцогине Германтской; я и приехал к Роберу в гарнизон только для того, чтобы попробовать как-то к ней приблизиться. Но воспоминания и горести не стоят на месте. В иные дни они уходят так далеко, что мы едва их различаем и думаем, что они нас покинули. Тогда мы начинаем обращать внимание на что-нибудь другое. И улицы этого городка еще не были для меня просто средством, чтобы попасть из одного места в другое, как дома, где все нам привычно. Жизнь обитателей этого незнакомого мира представлялась мне чудесной, и часто я застывал надолго в темноте перед какими-нибудь освещенными окнами, впиваясь взглядом в правдивые и таинственные сцены существованья, в которое не мог проникнуть. Иной раз гений огня показывал мне картину в багровых тонах, а на ней таверну, которую держал торговец каштанами; там два сержанта, положив портупеи на стулья, играли в карты, не подозревая, что выхвачены из тьмы по воле волшебника, словно актеры в театре, и явлены такими, какие они есть в эту самую минуту, глазам невидимого для них прохожего, остановившегося у окна. А в тесной лавке старьевщика сгоревшая до половины свеча, отбрасывая красный отблеск на какую-нибудь гравюру, превращала ее в сангину; свет массивной лампы, борясь с темнотой, золотил кусок кожи или осыпал сверкающими блестками кинжал на картинах, которые были всего-навсего скверными копиями, и драгоценная позолота была словно патина прошлого или лак великого художника, а убогая конура, где все сплошная подделка и мазня, преображалась в бесценного Рембрандта. Иногда мой взгляд забирался выше, и я заглядывал в какую-нибудь просторную старинную квартиру, если окна ее не были закрыты ставнями; там мужчины и женщины вели жизнь амфибий, каждый вечер приспосабливались к существованью в другой стихии, не той, что днем; они медленно плавали в жирной жидкости, которая с наступлением темноты беспрестанно сочилась из резервуаров ламп и затопляла комнату до самого верха каменных и стеклянных стен, и, перемещаясь в ней, распространяли вокруг себя маслянистые золотые водовороты. Я шел дальше, и часто сила моего желания останавливала меня в темном переулке перед собором, как когда-то по дороге в Мезеглиз; мне казалось, что сейчас из тьмы возникнет женщина и насытит это желание; если вдруг я чувствовал, что во мраке мимо меня скользнуло женское платье, жесточайшее наслаждение не давало мне поверить, что его прикосновение было случайно и я пытался обнять перепуганную незнакомку. В этом готическом переулке было для меня нечто столь реальное, что, если бы я сумел «подцепить» женщину и овладеть ею, ничто бы не могло меня разубедить в том, что свело нас с ней античное сладострастие, даже если бы она оказалась обыкновенной девкой, торчавшей там каждый вечер: зима, мое одиночество, темнота и средневековье овеяли бы ее тайной. Я размышлял о будущем: мне казалось, что забыть герцогиню Германтскую было бы ужасно, но, в сущности, благоразумно, и впервые мне пришло в голову, что это возможно и даже, пожалуй, легко. В полной тишине квартала до меня доносились слова и смех полупьяных прохожих, возвращавшихся по домам. Я останавливался на них поглядеть, я смотрел в ту сторону, откуда донесся шум. Но ждать приходилось долго: меня окружала такая плотная тишина, что даже далекие звуки раздавались в ней очень четко и громко. И наконец гуляки проходили, но не мимо меня, как я надеялся, а где-то далеко позади. Не то виноваты в этой акустической ошибке были перекрестки и расположение домов, отражавших звук, не то в незнакомом месте нам вообще трудно понять, откуда исходит шум, но и направление, и расстояние я то и дело определял неправильно.
Ветер усиливался. Была в нем шероховатость, взъерошенность, предвещавшая снегопад; я выходил на главную улицу и вскакивал в трамвайчик; офицер на площадке отвечал не глядя на приветствия проходивших по тротуару неуклюжих солдат, чьи лица раскрасил мороз; казалось, из-за резкого перехода от осени к началу зимы городок переместился дальше на север, и эти раскрасневшиеся лица напоминали румяные физиономии брейгелевских крестьян, веселых, подвыпивших и замерзших.
А в гостиницу, где я встречался с Сен-Лу и его друзьями, начинавшиеся праздники привлекли много народу, местных и издалека; на двор, который мне нужно было пересечь, выходили рдеющие кухни, там крутились на вертелах цыплята, на решетках жарилась свинина и живые омары доходили на «адском огне» (так это называлось у хозяина гостиницы), а в самом дворе толклась толпа, достойная «Переписи в Вифлееме» старых фламандских мастеров[31 - …толпа, достойная «Переписи в Вифлееме» старых фламандских мастеров… – Имеется в виду в первую очередь «Перепись в Вифлееме» Питера Брейгеля-старшего (1566); вслед за ним этот сюжет разрабатывали и другие фламандские художники.]: новоприбывшие собирались кучками, спрашивали у хозяина или его помощников, получат ли они здесь стол и кров (причем те, если просители приходились им не по вкусу, советовали им поискать пристанище в городе), а мимо тем временем проходил поваренок, ухватив за шею трепыхавшуюся домашнюю птицу. А в большом зале ресторана, который я пересек в первый день, чтобы добраться до отдельного кабинета, где ждал мой друг, все наводило на мысль о евангельской трапезе, изображенной со старинным простодушием и фламандской любовью к чрезмерности, – изобилие украшенных и дымящихся рыб, пулярок, тетеревов, бекасов, голубей, которых, запыхавшись, приносили официанты, для скорости скользя по паркету, и расставляли на огромном столе, где их тут же разделывали; однако, поскольку к моему появлению многие посетители уже кончали обедать, вся эта снедь громоздилась там невостребованная, словно все это великолепие и расторопность служителей не столько отвечали желаниям обедающих, сколько выражали почтение к священному тексту, тщательно воплощенному в его буквальном смысле, но простодушно уснащенному деталями, заимствованными из местной жизни и выдававшими стремление явить взорам великолепие праздника благодаря обилию съестного и усердию услужающих. Один из них в конце зала о чем-то мечтал, застыв перед сервантом; он один не суетился и, наверно, был в состоянии мне ответить, так что я решил узнать у него, в каком помещении для нас накрыли стол, повсюду были расставлены жаровни, чтобы подогревать кушанья для запоздавших, а в центре зала, наоборот, были выставлены десерты, покоившиеся на руках у великана, опорой которому служила огромная утка, казалось, хрустальная, а на самом деле изваянная изо льда, которую каждый день в истинно фламандском духе вырезал раскаленным клинком повар-ваятель, и я, лавируя между жаровнями, рискуя быть сбитым с ног другими услужающими, пошел прямо к этому мечтателю; мне казалось, что я узнаю в нем традиционную фигуру священных сюжетов: его лицо было копией тех курносых, простодушных и небрежно прорисованных физиономий с их мечтательным выражением, по которым видно, что они уже почти предвосхищают божественное присутствие, пока остальные еще ни о чем не догадываются. Добавим, что в честь близящихся праздников к этому изваянию добавилось небесное пополнение в виде отряда херувимов и серафимов. Юный ангел-музыкант, на вид лет четырнадцати, с личиком, обрамленным белокурыми волосами, не играл, правда, ни на одном инструменте, а грезил перед гонгом или стопкой тарелок, пока менее ребячливые ангелы метались по необъятным пространствам зала, сотрясая воздух беспрестанным колыханием полотенец, свисавших вдоль их тел наподобие острых крыльев на полотнах старых мастеров. Опасливо огибая зыбкие границы этих областей, осененных пальмовыми ветвями, откуда небесные служители выныривали, словно из эмпирея, я проложил себе путь в небольшой кабинет, где находился стол Сен-Лу. Я нашел там нескольких его друзей, которые всегда ужинали с ним вместе, все дворянского сословия, не считая одного-двух разночинцев, но таких, в ком дворяне учуяли друзей еще с лицея и с кем охотно общались, доказывая этим, что ничего не имеют против буржуа, даже республиканцев, лишь бы они чисто мыли руки и ходили к мессе. В первый же раз перед тем, как сели за стол, я отвел Сен-Лу в уголок и при всех, но так, чтобы никто не слышал, сказал: