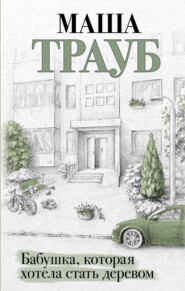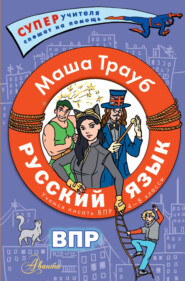По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Уважаемые отдыхающие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У тебя случилось что?
– Случилось? Да, наверное… я пойду, спасибо. Валя? Вас Валентиной ведь зовут?
– Тетей Валей. Я уж лет с тридцати как тетя Валя.
– Тетя Валя… Как красиво, – Катя показала на ростки в кадках, над которыми колдовала Галя.
– Я пересажу и скажу Федору – он к вам перенесет.
– Что? Горшки? Нет, мне не надо…
Тетя Валя, конечно, всем рассказала, что Катя сошла с ума, но ей никто не поверил. Катя, как и прежде, плавала, ходила в красивом платье по набережной, рылась в своем саду, улыбалась. Заходила к тете Вале, кормила кошек остатками еды.
Когда она сошла с ума? Никто точно не помнил, не мог сказать с уверенностью. Тетя Валя считала, что тогда, когда она в дождевике стояла под палящим солнцем. Ильич думал, что позже. После того, как к ней муж приехал.
Муж, которого никто никогда не видел, действительно существовал. Ильич тогда уже жил в пансионате. Как и Галя. Тетя Валя задержалась в столовой, чтобы накрутить фарш на утро. Можно было прийти пораньше, но ей было неспокойно, и она включила мясорубку. Мясорубка ее всегда успокаивала.
Тогда Катя влетела в столовую, прямо на кухню:
– Он меня найдет. Мне надо спрятаться. Куда?
Катя стала стаскивать кастрюли с полок. Смотреть на нее было страшно – бледная, глаза вполлица, руки трусятся.
– Пошли, – тут же среагировала тетя Валя и отвела ополоумевшую Катю к Ильичу. Катю оставили в номере Гали. Тетя Валя ей еду носила. Но на третий день Катя не выдержала и вышла. Вернулась домой, где ее ждал муж, и уехала в Москву.
Вернулась она через год. Уже сумасшедшая. Тете Вале, которую Катя узнавала и с которой не боялась разговаривать, она сказала, что ее держали в больнице. Что досочинила тетя Валя, а что на самом деле было правдой, никто не знал.
Тетя Валя рассказывала, что муж был маньяком. Издевался над Катей. Избивал, но точно знал, куда бить. Лицо не трогал. Несколько раз Катя хотела уйти, но не могла – богатый муж оплачивал частный пансионат-клинику, в котором лежала Катина мама. Мама умирала уже четыре года и никак не могла умереть. Она давно не узнавала Катю, только сиделку, которая была к ней приставлена. Но сердце работало. Давление было в норме. Катя терпела мужа ради мамы.
Потом делала аборты, чтобы не рожать. Не желая иметь ничего общего с этим мужчиной. Она ждала, когда мама умрет и можно будет развестись, начать все заново. Но муж не позволял. У него были другие женщины, совсем еще девочки, но Катя была ему нужна как жена, ширма.
Он давал ей передохнуть – отпускал в дом на море, который сам и подарил. Когда она сообщила, что не вернется, взвился, обезумел. Он не привык к отказам. Катя – его собственность, он был ее хозяином. И только по его воле она могла уехать или остаться. Он ее даже не искал – знал, что сама придет. Их разговор длился меньше минуты – муж сказал, что в этот самый момент ее мать сидит на лавочке во дворе частного пансионата-клиники с собранной сумкой. Она не понимает, почему сидит на лавочке, плачет, потому что замерзла, но к ней никто не подходит. Потому что он прекратил за нее платить. И не заплатит больше ни копейки, если Катя сейчас же не соберет чемодан и не уедет с ним.
Она уехала. Он избил ее сразу, едва они вошли в квартиру. Избил до такого состояния, что сам отвез в больницу. Где она вообще перестала соображать. Ей давали лекарства – сломанный нос болел. Она думала, что ей дают обезболивающие. И покорно принимала таблетки. Муж приезжал и говорил, что с мамой все хорошо. Даже показал фотографию с датой – мама смотрит в холле телевизор. Там же, в больнице, которая тоже была частной, муж ее изнасиловал. Ей было уже все равно – будет ребенок, не будет. Но случился выкидыш. Кроме «чистки», по живому, без анастезии, на чем настоял муж, она ничего не помнила. Даже того, как уезжала из больницы – не помнила. И почему муж ее вдруг отпустил – не понимала. Но он больше не объявлялся. Может, нашел себе другую жертву. Может, Катя, ставшая буквально за год старой, больной и лысой, стала ему неинтересна.
Ильич не верил в рассказы тети Вали. А Галя верила. И Настя верила.
Катя стала местной сумасшедшей, которую никто не обижал. Катя-дурочка. Наоборот, заботились как могли. Подкармливали, проведывали. Некогда хороший дом превращался в обветшалую конуру. Ильич, когда делал косметический ремонт в номерах, отправлял рабочих и к Кате. Обои в домике переклеили, подкрасили, что могли. Но крыша нужна была новая, а на это денег не было.
Катин дом несколько раз пытались отобрать. Риелторы думали, что чокнутая дамочка подпишет все, что ни подсунешь. Место-то уникальное – пусть небольшой участок, а с собственным спуском к морю. Вид такой, что закачаешься. Да если эту халупу снести и дом нормальный поставить, ему цены не будет. Риелторы появлялись на Катином пороге регулярно. Но они не учли того, что хозяйка была не просто чокнутой, а буйной. Если к ней приходили незнакомцы, Катя начинала кричать, да так громко, что на набережной было слышно. И все немедленно сбегались. Риелторы быстро улепетывали – одна только тетя Валя, которая тут же начинала вопить, материться и чуть ли не в драку кидаться, чего стоила. А еще Настя, оравшая так, что заглушала Катю. И Ильич с Галей, которые тут же вызывали милицию. А милиция у нас кто? Милиция у нас дядя Саша. Дядя Саша был еще одним другом детства Ильича, как Артур. Он сам на вызов не приезжал, а присылал кого-нибудь из молодых да наглых, предварительно объяснив, на чьей стороне должен быть закон.
Катю с домом оберегали как могли. Тетя Валя была уверена, что риелторов подсылает бывший муж. Ильич считал, что и своих дельцов хватает.
Теперь про кипарисы. Как уж они проросли через кадку, утопленную в бетоне, на голову Кате, непонятно. Но на ее участке образовалось настоящее чудо природы – в разросшемся саду сверху висели корни. Ильич предлагал Кате корни обрезать, кипарисы пересадить, но она наотрез отказалась. Ей нравились корни, которые свисали, считай, с ее потолка. Она ими любовалась. Только переживала, что непонятно, как за ними ухаживать. За теми корнями, которые в земле, она знала как, а за теми, что свисают, не знала.
Только новая напасть случилась. По ночам, когда шторм или дождь, кипарисы скрипеть начинали. Громко, протяжно, будто стонали и плакали. Или вели нескончаемый диалог на своем языке.
Славик от этих звуков просыпался и начинал кричать. Он просыпался, забивался в угол кровати и кричал на одной ноте, будто подпевая, нет, подвывая, кипарисам. Катя тоже в ответ кричала. Как эхо. Это был утробный крик. Катя кричала о своем. Это было страшно. Настолько страшно, когда не знаешь, что делать и чем помочь. Ничего не помогало. Ильич успокаивал Славика, Галя спускалась к Кате и сидела с ней. Но они – мальчик и женщина – продолжали кричать. Будто в их легкие закачали столько воздуха, что он никогда не закончится. Срывались и Ильич, и Галя. Ильич кричал на сына, хотя не должен был, знал, что не должен, но ничего не мог с собой поделать.
– Замолчи немедленно! Замолчи!
Славик застывал на мгновение, замолкал, и принимался кричать с новой силой. Галя же заваривала самый сильный отвар из трав и заставляла Катю пить:
– Пей немедленно! Пей!
Отдыхающие просыпались, волновались, даже те, которые не жаловались, после двух бессонных ночей подходили к измученной Гале или шли сразу к Ильичу.
Галя извинялась, объясняла, про кипарисы рассказывала. Многие понимали, сочувствовали. Но были и те, кто скандалил: они отдыхать приехали, а не в чужое положение входить. Пусть и в тяжелое положение. Но не свое ведь, чужое, совершенно посторонних людей.
Тех, кто жаловался, Ильич в другие номера переселял – которые подороже, с лучшим видом. Один сезон был совсем тяжелым – штормило постоянно, кипарисы скрипели, Славик кричал, Катя кричала. Ильич с Галей совсем сон потеряли. Отдыхающие обещали жаловаться куда надо и грозились вызвать милицию, а те пусть этих сумасшедших в психушку везут. Разве можно таких людей с нормальными держать рядом? Нервы тогда у всех были расшатаны – отдыхающие жаловались на головные боли, на то, что отпуск пропадает из-за погоды. И в том, что лил дождь и штормило, тоже были виноваты Ильич и Галя, Катя со Славиком.
Очередной ночью, когда Славик закричал, Ильич не выдержал. Он вытащил сонного сына из постели, нацепил на него куртку и повел к кипарисам. Славик кричал уже в полный голос, упирался, кусался. Ему было страшно идти к деревьям ночью. Он хотел домой, в кровать. Но Ильич тащил сына на террасу. Он подвел вопившего и извивавшегося Славика к кипарисам и начал рассказывать про корни, которые сейчас внизу. Они спустились к Кате, и Славик, задрав голову, смотрел на корни. И Катя смотрела, будто впервые увидела, что у нее с потолка свисает. Ильич говорил, что кипарисы – их защитники, их дома, пансионата. Что, пока стоят кипарисы, с ними ничего не случится.
После этого Славик решил, что кипарисы живые, как почти настоящие рыцари. Он стал с ними разговаривать, они ему отвечали скрипом. Славик больше не кричал, а сидел в своей кровати и общался с деревьями. Рассказывал про новый самокат, который папа подарил. Или про то, что завтра не будет есть котлету. А Ильич носил рубашку с длинным рукавом – прикрывал укусы, которые оставил сын. Глубокие, саднящие.
Славик… боль и счастье. Проклятие и наказание. Единственный смысл в жизни. Сын. Сейчас детей по именам зовут, да еще имена такие заковыристые. Радомир или Святозар, Богдан, Милена, Владлена, Святослава. А раньше по-простому было. «Сын, иди сюда», «Сын, пошли, пора». Или доча. «Доча» – красиво звучит. Мягко, нежно. Особенно если говор, как у тети Вали, – у нее «доча» нежно получается, на конце «я» слышится. Иногда даже совсем мягко – «дося».
Ильич мечтал о дочери. Но об этой мечте никому не говорил. Даже самого себя перебивал в мыслях и пугался – какая доча? У него сын. «Сын, тихо, тихо, все хорошо». Дочь у него тоже, можно сказать, была – Светка. Светка и Славик. Дети. Роднее не бывает.
Славика все знали, конечно, не обижали, не дергали. А какой интерес? Дурачок.
Как называлась эта болезнь, которая у Славика, Ильич не знал и не хотел знать. Врачи разное говорили. Сколько этих врачей было? Да не перечесть. И никто не помог. Ильич думал: как же так? Время другое, все другое, а лечить болезни не научились. Другие хвори лечили, вакцины изобрели всякие, а такую, как у Славика, нет. Даже не знают, как она называется. Говорят, синдром. Надо в Москву ехать, чтобы точно узнать, или в Европу. Но Ильич не мог в Москву. А уж в Европу – тем более. Славику и ДЦП ставили, и аутизм, и много чего еще. Синдромы с такими заковыристыми фамилиями называли, что не запомнишь. Детей научились в пробирке выращивать, а готовых, которые уже родились, – вылечить не могут. Ильич себя одергивал – ведь помогли. И лекарства выписывали, и процедуры. Если бы не делали, может, и хуже все было. Кто знает? Никто не знает. Как никто не знает, отчего такие дети, как Славик, рождаются. Наследственность? Инфекция? Кто виноват? Мать? Отец? Или никто не виноват? Врачи так и не смогли объяснить Ильичу – за что? За что именно ему? Почему не кому-нибудь другому? Почему у других здоровые дети, а у него Славик? Нет, Ильич не роптал на судьбу, он бы Славика на сто здоровых детей не променял. Но за что Славику такое? За что ему такая судьба? Ведь ничего плохого не сделал.
Он один раз спросил у Гали: почему не нашли способ лечения? Разве мало таких детей? Разве нельзя сделать операцию и все вылечить? Изобрести таблетку?
Галя тогда со Светкой мучилась. Светка перекупалась, и у нее разболелось ухо. Галя уже и масло подсолнечное ей капала, и перекисью водорода промывала, и компрессы из водки делала. А Светка оглохла, ничего не слышала правым ухом, и говорила, что болит.
Галя ее к врачу потащила, хотя Светка орала дурниной. Галя боялась, что воспаление среднего уха или еще что-нибудь. Но оказалось – пробка. Банальная серная пробка. От перекиси пробка размякла, и стало еще хуже. Время изменилось, люди в космос летали, а Светке выковыривали пробку длинным стержнем с намотанной на конец ваткой. И Светка кричала, что ей прямо в голову этой палкой лезут. Вырывалась. Ей уже и промывали, под давлением большим шприцом вливая воду в ухо, но пробка все равно сидела. Светка ходила к лору уже три раза.
– Ну вот как? – чуть не плакала Галя. – Обычная серная пробка, а вытащить не могут. И лекарства не придумали.
Здесь, в поселке, было другое отношение даже к болезням. Никто не знал про ротавирус, говорили, что «гриппует». Хилых и бледных называли «золотушными». Главным лекарством от всего оставалась марганцовка. Ее и внутрь, и наружно. Отравление? Вода теплая и два пальца в рот. И ромашка, конечно же, которая тоже – и внутрь, и наружно. Галя очень верила в ромашку – она и дезинфицирует, и жар снимает. От всего. За лекарствами для Славика ведь нужно было ездить в город, там стоять в очереди в аптеку, потом возвращаться в поселок и снова ждать, когда нужный препарат закажут, и опять ехать забирать. А ромашка на каждом углу – и сушеная, и с цветками, и россыпью. Галя мыла голову отваром из ромашки, Славику делала ромашковые ванны, Светка та вообще была ромашкой пропитана с ног до головы. Но толку от ромашки было мало. Славик не выздоровел, Галя стала повязывать платок на голову – волосы выпадали. Она красилась, подводила брови, а потом плюнула. И ходила седая. Тетя Валя ее подстригла прямо на террасе, и для Ильича новый Галин вид стал шоком. Она оказалась совершенно седая, с коротким ежиком. На фоне новой прически резко проступили глаза, вполлица, губы, скулы. Отдыхающие из числа женщин считали Галину Васильевну очень современной. Обнаружилось, что седой ежик вошел в моду. Галину Васильевну сравнивали со знаменитой актрисой. Галя улыбалась. И всем советовала покупать ромашку. Ее и в чай, и в ванну можно. Как и лаванду. Женщины записывали рецепты и скупали травы.
– Зачем ты их обманываешь? – спросил как-то Ильич.
– А что, я им правду должна говорить? Что у меня седина в тридцать лет появилась? Что я не знала, как лысину прикрыть? Или ты хочешь, чтобы меня жалели? Нет, я буду седой, лысой, но модной. Людям нужно во что-то верить. Хотя бы в ромашку.
Ильич кивал. Да, ему тоже хотелось во что-нибудь верить. Но он уже не мог, не был способен. Закончился запас веры. Когда Славик был маленький, он и в монастыри ездил, и молился святым. Просил за Славика. У всех просил, но никто не дал его сыну здоровья. Потом Ильич стал просить о терпении, о том, чтобы избавиться от ненависти, злобы. Дать душе покой. Но и этого не дождался, хотя молился усердно. Потом враз плюнул и забыл про веру. Иконы отдал Федору, который выставил их в закутке около стойки администратора. Ильич, когда увидел, хотел рот открыть, но промолчал. Людям нравилось. Федор же повесил портрет президента на видном месте, на том самом, где раньше висел Ленин, потом Сталин, потом два вождя рядом, затем Хрущев и Брежнев. Место на стене было, так сказать, затертое, со следами от рамки. Обои сколько раз переклеивали, а то место все равно темнее оказывалось. Ильич думал, что старые портреты вождей Федор давно выбросил, а оказалось, он их в свою комнату унес и сложил в ящик. Это ему Настя рассказала, которая не удержалась и проверила ящики.
– Коммуняка вшивый, – брезгливо сказала Настя, – они у него все лежат, стопочкой, в нижнем ящике. Да что б у него руки отсохли!
– Как же твои принципы? – ухмыльнулся Ильич. – Ты же в ящики на лазишь.
– Так я для безопасности. Чтоб знать, что у этого извращенца на уме.
Настя Федора ненавидела. Все думали, что за тот удар в челюсть, и только Галя знала, что Настя ненависть испытывала по политическим мотивам. У нее дед с бабкой в лагерях умерли. И даже неизвестно, где похоронены. Настя тогда, кстати, портреты забрала и сожгла. И Федор даже не пикнул. Будто и не было никаких портретов. Побоялся рот открывать. Настя все ждала, что он хавальник откроет, но Федор молчал как рыба. Настя так и не высказала ему все, что собиралась, что давно отрепетировала и проговорила про себя. Федор не дал ей такой возможности. А вместо этого, паскуда, повесил новые портреты. Чтобы прикрыть зияющее темное место – нынешних вождей. Тут же и иконы выставил. И как в воду глядел. Отдыхающим нравилось. Прямо посмотришь – портрет президента, направо взгляд кинешь – иконы. На любой вкус: тут и Богоматерь, и Николай-угодник, и Семистрельная, которая плохих людей от дома отваживает, и Кирилл с Мефодием – как раз для творческих людей. Ведь их пансионат – Дом творчества, а не абы что. Федя собирался еще лампадку повесить, но Галина Васильевна запретила. Требование пожарной безопасности. Федор же чутко ловил предпочтения клиентов – дамочкам, бабулечкам занавесочку приоткрывал, чтобы иконы виднее были. Когда мужчина солидный появлялся, без шеи, с часами дорогими, – Федор пыль с портрета президента начинал тряпочкой стирать. Потом к его коллекции добавился «глаз от сглаза». Федор, конечно, не знал, что оберег называется «глаз Фатимы», что он мусульманский, но знал, что он турецкий. А в Турции многие отдыхающие были, так что им понравится. И опять, зараза, оказался прав. «Глаз» прижился, соседствуя с иконами и портретами. Президента Федору показалось мало, и он еще местного губернатора вывесил, но пониже, под президентом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: